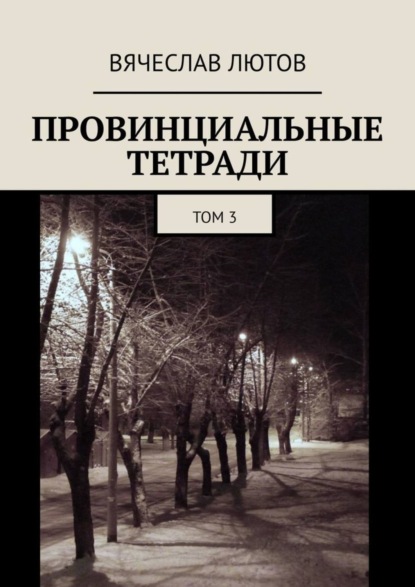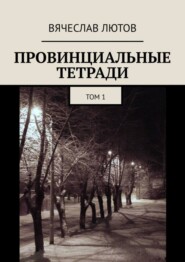По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Провинциальные тетради. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Старчество становилось ключевым в восприятии образа Сковороды-странника.
«На Украине, – рассказывает А. Хиджеу в „Сковородинском Идиотиконе“ (В. Эрн назовет эти разъяснения „драгоценными“), – ведется особый, почти наследственный цех нищих, называемых старцами. Они пользуются большим уважением у простого народа и сами отличают себя от обыкновенных нищих-дедов и Жебраков. Это люди бывалые, носители народной мудрости. Я был свидетелем спора двух старцев. Я старце, а ты-то какой-нибудь найденыш… И теперь поселяне часто ссылаются на суд старцев, и в некотором отношении их можно бы назвать бродящими судьями Мира».
Со Сковородой это суждение соотносимо, но ничуть не до конца, чтобы ставить итоговую точку.
«Отсекаю от себя потребности лишние и ненужные, самолюбивую и гордую волю мою смиряю и бичую послушанием, и достигаю тем, с помощью божьей, свободы духа, а с нею и веселья духовного». И эти наставления старца Зосимы соотносимы со Сковородой лишь отчасти. А «старцы» Достоевского, «берущие вашу душу и вашу волю в свою душу и свою волю» – не соотносимы вовсе.
Мемуаристы рассказывают, что Сковорода имел большое влияние на людей, мог укротить даже крайне вспыльчивый нрав. В своих письмах, если с кем успеет подружиться, он жаждет беседы, наставляет, утешает и вдохновенно проповедует Христа. И не только в письмах. «Он был жарким собеседником и красноречивым оратором, – пишет В. Эрн, – умел незаметно входить в разговор, пересыпая речь шутками, брать нить беседы в свои руки и делать ее неожиданно значительной и памятной».
«Простой народ был ему ближе, ибо из него он вышел и к нему возвратился», – продолжает Эрн и цитирует философа: «Барская умность, будто простой народ есть черный, кажется мне смешной, как умность тех названных философов, что земля есть мертвая. Как мертвой матери рождать живых детей? И как из утробы черного народа вылупились белые господа?»
О простонародном образе жизни пишет и Ф. Лубяновский: «Страсть его была – жить в крестьянском кругу. Любил он переходить из слободы в слободу, из села в село, из хутора в хутор. Везде и всеми был встречаем и провожаем с любовью, у всех он был свой. Хозяин дома, когда он входил, прежде всего, всматривался, не нужно ли было что-либо поправить, почистить, переменить в его одеянии и обуви: все то немедленно и делалось. Жители тех особенно слобод, где он чаще и долее оставался, любили его, как родного. Он отдавал им все, что имел: не золото и серебро, а добрые советы, увещевания, наставления, дружеские попреки за несогласия, неправду, нетрезвость, недобросовестность».
И все же странствующим «народным философом» Сковорода не стал. Непонимание и сам чувствовал. «О мне говорят, что я ношу свечу перед слепцами, а без очей не узреть светоча; на меня острят, что я звонарь для глухих, а глухому не до гулу: пускай острят. Они знают свое дело, а я знаю мое и делаю мое, как знаю, и моя тяга мне успокоение…»
В начале Х1Х века станет популярным еще одно суждение о Сковороде. Словно подводя итог досужим разговорам, товарищ И. Срезневского Орест Ивецкий выступит в 1831 году в «Телескопе» с письмом по поводу Сковороды: «Он есть отпечаток настоящего малороссийского юродивого, которых не столь удачные осколки можно встретить в этой стороне довольно часто. Однако ж он нередко терял и этот свой первообраз и доходил состояния, в коем, по пословице, ум за разум заходит…»
Все переплелось, перемешалось в Сковороде – и это к лучшему.
Сковорода вошел в русское старчество, но старцем не стал. В нем год за годом укреплялся аскет, но не укреплялся инок. Он был народен и вместе с тем странен для народа. Он ходил нищим странствующим мудрецом, но в «мандрованных дядьках», которых так много было на Украине, не растворился. Мир похвалил его за сумасшествие – благо, что не поймал.
Кто он, старец Григорий Варсава?..
Сковородинские тени
«Что такое жизнь? – спрашивает Сковорода. – Это странствие: прокладываю себе дорогу, не зная, куда идти, зачем идти». Много позднее Лев Шестов повторит, что человек должен научиться жить в неизвестности. Именно неизвестность была и остается прерогативой свободного человека.
Сковорода был удивительно свободен – и в жизни, и в мысли. Эту свободу ставят во главу угла творчества философа и В. Эрн, и В. Зеньковский, и целый ряд исследователей. Эта свобода, и, прежде всего, свобода религиозная, не может не пленять, не завораживать, не будоражить воображение биографа, чья жизнь течет между книжным шкафом и экраном монитора на рабочем столе. «Дух свободы имеет в Сковороде характер религиозного императива, а не буйства недоверчивого ума», – пишет В. Зеньковский и называет его свободным церковным мыслителем, который всегда чувствовал себя членом церкви, но твердо хранил свободу мысли. «Всякое стеснение ищущей мысли казалось ему отпадением от церковной правды».
«Философствование во Христе» в пику «мудрствований мертвых сердец» будет воспринято более чем неоднозначно. Со «спящими на Библии церемонистами», упрекавшими Сковороду в ереси и богохульстве, – дело понятное и уже нам известное. Их не могло устраивать, что философ не принял обычных «условных церковных схем», какие нивелируют пытливые умы, а вместо того, «прикрывшись Библией», принялся мыслить по-живому, что у многих перехватывало дыхание от его резких суждений.
Совершенно иной разговор о тех, кто если и не назвал Григория Варсаву «расколоучителем», то как минимум записал его в сектанты.
В 1912 году в Петербурге вышло собрание сочинений Сковороды, вышло в весьма примечательной серии: «Материалы к истории и изучению русского сектантства и старообрядчества». Этим подводился итог достаточно распространенному мнению о сектантской душе Сковороды.
В. Бонч-Бруевич, готовивший это издание, сообщал в одном из писем (цит. по Ю. Барабашу): «Когда я занимался изучением древнего сектантства в России и очень подробно изучал все устные и письменные записи духоборцев, то я натолкнулся на целый ряд положений, которые были взяты из сочинений Сковороды. Кроме того, видно, что у них сохранилась память о старчике Грише, который был „полного разума“. Имейте в виду, чтобы получить от духоборцев наименование „полный разум“, надо быть особо выдающимся человеком. За всю долгую историю они этим именем называли всего пять человек».
«Имя Сковороды у молокан считается чуть ли не Апостольским», – констатирует другой исследователь, Ф. Ливанов. «Общего у Григория Сковороды с духоборами было так много, что, в известном смысле, его можно назвать богословом духоборчества как религиозного движения», – продолжают традицию некоторые современные исследователи и даже (надеемся на грамматическую ошибку) мифологически переводят восприятие в фактографию: «Именно Григорию Сковороде духоборы доверили составить изложение своего вероисповедания».
Точек пересечения философского творчества Сковороды с сектантской идеологией, действительно, много. «Духовные христиане» видели в Сковороде своего провозвестника по целому ряду причин, и отождествления идей здесь принципиальны.
Духоборам, как пишет о том Н. Бердяев, была чрезвычайно близка идея отрицания человека как «самобытного бытия». Все человеческое есть лишь оболочка, скорлупа от ореха, тень. «Сей всяк человек ложный: сень, тьма, пар, тлень, сон», – цитируют они Сковороду. Им ненавистен «содомский человек из плоти и крови и будто из брения и грязи горшок». Что есть человек? – спрашивают они и возвращаются за ответом к Сковороде, выбирая, собственно, лишь то, что хотят услышать:
Он «шевелится и красуется, как обезьяна; болтает и велеречит, как римская Цитерия; чувствует, как кумир; мудрствует, как идол; осязает, как преисподний крот; щупает, как безокий; гордится, как безумный; изменяется, как луна; беспокоится, как сатана; паучится, как паучина; алчен, как пес; жаден, как водная болезнь; лукав, как змий; ласков, как крокодил; постоянен, как море; верный, как ветер; надежный, как лед; рассыпчив, как прах; исчезает, как сон…»
«Не мешкай на содомских улицах», – учил Сковорода, и духовные христиане уходили из культурной и социальной жизни, бежали от грехов цивилизации в поисках божественной красоты. Прав Н. Бердяев – Русь странническая может легко превратиться в Русь сектантскую.
«Одно только для тебя нужное, одно же только и благое – Бог», – говорил Сковорода. Бога в свое сердце вовсе селить не нужно – он и без того изначально в нем живет. Посмотри внутрь себя и увидишь. И это тоже импонировало «духовным христианам». Они всегда будут благодарны старцу Григорию за то, что тот Богом их не «пугал», не видел в нем карающего меча, не шел по византийской традиции за Спасом-Ярое-Око, отдав предпочтение глубоко человеческой сыновней любви к Нему.
Современные духоборческие «апокрифы» примечательны. «Григорий Сковорода благовествовал людям Божие благоволение и счастье иметь Бога Царем своего сердца. Он и сам живым примером, своею жизнью являл народу счастливого человека, человека молитвы, веры и светлого разума… Те места, по которым прошел этот великий Божий человек, станут в свое время очагом евангельского пробуждения…»
Источник неиссякаемого счастья видели в Боге и хлысты, которые, в противовес духоборам, искали не столько правду, сколько радость и блаженство. «Эпикурейский Христос» был для них подлинным открытием. Глубокий мистический смысл видели они и в ахтырском происшествии Сковороды, в его «счастливой экзальтации в честь избавления от киевской чумы».
Сковорода и своим учением, и своей жизнью словно удовлетворял «глубокую мистическую жажду, заложенную в русском сектантстве». И хотя Бердяев имя Сковороды не называет, но его дыхание подкожно чувствует. Поэтому и рассказывает, как несколько лет жил в деревне в Харьковской губернии, где по соседству какие только секты не расположились. «Я много беседовал с этими людьми, и некоторые духовные типы запомнились мне навеки. Знаю твердо, что Россия немыслима без этих людей, что без них душа России лишилась бы самых характерных, существенных и ценных своих черт».
Харьковская губерния – «сковородинское пристанище и подорожье» – по духоборам, места святые…
«Бесцерковный аскетизм был пробуждением мечтательности и воображения, – пишет вслед своим заметкам о Сковороде Г. Флоровский. – Развивается какая-то нездоровая искательность духа, мистическое любопытство. Вторая половина XVIII века вообще отмечена каким-то мечтательным и мистическим подъемом в народных массах. Это было время развития или возникновения всех основных русских сект: хлыстовства, скопчества, духоборства, молоканства».
Сковороду можно зачислить и в народные массы, и в интеллектуальную элиту своего времени, которую все же меньше всего нужно судить по одежке. Стоит ли удивляться, что откровения Григория Варсавы, пусть и опосредованно, были причислены еще к одной «святой когорте» – к масонству, к масонскому опыту, который дал «много новых и острых впечатлений рождавшейся тогда русской интеллигенции».
В екатерининскую эпоху масонство вслед за просвещением широкими волнами разливалось по России, которая словно устала от святоотеческих откровений и церковной мистики и теперь ждала обновления из «частных» и «светских» рук. Не будь Сковорода столь простонароден и нетитулован, его бы, философа-мистика и философа-странника, записали бы в апологеты русского масонства. К тому же выходцы из Киевской академии в масонах были – достаточно вспомнить Семена Гамалею, «совесть московского масонства», близкого друга Н. И. Новикова.
Повторимся: масоном Григорий Варсава не был. Сегодня это признают все биографы и не видят смысла оспаривать этот факт. Наряду с этим по страницам исследований разбросана и так любимая исторической беллетристикой лукавая условная фактография – Сковорода, возможно, читал Вейгеля, Якоба Беме, Сен-Мартена. Затем эта «возможность» перерастает в уверенность – не мог не читать. Благо, сам путешествовал по Европе; благо, в России появилось множество книг европейских мистиков. Тот же Гамалея перевел 22 тома сочинений Я. Беме.
Как бы то ни было, Сковорода о масонах слышал, но ничуть не проникся ими – закрытость и обособленничество, «игра в религиозный культ» не притягивала, не отвечала его образу мысли. М. Ковалинский совершенно однозначно разводит Сковороду с мартинистами по разные стороны. Он вспоминал, как однажды разговор зашел о сектах.
– Всякая секта, – говорил Сковорода, – пахнет собственностью, а где собственномудрие, там нет главной цели и главной мудрости. Я не знаю мартынистов, ни понятий, ни учений их; если они обособляются в обрядах и правилах, чтобы казаться мудрыми, то я не хочу их знать; если же они мудрствуют по простоте сердца своего, чтобы стать полезными гражданами общества, то я почитаю их; но для этого им не следует обособляться… Закон природы, как самый нужный для человеческого блага, есть всеобщий, и он запечатлен в сердце каждого, дан всякому существу, даже последней песчинке.
«Человек обособляется? Да и бог с ним, пусть обособляется!» – скажет позднее в сердцах Ф. М. Достоевский. Обособленничество – как сухая ветка на дереве: не нужны ей ни листья, ни солнце, ни благодатный дождь, лишь скрипит на ветру – скоро ли падать?
Сковорода, без тени сомнения отождествивший масонов с хлыстами и любой другой сектой, завершит разговор жестко и емко:
– Любовь к ближнему не имеет никакой секты: на ней висят все пророки и весь закон…
Григорий Варсава в том мистическом и религиозном горниле был со всеми, но ни с кем не остался. «Свой среди чужих, чужой среди своих» – таким его и воспринимали. Но это и показательно. По сути, столь значительное разночтение философского творчества Сковороды есть свидетельство «хаоса рождения» русской мысли. В этом хаосе не предсказуемы ни повороты, ни итоги, ни идеи, ни слова; в нем невозможно добиться однозначности, ясности, логики, системы; оно не ищет сторонников и последователей, предоставляя каждому двигаться куда глаза глядят: по бездорожью. Но кто бы стал в сковородинскую эпоху мостить философскую улицу – дай бог камни собрать.
Мистицизм Сковороды вкупе с его простонародным прагматизмом – лишь всполохи зари, где все невесомо, зыбко. И мысли щелкают, как в счетчике Гейгера – не проявляясь четко, но возбуждая. И уже так ощутимо, что молодая русская мысль – тот лев, которому осталась лишь секунда до пробуждения…
Сны странника
В 1788 году Сковорода подарил М. Ковалинскому еще одну книжечку: «Брань архистратига Михаила с сатаною: Легко ли быть благим?» Он писал ее пять лет назад, вначале в Буркулаках, затем в Бабаях. Подписался по «заочному знакомству» – старец Варсава Даниил Мейнгард. Сделал и важное признание: «Сие видение я, старец Даниил Варсава, воистину видел. Написал же в просвещение невеждам блаженным оным: «Дай премудрому повод…»
Видел Григорий Варсава, как сатана на крыльях летучей мыши поднялся к пределам атмосферы, окинул ночным глазом лучезарный дом и возопил:
– К чему сей дом сотворен?
Ему навстречу вышел со златыми крыльями архистратиг, «над вождями вождь», Михаил:
– О враг божий! Почто ты здесь? И что тебе здесь?
А у сатаны-то и других дел не было, кроме одного вопроса – того самого, что лежит в основе метафизики Сковороды. Говорил сатана, что, однако, претрудно быть жителем небесным, не каждому дано пройти испытания, человеку в силу его характера не бывать в чертогах небесных. Оттого-то опустошены небеса – благим быть трудно. И как бы мы ни старались, не пролезть нам в это царство.
Слышал Григорий Варсава, как сатана пел свои блудогласные песенки:
Жесток и горек труд
Быть жителем небес.
Весел и гладок путь —
Жить, как живет весь мир.
«На Украине, – рассказывает А. Хиджеу в „Сковородинском Идиотиконе“ (В. Эрн назовет эти разъяснения „драгоценными“), – ведется особый, почти наследственный цех нищих, называемых старцами. Они пользуются большим уважением у простого народа и сами отличают себя от обыкновенных нищих-дедов и Жебраков. Это люди бывалые, носители народной мудрости. Я был свидетелем спора двух старцев. Я старце, а ты-то какой-нибудь найденыш… И теперь поселяне часто ссылаются на суд старцев, и в некотором отношении их можно бы назвать бродящими судьями Мира».
Со Сковородой это суждение соотносимо, но ничуть не до конца, чтобы ставить итоговую точку.
«Отсекаю от себя потребности лишние и ненужные, самолюбивую и гордую волю мою смиряю и бичую послушанием, и достигаю тем, с помощью божьей, свободы духа, а с нею и веселья духовного». И эти наставления старца Зосимы соотносимы со Сковородой лишь отчасти. А «старцы» Достоевского, «берущие вашу душу и вашу волю в свою душу и свою волю» – не соотносимы вовсе.
Мемуаристы рассказывают, что Сковорода имел большое влияние на людей, мог укротить даже крайне вспыльчивый нрав. В своих письмах, если с кем успеет подружиться, он жаждет беседы, наставляет, утешает и вдохновенно проповедует Христа. И не только в письмах. «Он был жарким собеседником и красноречивым оратором, – пишет В. Эрн, – умел незаметно входить в разговор, пересыпая речь шутками, брать нить беседы в свои руки и делать ее неожиданно значительной и памятной».
«Простой народ был ему ближе, ибо из него он вышел и к нему возвратился», – продолжает Эрн и цитирует философа: «Барская умность, будто простой народ есть черный, кажется мне смешной, как умность тех названных философов, что земля есть мертвая. Как мертвой матери рождать живых детей? И как из утробы черного народа вылупились белые господа?»
О простонародном образе жизни пишет и Ф. Лубяновский: «Страсть его была – жить в крестьянском кругу. Любил он переходить из слободы в слободу, из села в село, из хутора в хутор. Везде и всеми был встречаем и провожаем с любовью, у всех он был свой. Хозяин дома, когда он входил, прежде всего, всматривался, не нужно ли было что-либо поправить, почистить, переменить в его одеянии и обуви: все то немедленно и делалось. Жители тех особенно слобод, где он чаще и долее оставался, любили его, как родного. Он отдавал им все, что имел: не золото и серебро, а добрые советы, увещевания, наставления, дружеские попреки за несогласия, неправду, нетрезвость, недобросовестность».
И все же странствующим «народным философом» Сковорода не стал. Непонимание и сам чувствовал. «О мне говорят, что я ношу свечу перед слепцами, а без очей не узреть светоча; на меня острят, что я звонарь для глухих, а глухому не до гулу: пускай острят. Они знают свое дело, а я знаю мое и делаю мое, как знаю, и моя тяга мне успокоение…»
В начале Х1Х века станет популярным еще одно суждение о Сковороде. Словно подводя итог досужим разговорам, товарищ И. Срезневского Орест Ивецкий выступит в 1831 году в «Телескопе» с письмом по поводу Сковороды: «Он есть отпечаток настоящего малороссийского юродивого, которых не столь удачные осколки можно встретить в этой стороне довольно часто. Однако ж он нередко терял и этот свой первообраз и доходил состояния, в коем, по пословице, ум за разум заходит…»
Все переплелось, перемешалось в Сковороде – и это к лучшему.
Сковорода вошел в русское старчество, но старцем не стал. В нем год за годом укреплялся аскет, но не укреплялся инок. Он был народен и вместе с тем странен для народа. Он ходил нищим странствующим мудрецом, но в «мандрованных дядьках», которых так много было на Украине, не растворился. Мир похвалил его за сумасшествие – благо, что не поймал.
Кто он, старец Григорий Варсава?..
Сковородинские тени
«Что такое жизнь? – спрашивает Сковорода. – Это странствие: прокладываю себе дорогу, не зная, куда идти, зачем идти». Много позднее Лев Шестов повторит, что человек должен научиться жить в неизвестности. Именно неизвестность была и остается прерогативой свободного человека.
Сковорода был удивительно свободен – и в жизни, и в мысли. Эту свободу ставят во главу угла творчества философа и В. Эрн, и В. Зеньковский, и целый ряд исследователей. Эта свобода, и, прежде всего, свобода религиозная, не может не пленять, не завораживать, не будоражить воображение биографа, чья жизнь течет между книжным шкафом и экраном монитора на рабочем столе. «Дух свободы имеет в Сковороде характер религиозного императива, а не буйства недоверчивого ума», – пишет В. Зеньковский и называет его свободным церковным мыслителем, который всегда чувствовал себя членом церкви, но твердо хранил свободу мысли. «Всякое стеснение ищущей мысли казалось ему отпадением от церковной правды».
«Философствование во Христе» в пику «мудрствований мертвых сердец» будет воспринято более чем неоднозначно. Со «спящими на Библии церемонистами», упрекавшими Сковороду в ереси и богохульстве, – дело понятное и уже нам известное. Их не могло устраивать, что философ не принял обычных «условных церковных схем», какие нивелируют пытливые умы, а вместо того, «прикрывшись Библией», принялся мыслить по-живому, что у многих перехватывало дыхание от его резких суждений.
Совершенно иной разговор о тех, кто если и не назвал Григория Варсаву «расколоучителем», то как минимум записал его в сектанты.
В 1912 году в Петербурге вышло собрание сочинений Сковороды, вышло в весьма примечательной серии: «Материалы к истории и изучению русского сектантства и старообрядчества». Этим подводился итог достаточно распространенному мнению о сектантской душе Сковороды.
В. Бонч-Бруевич, готовивший это издание, сообщал в одном из писем (цит. по Ю. Барабашу): «Когда я занимался изучением древнего сектантства в России и очень подробно изучал все устные и письменные записи духоборцев, то я натолкнулся на целый ряд положений, которые были взяты из сочинений Сковороды. Кроме того, видно, что у них сохранилась память о старчике Грише, который был „полного разума“. Имейте в виду, чтобы получить от духоборцев наименование „полный разум“, надо быть особо выдающимся человеком. За всю долгую историю они этим именем называли всего пять человек».
«Имя Сковороды у молокан считается чуть ли не Апостольским», – констатирует другой исследователь, Ф. Ливанов. «Общего у Григория Сковороды с духоборами было так много, что, в известном смысле, его можно назвать богословом духоборчества как религиозного движения», – продолжают традицию некоторые современные исследователи и даже (надеемся на грамматическую ошибку) мифологически переводят восприятие в фактографию: «Именно Григорию Сковороде духоборы доверили составить изложение своего вероисповедания».
Точек пересечения философского творчества Сковороды с сектантской идеологией, действительно, много. «Духовные христиане» видели в Сковороде своего провозвестника по целому ряду причин, и отождествления идей здесь принципиальны.
Духоборам, как пишет о том Н. Бердяев, была чрезвычайно близка идея отрицания человека как «самобытного бытия». Все человеческое есть лишь оболочка, скорлупа от ореха, тень. «Сей всяк человек ложный: сень, тьма, пар, тлень, сон», – цитируют они Сковороду. Им ненавистен «содомский человек из плоти и крови и будто из брения и грязи горшок». Что есть человек? – спрашивают они и возвращаются за ответом к Сковороде, выбирая, собственно, лишь то, что хотят услышать:
Он «шевелится и красуется, как обезьяна; болтает и велеречит, как римская Цитерия; чувствует, как кумир; мудрствует, как идол; осязает, как преисподний крот; щупает, как безокий; гордится, как безумный; изменяется, как луна; беспокоится, как сатана; паучится, как паучина; алчен, как пес; жаден, как водная болезнь; лукав, как змий; ласков, как крокодил; постоянен, как море; верный, как ветер; надежный, как лед; рассыпчив, как прах; исчезает, как сон…»
«Не мешкай на содомских улицах», – учил Сковорода, и духовные христиане уходили из культурной и социальной жизни, бежали от грехов цивилизации в поисках божественной красоты. Прав Н. Бердяев – Русь странническая может легко превратиться в Русь сектантскую.
«Одно только для тебя нужное, одно же только и благое – Бог», – говорил Сковорода. Бога в свое сердце вовсе селить не нужно – он и без того изначально в нем живет. Посмотри внутрь себя и увидишь. И это тоже импонировало «духовным христианам». Они всегда будут благодарны старцу Григорию за то, что тот Богом их не «пугал», не видел в нем карающего меча, не шел по византийской традиции за Спасом-Ярое-Око, отдав предпочтение глубоко человеческой сыновней любви к Нему.
Современные духоборческие «апокрифы» примечательны. «Григорий Сковорода благовествовал людям Божие благоволение и счастье иметь Бога Царем своего сердца. Он и сам живым примером, своею жизнью являл народу счастливого человека, человека молитвы, веры и светлого разума… Те места, по которым прошел этот великий Божий человек, станут в свое время очагом евангельского пробуждения…»
Источник неиссякаемого счастья видели в Боге и хлысты, которые, в противовес духоборам, искали не столько правду, сколько радость и блаженство. «Эпикурейский Христос» был для них подлинным открытием. Глубокий мистический смысл видели они и в ахтырском происшествии Сковороды, в его «счастливой экзальтации в честь избавления от киевской чумы».
Сковорода и своим учением, и своей жизнью словно удовлетворял «глубокую мистическую жажду, заложенную в русском сектантстве». И хотя Бердяев имя Сковороды не называет, но его дыхание подкожно чувствует. Поэтому и рассказывает, как несколько лет жил в деревне в Харьковской губернии, где по соседству какие только секты не расположились. «Я много беседовал с этими людьми, и некоторые духовные типы запомнились мне навеки. Знаю твердо, что Россия немыслима без этих людей, что без них душа России лишилась бы самых характерных, существенных и ценных своих черт».
Харьковская губерния – «сковородинское пристанище и подорожье» – по духоборам, места святые…
«Бесцерковный аскетизм был пробуждением мечтательности и воображения, – пишет вслед своим заметкам о Сковороде Г. Флоровский. – Развивается какая-то нездоровая искательность духа, мистическое любопытство. Вторая половина XVIII века вообще отмечена каким-то мечтательным и мистическим подъемом в народных массах. Это было время развития или возникновения всех основных русских сект: хлыстовства, скопчества, духоборства, молоканства».
Сковороду можно зачислить и в народные массы, и в интеллектуальную элиту своего времени, которую все же меньше всего нужно судить по одежке. Стоит ли удивляться, что откровения Григория Варсавы, пусть и опосредованно, были причислены еще к одной «святой когорте» – к масонству, к масонскому опыту, который дал «много новых и острых впечатлений рождавшейся тогда русской интеллигенции».
В екатерининскую эпоху масонство вслед за просвещением широкими волнами разливалось по России, которая словно устала от святоотеческих откровений и церковной мистики и теперь ждала обновления из «частных» и «светских» рук. Не будь Сковорода столь простонароден и нетитулован, его бы, философа-мистика и философа-странника, записали бы в апологеты русского масонства. К тому же выходцы из Киевской академии в масонах были – достаточно вспомнить Семена Гамалею, «совесть московского масонства», близкого друга Н. И. Новикова.
Повторимся: масоном Григорий Варсава не был. Сегодня это признают все биографы и не видят смысла оспаривать этот факт. Наряду с этим по страницам исследований разбросана и так любимая исторической беллетристикой лукавая условная фактография – Сковорода, возможно, читал Вейгеля, Якоба Беме, Сен-Мартена. Затем эта «возможность» перерастает в уверенность – не мог не читать. Благо, сам путешествовал по Европе; благо, в России появилось множество книг европейских мистиков. Тот же Гамалея перевел 22 тома сочинений Я. Беме.
Как бы то ни было, Сковорода о масонах слышал, но ничуть не проникся ими – закрытость и обособленничество, «игра в религиозный культ» не притягивала, не отвечала его образу мысли. М. Ковалинский совершенно однозначно разводит Сковороду с мартинистами по разные стороны. Он вспоминал, как однажды разговор зашел о сектах.
– Всякая секта, – говорил Сковорода, – пахнет собственностью, а где собственномудрие, там нет главной цели и главной мудрости. Я не знаю мартынистов, ни понятий, ни учений их; если они обособляются в обрядах и правилах, чтобы казаться мудрыми, то я не хочу их знать; если же они мудрствуют по простоте сердца своего, чтобы стать полезными гражданами общества, то я почитаю их; но для этого им не следует обособляться… Закон природы, как самый нужный для человеческого блага, есть всеобщий, и он запечатлен в сердце каждого, дан всякому существу, даже последней песчинке.
«Человек обособляется? Да и бог с ним, пусть обособляется!» – скажет позднее в сердцах Ф. М. Достоевский. Обособленничество – как сухая ветка на дереве: не нужны ей ни листья, ни солнце, ни благодатный дождь, лишь скрипит на ветру – скоро ли падать?
Сковорода, без тени сомнения отождествивший масонов с хлыстами и любой другой сектой, завершит разговор жестко и емко:
– Любовь к ближнему не имеет никакой секты: на ней висят все пророки и весь закон…
Григорий Варсава в том мистическом и религиозном горниле был со всеми, но ни с кем не остался. «Свой среди чужих, чужой среди своих» – таким его и воспринимали. Но это и показательно. По сути, столь значительное разночтение философского творчества Сковороды есть свидетельство «хаоса рождения» русской мысли. В этом хаосе не предсказуемы ни повороты, ни итоги, ни идеи, ни слова; в нем невозможно добиться однозначности, ясности, логики, системы; оно не ищет сторонников и последователей, предоставляя каждому двигаться куда глаза глядят: по бездорожью. Но кто бы стал в сковородинскую эпоху мостить философскую улицу – дай бог камни собрать.
Мистицизм Сковороды вкупе с его простонародным прагматизмом – лишь всполохи зари, где все невесомо, зыбко. И мысли щелкают, как в счетчике Гейгера – не проявляясь четко, но возбуждая. И уже так ощутимо, что молодая русская мысль – тот лев, которому осталась лишь секунда до пробуждения…
Сны странника
В 1788 году Сковорода подарил М. Ковалинскому еще одну книжечку: «Брань архистратига Михаила с сатаною: Легко ли быть благим?» Он писал ее пять лет назад, вначале в Буркулаках, затем в Бабаях. Подписался по «заочному знакомству» – старец Варсава Даниил Мейнгард. Сделал и важное признание: «Сие видение я, старец Даниил Варсава, воистину видел. Написал же в просвещение невеждам блаженным оным: «Дай премудрому повод…»
Видел Григорий Варсава, как сатана на крыльях летучей мыши поднялся к пределам атмосферы, окинул ночным глазом лучезарный дом и возопил:
– К чему сей дом сотворен?
Ему навстречу вышел со златыми крыльями архистратиг, «над вождями вождь», Михаил:
– О враг божий! Почто ты здесь? И что тебе здесь?
А у сатаны-то и других дел не было, кроме одного вопроса – того самого, что лежит в основе метафизики Сковороды. Говорил сатана, что, однако, претрудно быть жителем небесным, не каждому дано пройти испытания, человеку в силу его характера не бывать в чертогах небесных. Оттого-то опустошены небеса – благим быть трудно. И как бы мы ни старались, не пролезть нам в это царство.
Слышал Григорий Варсава, как сатана пел свои блудогласные песенки:
Жесток и горек труд
Быть жителем небес.
Весел и гладок путь —
Жить, как живет весь мир.