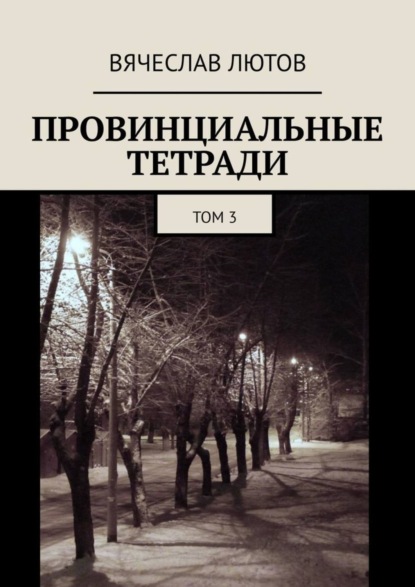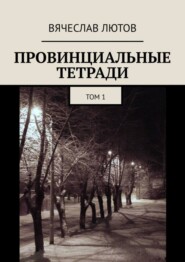По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Провинциальные тетради. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Посреди вас стоит, его же не видите» – так говорит Сковорода и о божественном свете, и о подлинной красоте, и о святой истине. «Не по лицу судите, но по сердцу… Всяк есть то, чье сердце в нем: волчье сердце есть истинный волк, хотя лицо человечье». Как отважиться узнать, какое сердце в тебе?
«Нарцисса образ говорит: „Познай себя!“ – пишет Сковорода. – Будто бы сказал: хочешь ли быть доволен собой и влюбиться в самого себя? Познай же себя! Испытай себя крепко…»
Сковорода не знает, но ясно чувствует итог этого испытания. В темной воде – яркие и чистые всполохи света, отражение солнца, что внутри человека. «Вы есть свет миру» – повторяет он библейскую истину. Что же еще искать человеку в себе, как не солнце? «В солнце положи селение свое», стань источником, что источает животворящие струи и лучи божества.
«О милая моя милость, Нарцисс! Ныне из ползучего червища восстал ты пернатым мотыльком. Ныне воскрес ты!..»
«Происшествие в Гужвинском», чудо, явленное в темной воде Нарциссу, будут иметь глубокие последствия. И не только для Сковороды – для него подобная метаморфоза была неизбежно логичной – для русской философии, для русского философского Ренессанса начала ХХ века.
И, в частности, для Ивана Ильина.
«Созерцание – это такое наблюдение, которое вчувствуется в самую природу вещей, – пишет И. Ильин. – Созерцание возносит человеческую душу и делает ее окрыленной».
«Когда человеческая любовь избирает себе такое жизненное созерцание, которым действительно стоит жить и за которое стоит умереть, то она становится духовной любовью. Если же духовная любовь овладевает человеческим воображением, наполняет его своею силою и своим светом и указывает ему достойный предмет, то человек отдается сердечному созерцанию: в нем образуется новый, чудесный орган духа, орган творчества, познания и жизни, который возносит и окрыляет его».
«В человеческой жизни есть такие реальности, которые воспринимаются, открываются и обогащают дух только через сердечное созерцание. Замечательно, что это именно те предметы, которые определяют смысл человеческой жизни… Духовно воспринять Бога и утвердить свою веру в Него можно только при помощи сердечного созерцания… Вера возникает от вчувствования в Совершенство…»
Это, собственно, и есть главный завет сковородинского Нарцисса.
Григорий Варсава, конечно, еще не предполагает духовный катастрофизм новой нашей эпохи, хотя и в его время драматических событий хватало в изобилии. Ему пока неясна, хотя он по-своему и чувствует ее, жгучая тоска русских философов о том, что философия ушла в отвлеченную пустоту, теология стала «симпатизировать» безбожию, поэзия поблекла в пустозвонстве, беллетристика устремилась к непристойности, государственность с упоением всковырнула революционные и тоталитарные струпья, наука ушла на службу жестоким войнам.
«Человечество не заметило главного: омертвения своего сердца и своей духовности и обессиления своего творческого акта», – всматривается Иван Ильин в бетонные стены новой цивилизации. И даже чистые источники не утоляют духовной жажды. Мы глядимся в божественную воду, как в зеркало, когда бреемся по утрам. Сковородинский Нарцисс воскресает в солнечных лучах, мы же умираем в сумерках на берегу, занятые своими морщинами, мешками под глазами, прыщами, формой носа и цветом кожи. Путь к духовной очевидности мы по традиции называем идеалистическим и не чувствуем печали ни Сковороды, ни Ильина – печали о современном человеке, который слеп при зрячих глазах…
«Ты и сам себя не видишь, не разумеешь и не понимаешь сам себя. А не разуметь самого себя, слово в слово, одно и то же есть, как потерять самого себя. Если в твоем доме сокровище зарыто, а ты про него не знаешь, слово в слово, как бы его не бывало. Познать самого себя, и сыскав самого себя, и найти человека – все сие одно значит».
Так наставлял своих собеседников в философском споре один из героев «Нарцисса» – Друг. Сковорода не мудрствовал в выборе жанра – беседа была ему более всего по душе, да и традиция философского диалога восходила к его любимым античным авторам.
Собеседники Сковороды просты, хотя беседовать с ними приходится по всем правилам полемики. Есть и два «вольных слушателя» – некие Навал и Сомнас, – которые не включаются в разговор, но ловят каждое слово, подобно опытным чекистам. Беседуют эти «книгочеи-наставники», как пишет Ю. Барабаш, где-то за кадром, но при этом не дают Сковороде забыть харьковские впечатления. Слушают внимательно – слышат ли?
«Есть тело земляное и есть тело духовное, тайное, сокровенное, вечное. Так для чего же не быть двоим сердцам? Видел ты и любил болвана и идола в твоем теле, а не истинное тело, во Христе сокровенное. Ты любил сам себя, то есть прах твой, а не сокровенную божью истину в тебе, которой ты никогда не видел, не почитал ее за бытие…»
«Все то идол, что видимое. Все то тьма и смерть, что преходящее, – продолжал Сковорода. – Видишь одно только скотское в тебе тело. Не видишь тела духовного… /Забыл ли/, что орешина сущая состоит не в корке его, но в зерне, под коркой сокровенном?..»
Нужно особое зрение, Око Духа, «чтобы ты мог истину в пустоши рассмотреть. А старое твое око никуда не годится. Пустое твое око смотрит во всем на пустошь…»
«Мудрого очи его – во главе его, очи безумных – на концах земли». Не раз повторит Сковорода эту библейскую истину. На концах земли света нет, и над всем куражатся призрачные и холодные тени. Оттого тень и становится у Сковороды особым философским критерием, понятием:
– Я ведь не тень, – обижается собеседник Лука. – Я твердый корпус имею.
– Ты-то тень и есть, тьма и тело. Ты сон истинного твоего человека. Ты риза, а не тело. Ты привидение, а он в тебе истина. Ты-то ничто, а он в тебе существо. Ты грязь, а он твоя красота…
Видит человек тень дуба, но не видит самого дерева – таков упрек Сковороды своим собеседникам. Видит человек части – пяту и хвост, – но не видит целого. «Так почему, – спрашивает Сковорода к примеру, – если видишь на старой в Ахтырке церкви кирпич и известь, а плана ее не понимаешь, думаешь – усмотрел ли и познал ее?»
«Не внешняя наша плоть, но наша мысль – то главный наш человек», – произносит он любимые свои слова и просит понять их, уразуметь, сердцем принять. «Кто старое сердце отбросил, тот сделался новым человеком. Горе сердцам затверделым…»
Так поучал приятелей своих Григорий Варсава. Оставил и для «ревнивых слушателей» крамолу: «Никогда еще не бывала видимость истиной, а истина – видимостью. А ведь истинный человек и Бог есть то же…»
Тема вышла незавершенной – сковородинское тождество истинного человека и Бога обернулось многоточием. Сразу же после написания «Нарцисса» Сковорода садится за новую работу – «Симфония, нареченная книга Асхань, о познании самого себя».
«Судьба этого сочинения таит в себе нечто неразгаданное, – пишет Ю. Барабаш. – В конце жизни Сковорода вспоминал, что в свое время, „ожелчившись“, сжег рукопись». К счастью, у его друга и главного адресата поздних писем Якова Правицкого список «Асхани» сохранился. «Я удивился, – пишет Сковорода Ковалинскому в сентябре 1790 года, – увидев у него моего „Наркисса“ и „Симфонию“. А я не только апографы, но и автографы раздал, раздарил, расточил…»
Чудесное воскрешение «Асхани», равно как и самого библейского имени, хотя и ничем, к слову, не примечательного, делает формулу «познай себя» своеобразным категорическим императивом Сковороды. Его гносеология уступает место религиозной этике, теория познания – практическому прямому целенаправленному действию. «Познай себя» становится библейским заветом, отступить от которого истинный человек не может.
«От познания самого себя входит в душу свет ведения божия», – говорит философ, тем самым определяя познание, «узнание себя» единственным условием обретения божественного света, «философским символом веры и любви к Богу». «А ты одно старайся: узнать себя, – наставляет он собеседника. – Как ты сделаешься местом богу, не слушая нетленного гласа его? Как можешь слышать, не узнав бога? Как узнаешь, не сыскав его? Как же сыщешь, не распознав самого себя?»
Можно оговориться вслед за биографом: в понятие «бог» Сковорода вкладывает не традиционный, а пантеистический смысл, отождествляя бога с «невидимой натурой». Да, сковородинский бог «в дереве истинным деревом, в траве – травою, в музыке – музыкой, в доме – домом, в теле нашем из плоти новым есть телом и точностью или главой его. Он всячиной есть во всем…» Но разве это принципиально что-то меняет?
«Не прекрасный Нарцисс, не хиромантик и не анатомик, но увидевший внутри себя главный машины пункт – царствие божие, – сей узнал себя, нашедши в мертвом живое, во тьме свет, как алмаз в грязи…»
Пожалуй, никто, кроме Сковороды, не определял гносеологию так жестко и так не по-философски – она есть главный и единственный «метод истинной жизни».
Киевский сон
Его странствия продолжаются. Тихое Гужвинское сменится в 1770 году уединенной Гусинкой – имением харьковских дворян Сошальских. Младший из братьев, как рассказывает М. Ковалинский, просил Сковороду пожить у него, предлагая ему спокойное пребывание в его селе.
«Сковорода поехал с ним в Гусинку, – пишет биограф, – полюбил место и хозяев и поселился недалеко от села на их пасеке. Тишина, безмятежность, свобода пробудили в нем чувства тех драгоценных удовольствий, которые опытом известны одним мудрым и целомудренным».
О своем настроении Сковорода подробно напишет другу:
«Многие говорят: что делает в жизни Сковорода? Чем забавляется? Я же в Господе радуюсь, веселюсь в Боге, спасителе моем! Радость есть цвет человеческой жизни, она есть главная точка всех подвигов; все дела каждой жизни текут сюда… Всякому своя радость мила. Я же поглумлюсь, позабавлюсь в заповедях вечного. Все исходит в скуку и омерзение, кроме этой забавы, и пути ее – пути вечные…»
В 1770 году – по божественному провидению, по божественному произволу – в жизни Сковороды произойдет важное событие, значение которого вряд ли можно определить на бумаге.
Все начнется с того, что один из Сошальских уговорит-таки Григория Варсаву поехать с ним в Киев – к родственнику Юстину, который был тогда начальником Китаевой пустыни, что возле Киева. Здесь и поселился Сковорода, три месяца проведя с удовольствием.
«Но вдруг, – рассказывает М. Ковалинский, – приметил в себе внутреннее непонятное движение духа, побуждавшее его уехать из Киева. Следуя этому по своему обыкновению, он просит Юстина отпустить его в Харьков. Тот уговаривает его остаться. Григорий непреклонно настаивает, чтобы отпустили его. Юстин заклинает его всей святостью не оставлять его. Тот, видя нерасположенность Юстина к отпуску его, пошел в Киев к приятелю просить, чтобы его отправили на Украину».
В Киеве сковорода мечется, не находит себе места, подобно зверю, предчувствующему землетрясение. Дух настоятельно велит ему удалиться из города.
«Между тем, пошел он на Подол, нижний город в Киеве, – продолжает биограф. – Вдруг, остановясь, почувствовал он обонянием такой сильный запах мертвых тел, что перенести не смог и тотчас повернул домой. Дух убедительнее погнал его из города, и он к неудовольствию отца Юстина, но с благословения духа на следующий же день отправился в путь».
Через две недели Григорий Варсава приедет в Ахтырку-городок и остановится в монастыре у своего приятеля архимандрита Венедикта. Добродушие и уединение успокоили Сковороду, что он счел киевское происшествие неприятным сном. Пока в монастыре не получили страшное известие – «в Киеве оказалась моровая язва, о которой в бытность там Сковороды не было и слышно, и что город уже заперт…»
Это известие потрясло, ошеломило Сковороду, взбудоражило его душу и дало иное зрение. Ковалинский отмечал: «До тех пор сердце его почитало Бога, как раб, теперь же возлюбило, как друг».
Киевское предзнаменование, предупреждение и счастливое избавление обернулись через несколько дней своеобразным приступом религиозной экзальтации. Сковорода сам рассказывал:
«Так как мысли мои и чувства души моей распалены благоговением и благодарностью к Богу, я встал рано и пошел в сад прогуляться. Первое ощущение, которое я осязал моим сердцем, была некая раскованность, свобода, бодрость, надежда на исполнение. Введя в это состояние духа свою волю и все желания мои, почувствовал я внутри себя чрезвычайное движение, которое преисполнило меня непонятной силой.
Мгновенно некая сладость наполнила мою душу, от которой все внутри меня загорелось огнем, и, казалось, что в жилах моих совершался пламенный круговорот. Я начал не ходить, но бегать, как бы носимый неким восхищением, не чувствуя ни рук, ни ног, но будто бы весь я состоял из огненного состава, который летал в просторах кругобытия.
Весь мир исчез передо мною; только чувство любви, благонадежности, спокойствия, вечности оживляло существо мое. Из очей моих хлынули ручьями слезы и разлили некую умиленную гармонию по всему моему телу. Я проник в себя, ощутил, как сыновней любви уверение и с того часа посвятил себя сыновнему повиновению духу божьему».
«Двадцать четыре года спустя, – пишет М. Ковалинский, – пересказал он это своему другу с особенным чувством, давая понять, сколь близок к нам Бог, сколько помышляет он о нас, хранит нас, как наседка птенцов своих, под крыльями своими их собрав, если мы только не удаляемся от него в мрак желаний нашей растленной воли…»
В поисках счастья
Русские философы так часто писали о трагедии, что невольно начинаешь говорить об определенном трагическом мировосприятии, ставшем одной из черт нашей философии, ставшем ее особым дыханием, голосом, драматическим жестом. Произрастая из реалий современности, личного опыта и откровения, вздрагивая от малейших неурядиц и зачарованно вглядываясь в глобальные катастрофы, прячась от мира возле церковных стен, онтологически впитывая все и всех, русская философия наполнена трагизмом и любовью, абстракцией и бытовыми «печными вьюшками». По философским системам топчутся литературные герои и человеческие судьбы, которые, по определению, неизбежно драматичны. И трудно отличить философа от поэта и поэта от философа – подобного отождествления мы не найдем в «чистой» классической философии с ее немецким порядком и массивностью дубовой лавки и пивной кружки. Антропоцентризм русских философских исканий начинался с трагических поворотов судьбы и, совершив жизненный круг, возвращался обратно. Из земли вышли – в землю войдем.