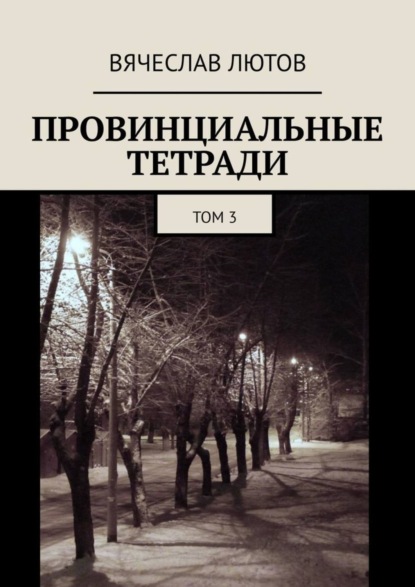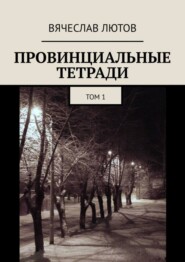По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Провинциальные тетради. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ты избегаешь того, кто от пьянства становится безумным, но не остерегаешься чревоугодника, который своим примером призывает тебя к несвоевременному и неумеренному мясоедению и винопитию. Зачем же ты избегаешь реки, но к источнику приближаешься? Боишься пожара, но ищешь огня? Проклинаешь уголья, но ходишь по искрам и горящей золе?..»
И хочется, и колется – таков в просторечии глубинный парадокс мировосприятия, выложенного Сковородой в письмах перед юным Ковалинским в виде различных искушений, неизбежно преследующих юность, ибо «никогда не спит этот лев – дьявол».
«Что же тебя грызет? – спрашивает он у молодого друга. – Не то ли, что не принимаешь участия в попойках с обжорами? Что в палацах князей не играешь в кости? Что не танцуешь? Если все эти жалкие вещи восхищают тебя, ты еще не мудрый, а один из многих… Собери внутри себя все свои мысли и в себе самом ищи истинные блага…»
Летом 1764 года, провожая Михаила не столько на каникулы, сколько «на желание» его уехать и «отведать дворцовой жизни», Сковорода писал ему: «Итак, поезжай и вооружись не только против скуки, сколько против мира, блюди чистоту своей души. Ведь ты попадаешь из дыма в огонь. До сих пор ты только слышал о мире, теперь же ты его увидишь… Научись быть сильным…»
Он просил его писать и печалился, что не сможет дать спасительного совета, и утешался, что «в некоторых случаях мудрому надлежит принимать во внимание необходимость».
А необходимость была, отчасти, такова, что и самому Сковороде приходилось сражаться с «бесом скуки», с внутренним вихрем, который кружит душу, как сухую листву, как легкое перо. Однажды – в 1767 году – эта безответная тоска прорвется на бумагу: Сковорода запишет все на латыни, словно открещиваясь от нее и вместе с тем оставляя ее, как данность, которая «везде по всем разлилась»:
«Не удовлетворяет тебя твое учение? И в тебе сидит тот же демон. Мне не нравится, что я недостаточно музыкален? Что меня мало хвалят? Что терплю удары и поношения? Что я уже стар? Недоволен, что мне что-нибудь не по душе? Раздражаюсь из-за бесчестного поведения врагов и порицателей? Не они, но тот же бес мне причиняет это беспокойство: что такое смерть, бедность, болезни? Что такое, когда являешься посмешищем для всех? Когда надежда на будущее ослабевает? Разве душа не страдает от этого самым жалким образом, как бы поднятая дуновением ветра и гонимая вихрем?
Вот, душа моя, как я понимаю скуку…»
Первая книга
Есть много причин остановиться подробно именно на письмах Сковороды Ковалинскому, датированных 1762—1764 годами. Хотя в них еще нет философской стройности – этого требовать от Сковороды пока преждевременно; как и все письма, они фрагментарны, они живут «по поводу», который зачастую утерян. И все же…
Знать, что именно ты хочешь сказать и кому ты хочешь это сказать, – главное знание человека, положившего перед собой чистый лист бумаги. Можно складывать стихи для себя (что, собственно, Сковорода и делал и лишь однажды, в 1754 году, выступил с публичным «Рассуждением о поэзии») с надеждой, что их прочтут и другие. В этом смысле, письмо – это выход человека вовне, к другому, который уже не волею случая, а наверняка прочтет твое слово и вряд ли простит за слово фальшивое.
«Когда я встречаюсь со своими музами, – писал Сковорода Ковалинскому в 1762 году, – то никогда не бывает так, чтобы я мысленно тебя не видел и мне не казалось бы, что мы вместе наслаждались очарованием муз». Ковалинский, обычный студент, вдруг в одночасье стал уникальным адресатом Сковороды. Более того, философ не просто принялся писать другу письма – он в буквальном смысле обрушил на Ковалинского поток писем, словно его до этого что-то сдерживало, не давало высказать прямо, не прибегая к символике стиха, тех мыслей, что накопились в нем за сорок лет.
Ковалинский, «образ дражайшего Михайло», любимый «муравей и кузнечик», стал для Сковороды своеобразным и очень мощным катализатором философского творчества. Через тридцать лет, посвящая своему другу «Потоп змиин», Сковорода словно подытожит свой «творческий метод»:
«Древний монах Эриратус все свои забавные писульки преподносил в дар другу и господину своему патриарху Софронию, а я приношу тебе. Ты мне в друге господин, а в господине – друг…»
Ковалинский оказался особым условием творчества – и в этом сочетании, невидимом сотворчестве была заложена своя особая сила: ощущение, что твой философский мир заполнен и востребован. Не было пустой бездны, в которую рожденные сердцем слова падали бы, как предвыборные листовки в невесть какие почтовые ящики. Зато был Михаил, который рядом, который слышит, к которому можно приехать в гости.
Цельность философского творчества Сковороды, цельность его «пишущей личности», может быть, во многом и произросла из единичности адресата – «настоящими моими друзьями не могут быть многие…» Произросла из самого принципа – обязательности адресата, словно конкретный и ясный человек способен удержать на привязи своего имени отвлеченные философские образы. Практически все произведения Сковороды имеют посвящения, имеют за строчками живого человека, который, собственно, и стоял перед глазами, пока рука водила пером по бумаге…
Есть еще один важный момент, который мы не замечаем в силу сложившихся стереотипов и который позволяет взглянуть на письма Сковороды к Ковалинскому иначе, чем принято.
Стереотип в том, что на письма мы смотрим как на приложение к творчеству. Поэтому письма занимают последние тома в собраниях сочинений или последние страницы в отдельной книге. Это биографический источник, разъяснение причин, штрихи к эпохе и обстоятельствам, частная жизнь частного человека, не предназначенная для широкой публики. Такое отношение к письмам совершенно справедливо и спорить здесь не о чем.
Но как у любого правила есть исключения, так и письма Сковороды к Ковалинскому не укладываются в привычное прочтение уже хотя бы в силу того, что написаны на одном дыхании (два года из семидесяти лет – это действительно мгновение), написаны потоком и менее всего посвящены личным обстоятельствам («скрытный» Сковорода ничего не расскажет о «происшествиях» своей жизни). Более того, не могу отказаться от ощущения, что эти письма появились бы, даже если бы Сковорода никогда и не встретил Ковалинского; к этому времени философский поиск Сковороды как бы достиг своей «точки кипения» – и оставалось лишь подставить чашки, чтобы разлить обжигающую воду.
На письма Сковороды стоит смотреть как на отдельную книгу, завершенную тогда, когда сорокалетний Сковорода высказал своему другу все свои любимые мысли.
На письма Сковороды стоит смотреть как на первую книгу. Поэтому каждый раз и указывается на даты, на время. Письмами в полной мере можно открывать сочинения Сковороды. Это дебют, первый вкус философского слова. Все идеи, высказанные Ковалинскому как в письмах, так и в устных беседах (Ковалинский в биографии философа перескажет многие разговоры), суть зерна, из которых произросли сочинения Сковороды. Да, в письмах темы сковородинских трактатов и диалогов только обозначены пунктиром, бегло, по поводу, по настроению – но все же обозначены.
Обозначено и главное – гносеология Сковороды:
«Сковорода, – рассказывал Ковалинский, – стараясь побудить мыслящую силу друга своего обучаться не только в книгах, но больше в самом себе, часто в беседах с ним разделял человека на двое: на внутреннего и внешнего. Называл одну половину – вечной, а другую – временной, одну – небесной, другую – земной, одну – духовной, другую – душевной, одну – сотворенной, а другую – творческой. Таким разделением в одном и том же человеке усматривал он два ума, две воли, два закона, две жизни…
Первого по божественному роду его именовал царем, Господом, началом, а второго же по земному бытию – рабом, орудием, подножием, тварью. И первому по преимуществу его надлежало управлять и главенствовать, другому же следовало повиноваться, служить…
Он говорил с сильным убеждением истины: «…О, семя благословенное, человек истинный, божий! Вся видимость есть подножье его. Сам он в себе носит царство, причисляя к небесам всякого просвещаемого им и восполняя своим всеисполнением, сев по правую руку отца небесного навеки…»
Чтобы исполнить это, нужно было лишь посмотреть на человека и познать его…
Гужвинский гносис
В свои 44 года Григорий Сковорода снова на перепутье. Так бы мог написать биограф, который и сам каждый раз оказывается на перекрестке обычных житейских дорог, ищет денег до зарплаты, подрабатывает невесть какими заказами, чутко прислушивается к разговорам в свой адрес, ждет счастливого поворота судьбы – вот, вот сейчас, может быть, она и вынесет его в «счастливый дивный мир богатых и знаменитых». И между делом, как требует того писательское приличие, выискивает в себе редкие созвучия с русским Сократом. Но не замечает подчас и не хочет принять, что идти обычной дорогой у Сковороды уже не было ни желания, ни жизненной необходимости. Последняя попытка удержаться на полосе обыденности уже завершилась харьковским скандалом; да и сама попытка, к слову, вышла лишь по инерции.
В Сковороде произросла совсем иная идея.
У В. Эрна есть хорошее сопоставление Сковороды с Декартом. Как истинный философ Сковорода с жизнью своей проделал то, что хотел проделать с мыслью своей Декарт. Поставив во главу угла сомнение, Декарт методично избавлял свою мысль от господства традиции и предрассудков, вычищал ее от всего наносного, живя одной страстью: оставить мысль наедине с собой.
«Сковорода отважился на нечто более решительное и грандиозное, – пишет В. Эрн. – Он отверг всякое готовое содержание жизни, а не только мысли, и, усомнившись во всех путях, решил прежде всего остаться с самим собою, овладеть своим „я“ и создать себе такую жизнь, которая бы всецело вытекала из чистой идеи его внутреннего существа».
Эрн, правда, следом оговорится – само по себе такое решение было «малосодержательно и малозначительно». Действительно, каждый из нас время от времени принимается судорожно искать согласие между своим внутренним миром и внешним его выражением. Мы настраиваем себя – каждый по своему камертону; крутим душу, как колки у гитары, – лишь бы добиться чистого звучания. Но постоянное напряжение струны нам оказывается, увы, недоступным, и вскоре инструмент оказывается где-то на антресолях, лак на барабане сереет от пыли, а струна дребезжит неимоверно.
Это и отличает нас от «старчика Григория Варсавы». «Сковорода обладал огромной цельностью и непоколебимой последовательностью воли», – пишет биограф. После Харькова начинается не просто тридцатилетний период его странствования. Начинается целая эпоха всматривания, вглядывания в себя, начинается эпоха «философии жизни» в ее непосредственном и цельном практическом выражении. Собственно, начинается «эпоха Сковороды», которая надолго останется в народной памяти, в легендах и рассказах о замечательном и удивительном старце, исходившем вдоль и поперек Украину и Малороссию.
В 1769 году, простившись с Харьковским коллегиумом, Сковорода находит уединение на хуторе Гужвинском, что в десяти верстах от Харькова. Гужвинское принадлежало слобожанским помещикам Земборским, которых Сковорода «любил за добродушие их». «Судя по всему, это были люди не совсем заурядные, – пишет Ю. Барабаш. – Отставной прапорщик Василий Земборский приглашает оклеветанного философа под свой кров, хотя не может не понимать, что ссориться с его гонителями небезопасно. Его сын Иван, учась в коллегиуме, посещал „крамольные“ лекции Сковороды, что наверняка не могло понравиться начальству».
Впрочем, этот страх уже тогда можно было назвать несущественным. Гораздо сильнее была боязнь потерять удивительного человека, не приютить мудрого старца (которому еще и полвека-то не исполнилось) и тем самым отказаться от благодати, от Света.
Уединение Сковороды в Гужвинском вышло замечательным. Место это, как рассказывал М. Ковалинский, было покрыто угрюмым лесом, который спускался к небольшой речке Лопань. Здесь, среди леса, находилась глухая пасека с заброшенной хижиной. Сковорода вообще любил лесные пасеки – и лучшего ему подарка от Земборских не требовалось.
Здесь, «предавшись на свободе размышлениям и оградив свое спокойствие духом безмолвия, бесстрастием, бессуетностью, написал он первое свое сочинение в виде книги, названное им «Нарцисс, или познай себя».
«Это мой сын первородный», – скажет позднее Сковорода. «Это чистый источник его будущих сочинений», – скажет биограф. «Это начало его оригинальной гносеологии», – скажет историк философии. И все трое повторят с Соломоновой притчи: «Разума праведник – себе друг будет…»
О гносеологии Сковороды стоит сказать отдельно – уже хотя бы в свете известного спора о русской философии, которой отказывали и в оригинальности, и даже в самом существовании именно по причине отсутствия в ней стройной гносеологической системы – теории познания. Против критиков и оппонентов очень точно высказался Василий Зеньковский, заметив, что у философии, собственно, не один, а несколько корней, и все ее своеобразие этим и определяется. Поэтому ставить во главу угла теорию познания как признак «зрелости» философии совершенно не обязательно и, может быть, отчасти ошибочно.
«В русской философии есть некоторые своеобразные особенности, которые вообще отодвигают теорию познания на второстепенное место, – пишет В. Зеньковский, предваряя свою „Историю русской философии“. – Русские философы склонны к онтологизму… познание признается лишь частью и функцией нашего действования в мире, оно есть некое событие в процессе жизни, а потому его смысл, задачи и его возможности определяются из общего отношения нашего к миру».
Теория познания открывает философию Сковороды; но открывает в том смысле, как является лишь первой ступенькой, первым опытом. Философ сохранит свои основные гносеологические идеи в других сочинениях практически без изменений, разве лишь корректируя детали. Формально, мы не найдем у Сковороды попытки свести теорию познания даже к мало-мальской системе; да и его ключевые идеи по этой теме можно пересчитать по пальцам одной руки.
Дело принципиально в другом.
Сковорода и не собирался посвящать себя теории познания – это удел немецкой классической философии. Гносеология явилась для него важнейшим жизненным актом, действием, событием, без которого невозможен дальнейший путь человека – путь в глубину. Это событие совершенно ясно вычертило Сковороды свою «систему координат»: есть «познание, скользящее по поверхности», и «познание в Боге».
В. Зеньковский назовет это «происшествие» Сковороды гносеологическим дуализмом, одной из основ его философии. «Нужно везде видеть двое» – такова «философская молитва» Григория Варсавы. «Если Дух Божий вошел в сердце, если очи наши озарены духом истины, то все теперь видишь по двое, вся тварь у тебя разделена на две части… Когда ты новым оком узрел Бога, тогда все в нем увидишь, как в зеркале, – все то, что всегда было в Нем, но чего ты не видел никогда…»
Отражаясь в воде
На берегу маленькой лесной речки в гужвинском уединении произошло еще одно исключительное событие. Сковорода нашел для своей идеи образ, образ, который в нашем привычном и склонном к стереотипам понимании меньше всего соотносится с гносеологией. Ему приснился Нарцисс, пришедший из «Метаморфоз» Овидия, – прекрасный юноша, влюбившийся в свое отражение в чистой воде.
Словно ножом варвара, Сковорода полоснет по полотну Караваджо, узаконившего то прочтение Нарцисса, что со временем станет нарицательным, войдет в обиход психоаналитиков, символизируя самовлюбленность и крайние формы индивидуализма. Сковорода словно забудет о мертвенном и оцепенелом исходе судьбы сына речного бога, о прекрасных, но холодных и надменных цветах, названных этим именем. Мысль Сковороды станет для Нарцисса животворящей силой – и это окажется, пожалуй, единственным «нестандартным» восприятием древнего античного мифа.
Всматриваясь в чистую гладь источника, Нарцисс увидел совсем иное отражение…
– Скажи мне, прекрасный Нарцисс, в водах твоих что узрел ты? Явился ли кто тебе?
– На водах моих всплыло елисейское железо. Узрел я на полотне протекающей моей плоти нерукотворный образ, «который есть сияние славы отчей». «Положи меня как печать на мышцу твою». Отражается на нас свет…»