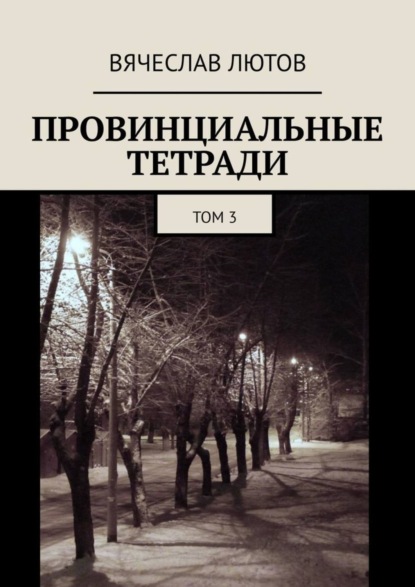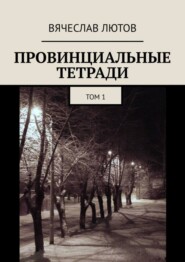По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Провинциальные тетради. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Под несчастливой звездой пусть ничего не родится.
Господь не ошибается. Кто просит всем сердцем, тот уже имеет.
Блаженство есть там, где обуздание страстей, а не их отсутствие.
Ты же следи за душой, как в ней зерно прорастает,
И не бойся полоть, если взошли сорняки.
Зачем сажать оливу, которая не приносит плодов?
Зачем вкушать тело Христова, оставаясь самим собой?
Что поделаешь? Такой я человек: для меня нет ничего приятнее, чем мелочи.
Каким несчастным животным является человек, которому в этом киммерийском мраке мирской глупости не блеснула искра света Христа.
Для мудреца станет раем любой берег,
Любое место, любая земля и любой дом.
Природа прекрасного такова, что чем больше на пути к нему встречается препятствий, тем больше к нему влечет.
Войди внутрь себя, мимо иди, плоть и кровь свою пройдя, весь тлен и дрянь – вот тебе спасительная пасха.
Кто скоро прилепляется к новому мнению, тот скоро и отпадает. Не будь ветрен. Испытай опасно всякое слово.
Все беседуют обо всем, но не все знатоки. Бредут за владеющей модой, как овцы. А человек понимает путь свой.
Долго сам учись, если хочешь учить других.
Тогда ж зачинается цыпленок, когда портится яйцо.
По мосту-мосточку с народом ходи,
По разуму ж его себя не веди,
За жуком ползая, влезешь сам в глину.
Лучше веселье без богатства, чем богатство без веселья.
Нет ничего смешнее, чем умный вид с пустым потрохом.
Библия есть источник. Народная в ней история и плотские имена есть грязь и мутный ил.
Поверьте мне: не жизнь, чтоб зреть, но то, чтоб щупать.
Человек зрит на лицо, а Бог зрит на сердце.
Челябинск, 2003—2005
ЛИСТ ОКТЯБРЯ
К книге стихотворений Юрия Попова (2004)
Время течет вечно, но жизнь коротка. И ее прожить, что Слово сказать – лишь одно из многих в толковом словаре человечества. Оно отзвучит, прокружив осенним листом, но и поспешит в неведомые пока сочетания и еще не написанные книги.
«Книга эта была ни о чем, и в то же время она обнимала собой всю его жизнь», – скажет герой одной из маленьких повестей Юрия Попова. Так и есть, и другого не дано. Он расскажет о себе все, но не оставит по себе никаких внешних зацепок, которые так любимы его другом-биографом и который готов хотя бы чуть-чуть рассказать об этом: благо в этом мире придуманы предисловия…
В 1988 году в школьных стенах Челябинского университета появился молодой человек, у которого я принял вступительные документы, а потом увидел экзаменационный лист, где все было сдано на отлично.
В его тетрадях на серовато-желтых страницах (лощеной бумаги у Попова никогда не было) – ровным и четким почерком, с непременной красотой китайских четверостиший, которые сначала созерцаешь и лишь потом читаешь, – гремучая смесь Пастернака, Есенина, Мандельштама, Блока, обильно приправленная неповторимым запахом старого провинциального Миасса с его вековыми соснами, темной водой озер, узкими улицами, над которыми повисали золотые шары и алели рябиновые ночи.
Таким Юрий Попов врывался в бесшабашную студенческую жизнь, пьянившую и завораживавшую. Жизнь тогда нам не ставила вопросы, она их подкидывала, подбрасывала, подсовывала подобно тому, как протягивают спасительную шпаргалку. Почему бы стихам не рождаться под шаг от ларька к ларьку; почему бы строчкам не прятаться в тишине летней ночи уставшего от пыли и шума большого города; почему бы слогу не принимать силуэты случайных прохожих; почему бы ритму не быть схожим с ознобом, когда прикасаешься к нежным женским рукам и чувствуешь одновременно и сладость и горечь поцелуя? Почему бы, в конце концов, музыке не рождаться из духа трагедии?
Все в те дни перемешивалось. Мы слушали городские романсы Новикова и тут же переводили старый и добрый Pink Floyd, маршировали левой вместе с молодым «Наутилусом» и перекладывали темновские куплеты. Мы слушали лекции по зарубежной литературе Марка Бента и Сергея Кошелева и тут же зачитывались Поучением Мономаха и Домостроем Сильвестра. Мы были «пятым поколением русского модернизма» (первый поэтический манифест, который подписал Юрий Попов), громыхали рифмами и ерничали смыслами под редакционный самовар, в котором пряталось пиво, прекрасно знали обэриутов, терялись в Петербурге Андрея Белого и в Воронеже Осипа Мандельштама, побаивались судьбы Кристофера Марло, сами издавали и продавали по 25 копеек первый университетский литературный альманах и устраивали поэтические вечера в театре кукол.
Господь не ошибается. Кто просит всем сердцем, тот уже имеет.
Блаженство есть там, где обуздание страстей, а не их отсутствие.
Ты же следи за душой, как в ней зерно прорастает,
И не бойся полоть, если взошли сорняки.
Зачем сажать оливу, которая не приносит плодов?
Зачем вкушать тело Христова, оставаясь самим собой?
Что поделаешь? Такой я человек: для меня нет ничего приятнее, чем мелочи.
Каким несчастным животным является человек, которому в этом киммерийском мраке мирской глупости не блеснула искра света Христа.
Для мудреца станет раем любой берег,
Любое место, любая земля и любой дом.
Природа прекрасного такова, что чем больше на пути к нему встречается препятствий, тем больше к нему влечет.
Войди внутрь себя, мимо иди, плоть и кровь свою пройдя, весь тлен и дрянь – вот тебе спасительная пасха.
Кто скоро прилепляется к новому мнению, тот скоро и отпадает. Не будь ветрен. Испытай опасно всякое слово.
Все беседуют обо всем, но не все знатоки. Бредут за владеющей модой, как овцы. А человек понимает путь свой.
Долго сам учись, если хочешь учить других.
Тогда ж зачинается цыпленок, когда портится яйцо.
По мосту-мосточку с народом ходи,
По разуму ж его себя не веди,
За жуком ползая, влезешь сам в глину.
Лучше веселье без богатства, чем богатство без веселья.
Нет ничего смешнее, чем умный вид с пустым потрохом.
Библия есть источник. Народная в ней история и плотские имена есть грязь и мутный ил.
Поверьте мне: не жизнь, чтоб зреть, но то, чтоб щупать.
Человек зрит на лицо, а Бог зрит на сердце.
Челябинск, 2003—2005
ЛИСТ ОКТЯБРЯ
К книге стихотворений Юрия Попова (2004)
Время течет вечно, но жизнь коротка. И ее прожить, что Слово сказать – лишь одно из многих в толковом словаре человечества. Оно отзвучит, прокружив осенним листом, но и поспешит в неведомые пока сочетания и еще не написанные книги.
«Книга эта была ни о чем, и в то же время она обнимала собой всю его жизнь», – скажет герой одной из маленьких повестей Юрия Попова. Так и есть, и другого не дано. Он расскажет о себе все, но не оставит по себе никаких внешних зацепок, которые так любимы его другом-биографом и который готов хотя бы чуть-чуть рассказать об этом: благо в этом мире придуманы предисловия…
В 1988 году в школьных стенах Челябинского университета появился молодой человек, у которого я принял вступительные документы, а потом увидел экзаменационный лист, где все было сдано на отлично.
В его тетрадях на серовато-желтых страницах (лощеной бумаги у Попова никогда не было) – ровным и четким почерком, с непременной красотой китайских четверостиший, которые сначала созерцаешь и лишь потом читаешь, – гремучая смесь Пастернака, Есенина, Мандельштама, Блока, обильно приправленная неповторимым запахом старого провинциального Миасса с его вековыми соснами, темной водой озер, узкими улицами, над которыми повисали золотые шары и алели рябиновые ночи.
Таким Юрий Попов врывался в бесшабашную студенческую жизнь, пьянившую и завораживавшую. Жизнь тогда нам не ставила вопросы, она их подкидывала, подбрасывала, подсовывала подобно тому, как протягивают спасительную шпаргалку. Почему бы стихам не рождаться под шаг от ларька к ларьку; почему бы строчкам не прятаться в тишине летней ночи уставшего от пыли и шума большого города; почему бы слогу не принимать силуэты случайных прохожих; почему бы ритму не быть схожим с ознобом, когда прикасаешься к нежным женским рукам и чувствуешь одновременно и сладость и горечь поцелуя? Почему бы, в конце концов, музыке не рождаться из духа трагедии?
Все в те дни перемешивалось. Мы слушали городские романсы Новикова и тут же переводили старый и добрый Pink Floyd, маршировали левой вместе с молодым «Наутилусом» и перекладывали темновские куплеты. Мы слушали лекции по зарубежной литературе Марка Бента и Сергея Кошелева и тут же зачитывались Поучением Мономаха и Домостроем Сильвестра. Мы были «пятым поколением русского модернизма» (первый поэтический манифест, который подписал Юрий Попов), громыхали рифмами и ерничали смыслами под редакционный самовар, в котором пряталось пиво, прекрасно знали обэриутов, терялись в Петербурге Андрея Белого и в Воронеже Осипа Мандельштама, побаивались судьбы Кристофера Марло, сами издавали и продавали по 25 копеек первый университетский литературный альманах и устраивали поэтические вечера в театре кукол.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: