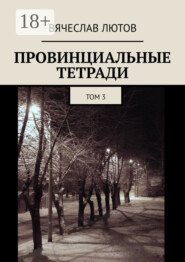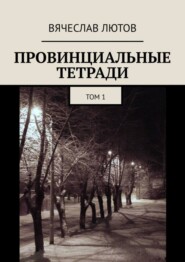По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тень Агасфера. Заметки о жизни В. А. Жуковского
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Афанасий Иванович «усыновлять» младенца не стал (два поэта Бунина для русской литературы – перебор). Сговорился со своим другом, «полуприживальщиком», обедневшим помещиком Андреем Григорьевичем Жуковским, который, крестив новорожденного, записал его на свое имя.
След Андрея Григорьевича, «отца», теряется еще в детстве поэта.
Да и само детство затерялось в счастливо-провинциальной дворянской усадьбе. Васенька, Базиль, был окружен любовью, жил среди женской ласки и балования, «рос барчонком»; вокруг мамки, няньки… Его пестовали, ему ни в чем не отказывали; природа, травы, орловское раздолье его лелеяли. Впрочем, даже в историческом времени, до божедомских достоевских, казенных мальчиков куприных, купоросных горьких и нищих надсонов было еще очень далеко. Пока детство русской литературы было идилличным – и Жуковский не был исключением из среднепоместного счастья.
Но ущемленность свою все равно чувствовал.
В дневнике 1805 года записано: «Не имея своего семейства, в котором я бы что-нибудь значил, я видел вокруг себя людей мне коротко знакомых, потому что был перед ними выращен, но не видал родных, мне принадлежащих по праву; я привык отделять себя от всех… Я не был оставлен, брошен, имел угол, но не был любим никем».
Борис Зайцев называет эту запись преувеличением /3.33/, соглашусь и я: приговор-то для домашних слишком неутешителен и жесток.
Только ведь дыма без огня не бывает, и такая «черная сыновья неблагодарность» рано или поздно обеливается – уже хотя бы так странно сложившимися обстоятельствами младенчества и детства: родители живы, а он словно вне их. Афанасий Иванович, правда, рано уйдет из жизни Жуковского – оставит по себе ощущение красоты службы и трепетную умиротворенность сельских кладбищ, но две матери – рядом, сводные сестры и племянницы – здесь же. Все – его и словно не его.
Это ощущение, неосознанное, лишь мучительно переживаемое, будет частым гостем в его душе – с раннего детства и до поздней старости; оно станет неотвратимой формулой всей его жизни —
он был среди всех и со всеми – и ни с кем не был…
* * *
Удивительно, но он даже не воспринимал свое положение мистически – так, по меньшей мере, происходит почти всегда с теми, кто «рожден необычно». Не воспринимал и в призме страстей, как это было у Лермонтова. Незаконнорожденность, а при ней и примирительное соглашение подле ног барыни, рождало в нем тихую отстраненность, отдаленность, ощущение неприкаянности. В этом, несомненно, была своя печаль, но трагизма не было – а потому переводить свое состояние в плоскость мистическую, волнующую и дикую, разумно не объяснимую, у Жуковского не было никаких резонов.
Да и привычки подобной он никогда не имел. И тоже – с детства, с одной «детской истории», уже давно ставшей классической.
«Васенька нарисовал на полу изображение Христа; горничная Меланья, увидев его, бросилась на колени и начала бить земные поклоны. Сбежалась дворня, пришли барыни, и потрясенная Меланья начала рассказ, как комната озарилась светом, откуда-то полилась неземная музыка, сами собой растворились двери и на полу проступило божественное изображение.
Васенька испортил все дело. Он сказал: «Нет! Это я нарисовал» /2.9/.
Он прекрасно рисовал – и в детстве, и по жизни; и биограф обычно с гордостью приводит эту историю в подтверждение дара художника у Жуковского. У меня же она вызывает печаль – Васенька действительно испортил все дело.
Если бы Жуковскому даровать «глаза Меланьи», то, возможно, он увидел бы тень своего Агасфера гораздо раньше и, быть может, сделал бы его волей провидения чем-то вроде Фауста для Гете. Но о лилово-зеленых мирах он ничего не знал – удивительно был не мистичен. Его мир не раскалывался надвое, как это было у Гофмана, не впадал в сумасшествие, как случилось это с Гельдерлином и Батюшковым, не бракосочетал рай и ад, как это делал нищий художник Блейк, забытый на целое столетие. Можно назвать Жуковского «книжным романтиком» – таким его, переводчика, перелагателя, собственно и видели (пожалуй, лишь Меланья могла бы увидеть его «чернокнижником» – к всеобщей потехе).
Была в Жуковском, пользуясь термином У. Джемса, какая-то «религия душевного здоровья», исполненная здравого прагматизма (врачевание же как-никак), не позволяющая ему видеть зло мира, вчувствоваться в происходящее глубже внешнего счастья или несчастья.
Может быть, мы и не правы, позабыв про «мягкость и чувствительность» Жуковского, – здесь ли говорить о «толстокожести»! И все же не дает покоя в сердцах произнесенное: «Нет, это я нарисовал!» – и весь богатейший опыт мистического религиозного переживания (столь ярко явленный горничной) уступает место обыкновенно-обыденному объяснению.
В этом смысле – мистики, религиозной мистики, откровения и предчувствия – Жуковский был близорук…
* * *
Впрочем, еще о домашних.
В 1811 году умерла Марья Григорьевна Бунина, барыня, «бабушка», как называл ее Жуковский. А через десять дней, следом за ней – Сальха – Елизавета Дементьевна, настолько прикипевшая к своей хозяйке, что не смогла ее пережить, жить без нее, жить вне ее. Жуковский хотел одно время забрать ее с собой – ничего не вышло.
«Он почувствовал себя сиротой» – иначе и быть не могло; да и по-человечески понятно и объяснимо. Но в дневнике Жуковский все же обронит, непонятно, странно: «любил далекой любовью». Эти слова стали удивительной находкой – его отстраненность от другого человека теперь получала благородное обозначение, поэтическое звучание, еще безнадежнее скрывая то, чего он и так не видел.
Именно с этой «далекой любовью» – к кому бы то ни было и когда бы то ни было – Жуковский и был теперь обручен. Расстояние, дистанция становились мучительным счастьем его жизни. Однако, является ли это преступлением?..
* * *
Пушкин называл дружбу «любовью без крыльев». В жизни Жуковского дружба – «бескрылая любовь» – была возведена в абсолют, обожествлена, единственна; она была его гербом, была его гимном. Правда, теперь, в 1852 году, гимн звучал все тише и тише, да и торжественность его все больше напоминала обряд прощальный – поминальную службу. Жуковский жалел, что здесь, в Бадене, нет рядом его верных друзей – единственных, которые еще остались на этом берегу – Вяземского и Авдотьи Петровны Елагиной; они приедут его уже хоронить…
Из домашних – Авдотья Петровна – Дуняша – человек, которого Жуковский по сути «проглядел», не понял, не почувствовал «глубже дружбы». Может быть, это и к лучшему – пусть случилось только то, что случилось.
Дуня – одна из дочерей крестной Жуковского Варвары Афанасьевны Буниной (Юшковой); родня, домашний круг.
Юшковы, «хранители его детства», жили в Туле, куда перебрались и Бунины, когда Базиль подрос и его необходимо было где-то пристраивать учиться. Так в жизни Жуковского появилось и тульское народное училище, откуда его в конце концов исключили «за неспособность», и желание быть драматургом – он даже написал в двух страницах историю Фурия Камилла, освободителя Рима, сам же его и сыграл – в склеенном шлеме и с выстроганным мечом.
И еще – в него незаметно влюбилась Дуняша; слушала, ходила за ним как тень, искала глазами, смеялась вместе, грустила поврозь… В общем, qлучай достаточно сентиментальный, даже умилительный, как и все, что связано с детьми; да и кого из нас умиротворенные родители не крестили женихом и невестой и не сговаривались на потом? Знали, что детская любовь быстро тает и ровным счетом ни к чему не обязывает, оставляя лишь благодарную улыбку. Словом, ничего серьезного.
Для Жуковского…
Авдотья Петровна же восприняла иначе. Поначалу постаралась забыть, к тому же обстоятельства – год за годом к десятилетию – складывались для этого удачно. Базиль жил своей жизнью – то в Москве, то в белевском уединении, ходил на войну, редактировал «Вестник Европы», писал стихи, переводил… Она вышла замуж за В. Киреевского, родила ему прекрасных сыновей – так, Иван Киреевский станет у истоков русской философии. Вот только овдовела рано.
И вдруг почувствовала – осенью 1814 года – что любовь некогда маленькой девочки к «Юпитеру ее сердца» Жуковскому не прошла.
Воскрешение «детской истории» – далеко не инфантилизм, хотя, может быть, некоторые чувства и схожи; трагичность этой любви как раз в том, что она «родом из детства», и образ детства безнадежно будет владеть ею. Вот и выходит, что истоки чувств гораздо глубже, чем «сейчас», а маски, за которыми эта любовь скрывается, изощреннее, опаснее.
Хотя…
Осень 1914 года, проведенная в имении Киреевской Долбино, оказалась для Жуковского волшебной: его тогда захлестнула поэзия – он написал «Варвика», «Эолову арфу», «Вадима», множество посланий, переводов; даже испугался своей плодовитости – накручивал себе на мозги всевозможные ужасы, тяжкие предчувствия – «выпишется весь…» – чем мучил и себя, и Авдотью Петровну.
Та же вся преображалась, едва стоило ей увидеть милого Базиля: глаза блестели от радости, искрились; она не могла скрыть волнения. Изменился и тон ее писем к Жуковскому – нежны не по-домашнему, «не по-родственному».
«Но он ни о чем не догадывался»…
Причину этой непроницательности все биографы называют одну и ту же: он думал о другой, любил другую, ежедневно, ежеминутно жил другой – Машей Протасовой. Это действительно все объясняет: влюбленный человек на других не смотрит. Объясняет уже хотя бы потому, что это – один из значительных стереотипов поведения, укоренившийся в нашем бытовом сознании настолько, что стал восприниматься как аксиома: влюбленный – ослеплен, видеть кого-нибудь еще – значит, любить не по-настоящему. Возражать здесь сложно, но…
Жуковский у Авдотьи Петровны бывал часто – она не бесплотный дух, она – на виду, ее поведение все же ее выдавало – видели многие, один Жуковский не видел.
Было бы неверно списать все на безрассудство любви Жуковского – у нас не раз еще будет возможность убедиться в том, что Жуковский никогда безрассудным не был, не знал ни мятежности любви, ни ее сумасбродства. Его зрение было ровным, может быть, даже слишком.
И еще: его глаза никогда не смотрели из-под маски – так, по меньшей мере, говорят все мемуаристы, буквально отождествляя поэта с искренностью и честностью. Поэтому и пришлось отказаться от авантюрного вопроса: «не замечал или не хотел замечать?» – последняя «двойная игра» у него попросту бы не вышла…
Он до конца дней (смерть Маши Протасовой в марте 1823 года – лишь середина его пути) действительно будет уверен в том, что Авдотью Петровну связывает с ним только дружба и ничего, кроме нее (родство – не в счет). Даже если бы она призналась ему в любви – ведь хотела же! – он, скорее всего, просто не поверил бы. Дуняша – молчала. Жуковский – не замечал, не видел, не «придавал значения». Он изливал ей душу – и волшебной осенью 1814, и позднее в письмах и при встречах, – совершенно не догадываясь, что ранит ее.
Авдотья Петровна выйдет замуж во второй раз – за Елагина…
* * *
Аня Юшкова, в отличие от своей сестры, не стала продолжать «линию родственной влюбленности» в Жуковского (хотя – сердцу не прикажешь). Она была первой его «подругой» – «одноколыбельницей» – няньки вместе катали их по саду… Этим и окрашена их дружба – по-семейному.
Анна Петровна была постоянным адресатом Жуковского, причем, достаточно сдержанным, рассудительным, может быть, даже холодноватым, что мало свойственно женскому уму; сама писала – под мужниной фамилией: Зонтаг. А занятие литературой, как известно, вернее всего отстраняет человека от человека в силу своей индивидуальности, сублимированности и еще множества причин, преломляющих то, что происходит, в то, что будет написано.
Думается, Анна Петровна как нельзя лучше понимала одну важную вещь: Жуковского следует держать на расстоянии – ради самого же Жуковского…
ПРОТАСОВЫ. Екатерина Афанасьевна. Маша. Мойер. Трое
* * *