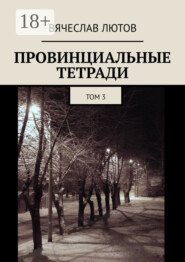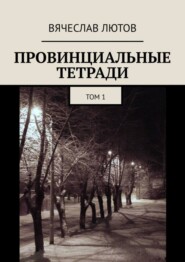По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тень Агасфера. Заметки о жизни В. А. Жуковского
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так в жизни Протасовых появился доктор Иван Филиппович Мойер.
Он был прекрасным хирургом, профессором, хорошим музыкантом и просто порядочным человеком. В Дерпте Мойера любили, его положение (не столько материальное, сколько общественное) было прочным; к тому же он умел располагать к себе других, но никогда не злоупотреблял этим. Казалось, что он без недостатков. Разве что близорук…
Маша в те дни писала о нем Авдотье Петровне Киреевской: «Милый, добрый, благородный Мойер… Он положил себе за правило не думать о себе там, где дело идет о пользе ближнего и жертвовать всем другому. И это не слова, а дело…»
Екатерина Афанасьевна вторила дочери: «Благородство души его, право, описать нельзя, доверенность и привязанность к Маше – необыкновенные».
Скажем сразу: и та, и другая говорили о Мойере в подобном ключе далеко не от праздного знакомства.
Иван Филиппович попал к Протасовым на волне «оборотничества» Александра Воейкова (мы забегаем вперед, но что поделаешь, если жизнь не желает двигаться строго прямолинейно и память неотвратимо путает между собой даты и события) – романтического странника вдруг сменил семейный тиран, отравлявший всем жизнь. Воейков пьянствовал, дебоширил, доводил до истерики Сашу; несколько раз его скандалы вызывали у Маши горловое кровотечение, он же лишь смеялся в лицо и называл это свидетельством блуда вавилонского. Он хозяйствовал – и требовал трепетного и безропотного подчинения; он шпионил – доверяться переписке стало невозможно; он лицемерил – и в этом был непредсказуем. Странным образом перед ним «спасовала» и непреклонная Екатерина Афанасьевна, теперь увидевшая непосредственно, что происходит с ее дочерьми и насколько они страдают.
Не будет преувеличением сказать, что жизнь в доме Воейкова оказалась сущим адом – и нам еще предстоит в него погрузиться; пока же ограничимся лишь внешним – но все равно черным – фоном, на котором появился Мойер и изредка появлялся Жуковский.
Этим, собственно, и оправдывается некоторое отождествление Мойера с Жуковским – и в письмах Маши эти два имени могут легко взаимозаменяться. Мойер был похож на Жуковского, это – души родственные (так, по меньшей мере, считает Виктор Афанасьев в своей биографии Жуковского /1.176/, у Бориса Зайцева же иное: «Маша совсем не имела к Мойеру чувства, как к Жуковскому» /3.75/).
Как бы то ни было, прежней любви требовалась замена – замена ли? – и ученица искала отражение, тень своего учителя…
Жуковский все же еще надеялся на личное счастье, просит Машу об отсрочке (эта любовь кажется обреченной именно на отсрочку, на выжидание лучших времен) на год – в известном письме от 25 декабря 1815 года. Потом почти упрекает Машу в том, что она идет замуж не по своей воле – «Ты бросаешься в руки Мойеру потому, что тебе другого нечего делать», потому, что обстоятельства, в непререкаемость и неизменность которых Жуковский слепо верил, сложились так, а не иначе, что обстановка оказалась слишком ужасна и, почти воочию, безвыходна.
И все же суть остается в другом.
То, чего не смог сделать сам Жуковский, сделал за него Мойер.
Маша и Иван Филиппович обвенчались в январе 1817 года…
* * *
Через несколько дней Маша напишет Авдотье Петровне письмо с таким признанием: «Бог дал мне счастье, послав Мойера, но я не ждала счастья, а видела одну возможность перестать страдать».
А жить можно, как говорил Жуковский, и без счастья…
Это «воспитание чувств» просто поразительно – даже самый суровый аскет счел бы убийственным отказ от счастья, каким бы малым оно не было. Но в том, должно быть, и состояла бессмертная участь Агасфера – жизнь без счастья и бегство от страдания.
Будет и отречение, пусть поневоле, – Жуковский даже узаконит его в своем стихотворном послании к Мойеру:
Счастливец! ею ты любим,
Но будет ли она любима так тобою,
Как сердцем искренним моим,
Как пламенной моей душою!
Возьми ж их от меня…
«Ею ты любим…» – как будто Жуковский не знал, кто именно ею любим…
Еще накануне свадьбы Жуковский приезжал в Дерпт «все увидеть своими глазами», поговорить с Мойером. Майя Бессараб называет эту встречу удивительной: не породившей неприязни соперников. Основание для такой трактовки – письмо Маши к Киреевской: «Они говорили обо всем вместе, искренно и с чистосердечным желанием найти мое счастье. Мойер любит Жуковского больше всего на свете, он говорит, что откажется навсегда от счастья, как скоро минуту будет думать, что не все трое мы найдем его».
В итоге не менее удивительный вывод биографа: «Как ни велики были страдания Жуковского, в сердце его не было ревности» /2, 120—121/. Вот этому я и не могу поверить (быть может, есть люди, лишенные этого чувства, но я покамест таких не встречал). Не верится мне и в саму «удивительность» этой встречи – слишком много сентиментальной умиротворенности, слишком много «любовных признаний». И еще: если не было неприязни соперников, если не было никакой ревности, то что же тогда было?
«Душа как будто деревянная, – писал Жуковский Ал. Тургеневу. – Мое теперешнее положение есть усталость человека, который долго боролся с сильным противником» (с Мойером, с Екатериной Афанасьевной, с обстоятельствами? – В.Л.)
Вот теперь борьба кончилась…
В «договоре» о Машином счастье есть все же что-то неизъяснимо зловещее. Верный друг Жуковского Александр Тургенев так и не сможет понять, как же решился Жуковский дать Мойеру согласие на брак, уступить ему Машу, отказаться от нее? «Любовь Маши к Мойеру» – какой все же жестокий повод «прекратить отношения» нашел Жуковский, какая неоправданная подмена произошла! Впрочем, не судите да не судимы будете – так гласит библейская мудрость, от которой мы вечно отступаем. Нам ли судить чужую душу и нам ли использовать судьбу человека как повод для рассуждений? И все же…
Как воспринял послание Жуковского Мойер, неизвестно. Но само положение адресата было незавидным: Мойер прекрасно знал (видел, чувствовал), что есть Жуковский для Маши, знал, что не будет в ее сердце всецело. Жуковского же, скорее всего, не понимал, хотя и был пленен его благородством и искренностью.
И все-таки «оценка факта» остается грустной: тогда, в Дерпте, при той «удивительной встрече», состоялся не просто разговор о счастье – состоялась передача Маши от Жуковского к Мойеру.
Закон о родстве был соблюден, точно так же, как Агасфером был выполнен закон о крестном пути: крест родства отсвечивал бессмертным агасферовским скитанием. Жуковский этого пока не видит, не осознает. Он вообще «как бы умер», а прежние стихи его кажутся ему «гробовыми памятниками». Впрочем, каждый несет то, что он несет…
П. А. Вяземский как-то писал о Жуковском-поэте: «Сохрани боже ему быть счастливым: с счастьем лопнет прекраснейшая струна его лиры…» Поэт должен быть «положительно несчастлив» – не так ли? Он словно предназначен для трагедии, а если нет таковой, то она создается, творится, подобно мифу. И каждый сам выбирает свой мифологический образ несчастного человека. Кстати, и сама мысль Вяземского достаточно мифологична и известна – счастье стихов не пишет. Это даже кажется аксиомой, чем-то не требующим доказательств и сомнений, чем-то массивно-каменным, подобно Колизею, опечатавшему центр Рима. Жуковский этому каменному театру вызов не бросил.
В одном из писем к своей «соколыбельнице» А. П. Зонтаг Жуковский сделает такое признание: «Не хочу и не буду (теперь) иметь любви. Но хочу иметь верную привязанность, основанную на знании характера, на согласии образа мыслей о счастии».
«Тихая любовь» становится теперь «любовью разумной», бескрылой, основанной исключительно на дружбе с ее уважением, верностью и определенной стабильностью. Кажется, что сам прекрасный культ дружбы, воспетый Жуковским, вдруг становится каким-то зловещим идолом, которому приносится в жертву все и вся. Впрочем, для Жуковского нет в этом особых опасений и противоречий – все закономерно, все естественно, все так и должно быть. Противоречие в другом – в невозможности в реальном мире той дружбы и той любви, которой он наполнен и которая живет в его балладах.
Самая знаменитая из них – «Светлана» – посвящена не Маше…
ПРОТАСОВЫ. Саша. Воейков. Психологический этюд. 1829 г.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: