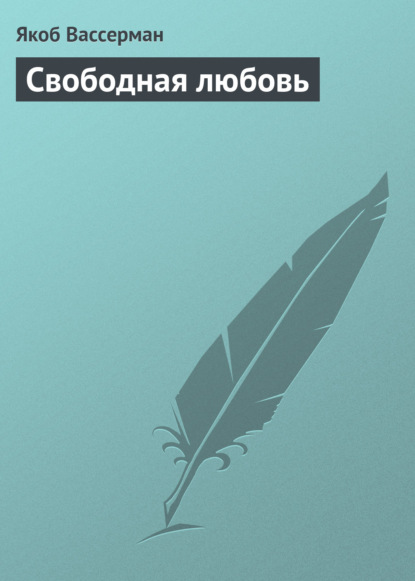По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Свободная любовь
Автор
Год написания книги
1900
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Свободная любовь
Якоб Вассерман
«В середине сентября произошел удивительный случай, о котором потом несколько дней напролет говорил весь Мюнхен.
По вечерам в окрестностях академии и университета бывало оживленно. На одной из улиц, которые пересекаются здесь под прямыми углами, стоял ветхий дом старинной архитектуры. В тот самый час, когда студенты обычно расходились с последних лекций, на крыльце этого дома раздался громкий крик, вслед за которым из ворот на улицу выбежала совершенно голая девушка, руки ее были подняты кверху, словно для защиты от какого-то тяжелого предмета, падающего с неба. Все время, пока обнаженная бежала от расположенной во дворе мастерской художника до оживленной улицы, она продолжала беспрестанно вопить. Движение на улице сразу прекратилось; откуда ни возьмись, сбежалось множество народу. Окна квартир открывались, и в них появлялись испуганные лица, на которых испуг мало-помалу уступал место игривому настроению…»
Якоб Вассерман
Свободная любовь
* * *
Глава 1
В середине сентября произошел удивительный случай, о котором потом несколько дней напролет говорил весь Мюнхен.
По вечерам в окрестностях академии и университета бывало оживленно. На одной из улиц, которые пересекаются здесь под прямыми углами, стоял ветхий дом старинной архитектуры. В тот самый час, когда студенты обычно расходились с последних лекций, на крыльце этого дома раздался громкий крик, вслед за которым из ворот на улицу выбежала совершенно голая девушка, руки ее были подняты кверху, словно для защиты от какого-то тяжелого предмета, падающего с неба. Все время, пока обнаженная бежала от расположенной во дворе мастерской художника до оживленной улицы, она продолжала беспрестанно вопить. Движение на улице сразу прекратилось; откуда ни возьмись, сбежалось множество народу. Окна квартир открывались, и в них появлялись испуганные лица, на которых испуг мало-помалу уступал место игривому настроению.
Вокруг девушки образовался кружок студентов. С робкой и комической беспомощностью смотрели они на обнаженную, которая теперь лежала на земле. Лицо девушки было закрыто руками; распущенные короткие золотисто-каштановые волосы едва закрывали шею; смуглая кожа время от времени подергивалась, как у нервных животных. Кто-то предложил позвать врача, но среди присутствующих не оказалось ни одного медика. Одни зрители были бледны, другие смущенно улыбались, третьи имели суетливый, озабоченный вид, иные были заинтригованы, точно спектаклем, и напряженно ожидали продолжения событий; некоторые замечали, что общественной нравственности угрожает опасность. В целом же, независимо от внешнего проявления своих эмоций, все эти люди выражали живую заинтересованность происходящим. Сотни глаз не отрываясь следили за каждым движением девушки, рассматривали каждый волнующий изгиб ее упругого тела. Когда же смуглая нимфа судорожно сжала ладонью грудь, пытаясь спрятать ее от любопытных взглядов, по толпе пронесся слабый стон, а некоторые юноши едва не перестали дышать от нахлынувших чувств. Впрочем, стоит ли удивляться – в пору, о которой идет речь, созерцание обнаженной натуры для большинства студентов было удовольствием недоступным. Если, конечно, не считать снимков полураздетых красоток варьете, которые передавались друг другу, словно ценные реликвии, хранились под подушками и оттого были невероятно потрепаны.
Тем временем кольцо становилось все теснее, потому что стоявшие позади напирали на передних. Наконец, прокладывая себе дорогу локтями, к лежащей на земле девушке пробрался какой-то мужчина, опустился на колени и бережно прикрыл ее своим длинным светло-серым плащом. Потом он попытался приподнять голову обнаженной, но неожиданно встретил судорожное сопротивление.
Тогда склонившийся человек жестом подозвал кого-то из стоявших рядом молодых людей. Еще один студент вызвался помочь, и вместе они подняли девушку; толпа машинально расступилась, освободив узкий проход, и трое людей поспешно направились со своей ношей к тому самому дому, из ворот которого выбежала эта восточная красавица. Им удалось закрыть ворота, прежде чем туда успел сунуться кто-нибудь из зевак, и задвинуть большой ржавый засов. С улицы в ворота начали стучать и колотить; потом послышались крики и свист, спустя некоторое время все стихло.
Когда шум снаружи прекратился, трое мужчин услышали тихий плач молодой девушки, не отнимавшей рук от лица. Подъезд, в который они вошли, был пуст; плачущая красавица не говорила ни слова; во всем доме не было слышно ни звука.
– Что же нам теперь делать, господин Вандерер? – спросил один из молодых людей (его звали Давиль) с тенью злорадства на лице. Возможно, впрочем, что выражение злорадства обусловливала назойливо-застенчивая улыбка, почти не сходившая с его лица. Но в этот миг улыбка на время исчезла, потому что через двор поспешно шел неуклюжей походкой человек лет тридцати пяти. Подойдя к обнаженной, он склонился над ней и прошептал с выражением пламенного чувства на лице: «Гиза! Гиза!» Потом он легко подхватил лежавшую девушку на руки, что было удивительно при его слабом телосложении, пересек с нею двор и вошел в дверь квартиры на нижнем этаже.
Давиль отворил ворота и тотчас же был подвергнут допросу двумя полицейскими очень строгого вида. Вокруг стояли группами сотни людей, которые с любопытством начали снова тесниться к воротам. В эту минуту с лестницы спустились две молодые дамы, одна стройная, бледная, с аристократичной внешностью, другая с вульгарным смехом и говором. Вандерер невольно обратил внимание на задумчивое выражение лица первой, которую спутница назвала Ренатой. В этом лице было нечто, имевшее таинственную связь с происшествием, свидетелем которого он только что был. Обе дамы сели в коляску, стоявшую на противоположной стороне улицы, и уехали.
Подошел жандарм, надменно оглядел с ног до головы Вандерера, сделавшего вид, будто он здесь стоит в ожидании кого-то или чего-то, и важно зашагал во двор.
Собственно, стоял Вандерер в ожидании собственного плаща, а может быть, и чего-то гораздо большего. Образ обнаженной девушки затронул в его душе какие-то дремавшие струны. Нет, нагая красота не была для него в диковинку. В отличие от сотен юношей и молодых мужчин, не имевших гроша за душой и воспевавших любовь во всех ее проявлениях, Вандерер располагал достаточными финансовыми средствами и время от времени спускал их в борделях с девицами, готовыми разделить предрассветные часы с каждым, кто мог платить. Были среди них и страстные восточные дивы, и белокурые хохотушки – с кем только не забавлялся Вандерер, щедро благодаря их звонкой монетой. С этими красавицами, не знающими стыда и устали в постели, он многому научился и многое узнал. Непознанной осталась лишь любовь. Именно ее смутным предвкушением наполнилось в этот миг сердце Вандерера.
Толпа начала таять в легком сентябрьском тумане, спустившемся на улицы. Наконец появились два репортера, которые с глуповатым видом принялись изучать местность, точно никогда прежде не видели ни крыльца, ни двора. Наверху открылась дверь, и на лестнице послышались звуки рояля. Снова появился жандарм в тяжелых, внушающих уважение сапогах.
Когда никого не осталось поблизости, Вандерер вошел во двор и, набравшись мужества, отворил манившую его дверь. Но тот самый человек, который унес девушку, преградил ему путь и вышел вместе с ним во двор. На нем была маленькая зеленая шапочка: густые рыжевато-белокурые усы на польский манер висели вниз. На руке мужчины был плащ, и, подавая его Вандереру, он медленно произнес:
– Она желает побыть одна. Надо дать ей успокоиться.
Потом прибавил, устремив глаза вдаль, с ораторским ударением на словах:
– Представьте себе трагедии всех человеческих душ собранными в одной – и вы получите объяснение того, чему только что были свидетелем.
Вандерер сделал сначала глубокомысленное лицо, потом представился и покраснел, потому что это показалось ему мальчишеством. Человек в зеленой шапочке отвернулся, будто не слыша ничего; сжав губы и закрыв глаза, он, очевидно, переживал тяжелую внутреннюю борьбу. Через минуту он повернулся к Вандереру и равнодушно пробормотал:
– Зюссенгут. Христиан Зюссенгут.
Потом они вдвоем пошли по улице по направлению к академии. Зеваки там все еще не успокоились, и каждый придумывал объяснение, одно пикантнее другого. Вандерер не хотел проявлять любопытство и молча шагал рядом с человеком в зеленой шапке. Зюссенгута, по-видимому, знали многие, ему часто кланялись, большею частью с почтительной сдержанностью, исключавшей близкие отношения. Наконец он обратился к Вандереру с несколькими безразличными вопросами. Он забыл, как его зовут. «Анзельм Вандерер». – «Откуда вы родом?» – «Из Вены. Там долго жили мои родители. Но родился я во Франконии, в Нюрнберге». – «Что вы изучаете, охотно ли занимаетесь наукой?» – «Нет, душа моя остается равнодушной». – «Так вы, быть может, из породы скитальцев?» – «Нет, я вовсе не скиталец; скорее флегматик». – «Университетская наука проникнута рутиной, она губит в молодых людях девять десятых их индивидуальности».
При упоминании науки Зюссенгут вдруг ударился в пафос, как будто пафос был единственной привычной для него атмосферой. Жесты его сделались широкими, подчеркнуто благородными, словно он выступал на форуме. На прохожих он перестал обращать внимание. Вандерер соглашался с ним, вставляя время от времени соответствующие замечания, которые Зюссенгут принимал с преувеличенным восторгом. У Вандерера минутами было такое чувство, как будто он присутствует на театральном представлении. Он чувствовал себя неловко и соглашался иногда не совсем искренно.
– Куда же вы идете? – спросил Зюссенгут, как будто они были знакомы целую вечность. Вандерер стал объяснять, что ему надо зайти к знакомым. Но тот уже не слушал его. К Зюссенгуту с радостным смехом подбежала хорошенькая нарядная девочка. Он наклонился к ребенку, и на лице его появилось выражение болезненного экстаза, восторга, граничащего со страданием. Казалось, сверхчеловеческая любовь и преданность нашли наконец в нем свое исчерпывающее выражение. Вандерер поклонился и ушел.
Осень, чудная золотая осень! Пора итогов и начинаний, думал Анзельм Вандерер, спускаясь к английскому парку, расцвеченная листва которого вырисовывалась изящным узором на фоне темнеющего неба. Предвечернее оживление царило на улицах. Вандерер шел, и смутные волнующие сердце образы всплывали в его сознании. Ярким пламенем вспыхивали пробуждающиеся желания и гасли, растворяясь в серых тонах надвигающейся ночи. Его упорно преследовал образ Зюссенгута, отталкивающий и притягательный, загадочно сливающийся с его собственной индивидуальностью.
Четверть часа спустя Вандерер звонил у подъезда своей приятельницы, старой баронессы Терке.
У Терке его встретили радушно. В последний раз они виделись в Вене год тому назад. У баронессы была масса новостей, и она одну за другой выкладывала их без всякой связи Вандереру. Ее лицо напоминало раскрашенную мумию; волосы лежали искусными завитками. Она страдала одышкой, но старалась выглядеть забавной и любезной.
Баронесса была неиссякаемым источником новостей и нередко высказывала вскользь мысли, которые слушатели записывали потом в дневник как «максимы и изречения». Иногда ее неудержимый смех сменялся свинцовым полусном морфинистов, после которого она встряхивалась, лихо ударяла себя по бедрам и, изображая беспечную улыбку, продолжала разговор, о котором другие уже давно забыли. Этими другими, кроме Вандерера, были ее невестка графиня Терке, полная достоинства аристократка, и племянница Адель, с трудом сдерживавшая лукавую веселость своего легкомысленного нрава.
Они сидели в ярко освещенной комнате, обитой пурпуровой материей. За окнами уже господствовал вечер, наполняя улицу голубым сумраком. Сидя в этой комнате, где годами не случалось ничего важного, среди людей, застывших в своей аристократической неизменности, Анзельм Вандерер думал о жизни, полной борьбы и опасностей, подобно мальчику, читающему страшные рассказы за семейным столом.
Графиня Терке, со своими серебристо-белыми волосами, имела вид королевы эпохи рококо; она то ли сострадательно, то ли насмешливо слушала болтовню баронессы, рассказывавшей о своей собаке, – и эта тема грозила затянуться до бесконечности. Тигр был замечательной собакой; жаль только, что жир не позволял ему бегать, к тому же у этого пса было только три ноги, готовые его слушаться. Ни одна подушка не была для него достаточно мягка, никакое лакомство достаточно хорошо, никакая ласка достаточно нежна; а когда Тигр оставался один, то перед его постелью ставили зеркало, чтобы умилостивить созерцанием собственного «я». Тут история с зеркалом напомнила случай с одной дамой, которая до тех пор стояла перед зеркалом, пока не сошла с ума. Этот случай имел связь с другим, в высшей степени интересным происшествием, о котором стоило вспомнить. Но этот рассказ был прерван приходом молодой особы, при виде которой Вандерер побледнел. Ему тотчас же представился дом на Амалиенштрассе, на лестнице которого он видел эту же самую стройную, бледную девушку. Молодая графиня представила ее и села с фрейлейн Фукс на оттоманку.
Анзельм Вандерер вдруг стал разговорчивым и, внутренне робея, наговорил много лишнего.
– Не странная ли случайность, – обратился он к молодой девушке, – что я встречаю вас сегодня во второй раз, фрейлейн, и именно здесь?
Молодая девушка повернула к нему лицо и удивленно посмотрела на его воротник. Он смутился, хотел подробнее рассказать о встрече с нею и о случае, который предшествовал ей; но в конце концов рассказал только о своем знакомстве с Зюссенгутом. Нанизав целый ряд предложений в виде фельетона, он заметил, что рассказ его встретил мало сочувствия. Только глаза фрейлейн Фукс были неотступно обращены на него. Это были черные глаза, походившие в полумраке комнаты на блестящие уголья, – глаза, которым недоставало глубины.
– Вы знаете его? – спросил Вандерер.
– Этого еврея? Нет.
– Вы презираете его за то, что он еврей?
Она пожала плечами и открыла рот, что придало ее лицу детски беспомощный вид.
– Мне много рассказывали о нем мои подруги, – прибавила она тише, опуская глаза.
На этом беседа завершилась; с этой минуты каждый из них под шум разговора был занят только своими мыслями.
Анзельм и фрейлейн Фукс собрались уходить одновременно. Ее экипаж ожидал внизу, но так как вечер выдался прекрасный, то ей захотелось пройтись пешком, если Вандереру не покажется скучным проводить ее. Когда они спускались с лестницы, Вандерер любовался свободной грацией движений Ренаты. В ней не было и следа сдержанности и чопорности, присущих молодым женщинам ее круга.
Был необычный вечер. Полузадернутые туманом фонари, точно лампады, висели в пространстве; воздух как будто дымился и делал невидимым все, что нарушало гармонию близящейся ночи. Они шли медленно и, можно сказать, бездумно. Наконец Вандерер сказал, где он видел Ренату несколько часов тому назад. Теперь ей стало понятно замечание, смысл которого он не хотел объяснять в присутствии Терке. Фрейлейн Фукс остановилась, и ему показалось, что она вдруг стала выше ростом; со свойственной ей особенной манерой она полуоткрыла рот, как бы ища ответа. Вандерер, странно взволнованный, спросил, что, собственно, она имеет против Зюссенгута.
– Во-первых, я ненавижу евреев! – ответила она.
– Серьезно? – Вандерер улыбнулся.
– А разве вы еврей? – спросила Рената Фукс, тоже улыбаясь.
– Нет, но я мог бы им быть, и тогда вы бы славно попались. Но вы сказали «во-первых». А во-вторых?
– Весь город знает, чем занимается этот субъект. Детям он пишет письма. В каждую девушку он влюблен. Кроме того, он проповедует вещи, о которых другие не смеют и подумать, проводит время в кошмарных местах, с ужасными женщинами. Так, по крайней мере, мне говорили о нем.
– Однако, по-видимому, он вас все-таки интересует?
Якоб Вассерман
«В середине сентября произошел удивительный случай, о котором потом несколько дней напролет говорил весь Мюнхен.
По вечерам в окрестностях академии и университета бывало оживленно. На одной из улиц, которые пересекаются здесь под прямыми углами, стоял ветхий дом старинной архитектуры. В тот самый час, когда студенты обычно расходились с последних лекций, на крыльце этого дома раздался громкий крик, вслед за которым из ворот на улицу выбежала совершенно голая девушка, руки ее были подняты кверху, словно для защиты от какого-то тяжелого предмета, падающего с неба. Все время, пока обнаженная бежала от расположенной во дворе мастерской художника до оживленной улицы, она продолжала беспрестанно вопить. Движение на улице сразу прекратилось; откуда ни возьмись, сбежалось множество народу. Окна квартир открывались, и в них появлялись испуганные лица, на которых испуг мало-помалу уступал место игривому настроению…»
Якоб Вассерман
Свободная любовь
* * *
Глава 1
В середине сентября произошел удивительный случай, о котором потом несколько дней напролет говорил весь Мюнхен.
По вечерам в окрестностях академии и университета бывало оживленно. На одной из улиц, которые пересекаются здесь под прямыми углами, стоял ветхий дом старинной архитектуры. В тот самый час, когда студенты обычно расходились с последних лекций, на крыльце этого дома раздался громкий крик, вслед за которым из ворот на улицу выбежала совершенно голая девушка, руки ее были подняты кверху, словно для защиты от какого-то тяжелого предмета, падающего с неба. Все время, пока обнаженная бежала от расположенной во дворе мастерской художника до оживленной улицы, она продолжала беспрестанно вопить. Движение на улице сразу прекратилось; откуда ни возьмись, сбежалось множество народу. Окна квартир открывались, и в них появлялись испуганные лица, на которых испуг мало-помалу уступал место игривому настроению.
Вокруг девушки образовался кружок студентов. С робкой и комической беспомощностью смотрели они на обнаженную, которая теперь лежала на земле. Лицо девушки было закрыто руками; распущенные короткие золотисто-каштановые волосы едва закрывали шею; смуглая кожа время от времени подергивалась, как у нервных животных. Кто-то предложил позвать врача, но среди присутствующих не оказалось ни одного медика. Одни зрители были бледны, другие смущенно улыбались, третьи имели суетливый, озабоченный вид, иные были заинтригованы, точно спектаклем, и напряженно ожидали продолжения событий; некоторые замечали, что общественной нравственности угрожает опасность. В целом же, независимо от внешнего проявления своих эмоций, все эти люди выражали живую заинтересованность происходящим. Сотни глаз не отрываясь следили за каждым движением девушки, рассматривали каждый волнующий изгиб ее упругого тела. Когда же смуглая нимфа судорожно сжала ладонью грудь, пытаясь спрятать ее от любопытных взглядов, по толпе пронесся слабый стон, а некоторые юноши едва не перестали дышать от нахлынувших чувств. Впрочем, стоит ли удивляться – в пору, о которой идет речь, созерцание обнаженной натуры для большинства студентов было удовольствием недоступным. Если, конечно, не считать снимков полураздетых красоток варьете, которые передавались друг другу, словно ценные реликвии, хранились под подушками и оттого были невероятно потрепаны.
Тем временем кольцо становилось все теснее, потому что стоявшие позади напирали на передних. Наконец, прокладывая себе дорогу локтями, к лежащей на земле девушке пробрался какой-то мужчина, опустился на колени и бережно прикрыл ее своим длинным светло-серым плащом. Потом он попытался приподнять голову обнаженной, но неожиданно встретил судорожное сопротивление.
Тогда склонившийся человек жестом подозвал кого-то из стоявших рядом молодых людей. Еще один студент вызвался помочь, и вместе они подняли девушку; толпа машинально расступилась, освободив узкий проход, и трое людей поспешно направились со своей ношей к тому самому дому, из ворот которого выбежала эта восточная красавица. Им удалось закрыть ворота, прежде чем туда успел сунуться кто-нибудь из зевак, и задвинуть большой ржавый засов. С улицы в ворота начали стучать и колотить; потом послышались крики и свист, спустя некоторое время все стихло.
Когда шум снаружи прекратился, трое мужчин услышали тихий плач молодой девушки, не отнимавшей рук от лица. Подъезд, в который они вошли, был пуст; плачущая красавица не говорила ни слова; во всем доме не было слышно ни звука.
– Что же нам теперь делать, господин Вандерер? – спросил один из молодых людей (его звали Давиль) с тенью злорадства на лице. Возможно, впрочем, что выражение злорадства обусловливала назойливо-застенчивая улыбка, почти не сходившая с его лица. Но в этот миг улыбка на время исчезла, потому что через двор поспешно шел неуклюжей походкой человек лет тридцати пяти. Подойдя к обнаженной, он склонился над ней и прошептал с выражением пламенного чувства на лице: «Гиза! Гиза!» Потом он легко подхватил лежавшую девушку на руки, что было удивительно при его слабом телосложении, пересек с нею двор и вошел в дверь квартиры на нижнем этаже.
Давиль отворил ворота и тотчас же был подвергнут допросу двумя полицейскими очень строгого вида. Вокруг стояли группами сотни людей, которые с любопытством начали снова тесниться к воротам. В эту минуту с лестницы спустились две молодые дамы, одна стройная, бледная, с аристократичной внешностью, другая с вульгарным смехом и говором. Вандерер невольно обратил внимание на задумчивое выражение лица первой, которую спутница назвала Ренатой. В этом лице было нечто, имевшее таинственную связь с происшествием, свидетелем которого он только что был. Обе дамы сели в коляску, стоявшую на противоположной стороне улицы, и уехали.
Подошел жандарм, надменно оглядел с ног до головы Вандерера, сделавшего вид, будто он здесь стоит в ожидании кого-то или чего-то, и важно зашагал во двор.
Собственно, стоял Вандерер в ожидании собственного плаща, а может быть, и чего-то гораздо большего. Образ обнаженной девушки затронул в его душе какие-то дремавшие струны. Нет, нагая красота не была для него в диковинку. В отличие от сотен юношей и молодых мужчин, не имевших гроша за душой и воспевавших любовь во всех ее проявлениях, Вандерер располагал достаточными финансовыми средствами и время от времени спускал их в борделях с девицами, готовыми разделить предрассветные часы с каждым, кто мог платить. Были среди них и страстные восточные дивы, и белокурые хохотушки – с кем только не забавлялся Вандерер, щедро благодаря их звонкой монетой. С этими красавицами, не знающими стыда и устали в постели, он многому научился и многое узнал. Непознанной осталась лишь любовь. Именно ее смутным предвкушением наполнилось в этот миг сердце Вандерера.
Толпа начала таять в легком сентябрьском тумане, спустившемся на улицы. Наконец появились два репортера, которые с глуповатым видом принялись изучать местность, точно никогда прежде не видели ни крыльца, ни двора. Наверху открылась дверь, и на лестнице послышались звуки рояля. Снова появился жандарм в тяжелых, внушающих уважение сапогах.
Когда никого не осталось поблизости, Вандерер вошел во двор и, набравшись мужества, отворил манившую его дверь. Но тот самый человек, который унес девушку, преградил ему путь и вышел вместе с ним во двор. На нем была маленькая зеленая шапочка: густые рыжевато-белокурые усы на польский манер висели вниз. На руке мужчины был плащ, и, подавая его Вандереру, он медленно произнес:
– Она желает побыть одна. Надо дать ей успокоиться.
Потом прибавил, устремив глаза вдаль, с ораторским ударением на словах:
– Представьте себе трагедии всех человеческих душ собранными в одной – и вы получите объяснение того, чему только что были свидетелем.
Вандерер сделал сначала глубокомысленное лицо, потом представился и покраснел, потому что это показалось ему мальчишеством. Человек в зеленой шапочке отвернулся, будто не слыша ничего; сжав губы и закрыв глаза, он, очевидно, переживал тяжелую внутреннюю борьбу. Через минуту он повернулся к Вандереру и равнодушно пробормотал:
– Зюссенгут. Христиан Зюссенгут.
Потом они вдвоем пошли по улице по направлению к академии. Зеваки там все еще не успокоились, и каждый придумывал объяснение, одно пикантнее другого. Вандерер не хотел проявлять любопытство и молча шагал рядом с человеком в зеленой шапке. Зюссенгута, по-видимому, знали многие, ему часто кланялись, большею частью с почтительной сдержанностью, исключавшей близкие отношения. Наконец он обратился к Вандереру с несколькими безразличными вопросами. Он забыл, как его зовут. «Анзельм Вандерер». – «Откуда вы родом?» – «Из Вены. Там долго жили мои родители. Но родился я во Франконии, в Нюрнберге». – «Что вы изучаете, охотно ли занимаетесь наукой?» – «Нет, душа моя остается равнодушной». – «Так вы, быть может, из породы скитальцев?» – «Нет, я вовсе не скиталец; скорее флегматик». – «Университетская наука проникнута рутиной, она губит в молодых людях девять десятых их индивидуальности».
При упоминании науки Зюссенгут вдруг ударился в пафос, как будто пафос был единственной привычной для него атмосферой. Жесты его сделались широкими, подчеркнуто благородными, словно он выступал на форуме. На прохожих он перестал обращать внимание. Вандерер соглашался с ним, вставляя время от времени соответствующие замечания, которые Зюссенгут принимал с преувеличенным восторгом. У Вандерера минутами было такое чувство, как будто он присутствует на театральном представлении. Он чувствовал себя неловко и соглашался иногда не совсем искренно.
– Куда же вы идете? – спросил Зюссенгут, как будто они были знакомы целую вечность. Вандерер стал объяснять, что ему надо зайти к знакомым. Но тот уже не слушал его. К Зюссенгуту с радостным смехом подбежала хорошенькая нарядная девочка. Он наклонился к ребенку, и на лице его появилось выражение болезненного экстаза, восторга, граничащего со страданием. Казалось, сверхчеловеческая любовь и преданность нашли наконец в нем свое исчерпывающее выражение. Вандерер поклонился и ушел.
Осень, чудная золотая осень! Пора итогов и начинаний, думал Анзельм Вандерер, спускаясь к английскому парку, расцвеченная листва которого вырисовывалась изящным узором на фоне темнеющего неба. Предвечернее оживление царило на улицах. Вандерер шел, и смутные волнующие сердце образы всплывали в его сознании. Ярким пламенем вспыхивали пробуждающиеся желания и гасли, растворяясь в серых тонах надвигающейся ночи. Его упорно преследовал образ Зюссенгута, отталкивающий и притягательный, загадочно сливающийся с его собственной индивидуальностью.
Четверть часа спустя Вандерер звонил у подъезда своей приятельницы, старой баронессы Терке.
У Терке его встретили радушно. В последний раз они виделись в Вене год тому назад. У баронессы была масса новостей, и она одну за другой выкладывала их без всякой связи Вандереру. Ее лицо напоминало раскрашенную мумию; волосы лежали искусными завитками. Она страдала одышкой, но старалась выглядеть забавной и любезной.
Баронесса была неиссякаемым источником новостей и нередко высказывала вскользь мысли, которые слушатели записывали потом в дневник как «максимы и изречения». Иногда ее неудержимый смех сменялся свинцовым полусном морфинистов, после которого она встряхивалась, лихо ударяла себя по бедрам и, изображая беспечную улыбку, продолжала разговор, о котором другие уже давно забыли. Этими другими, кроме Вандерера, были ее невестка графиня Терке, полная достоинства аристократка, и племянница Адель, с трудом сдерживавшая лукавую веселость своего легкомысленного нрава.
Они сидели в ярко освещенной комнате, обитой пурпуровой материей. За окнами уже господствовал вечер, наполняя улицу голубым сумраком. Сидя в этой комнате, где годами не случалось ничего важного, среди людей, застывших в своей аристократической неизменности, Анзельм Вандерер думал о жизни, полной борьбы и опасностей, подобно мальчику, читающему страшные рассказы за семейным столом.
Графиня Терке, со своими серебристо-белыми волосами, имела вид королевы эпохи рококо; она то ли сострадательно, то ли насмешливо слушала болтовню баронессы, рассказывавшей о своей собаке, – и эта тема грозила затянуться до бесконечности. Тигр был замечательной собакой; жаль только, что жир не позволял ему бегать, к тому же у этого пса было только три ноги, готовые его слушаться. Ни одна подушка не была для него достаточно мягка, никакое лакомство достаточно хорошо, никакая ласка достаточно нежна; а когда Тигр оставался один, то перед его постелью ставили зеркало, чтобы умилостивить созерцанием собственного «я». Тут история с зеркалом напомнила случай с одной дамой, которая до тех пор стояла перед зеркалом, пока не сошла с ума. Этот случай имел связь с другим, в высшей степени интересным происшествием, о котором стоило вспомнить. Но этот рассказ был прерван приходом молодой особы, при виде которой Вандерер побледнел. Ему тотчас же представился дом на Амалиенштрассе, на лестнице которого он видел эту же самую стройную, бледную девушку. Молодая графиня представила ее и села с фрейлейн Фукс на оттоманку.
Анзельм Вандерер вдруг стал разговорчивым и, внутренне робея, наговорил много лишнего.
– Не странная ли случайность, – обратился он к молодой девушке, – что я встречаю вас сегодня во второй раз, фрейлейн, и именно здесь?
Молодая девушка повернула к нему лицо и удивленно посмотрела на его воротник. Он смутился, хотел подробнее рассказать о встрече с нею и о случае, который предшествовал ей; но в конце концов рассказал только о своем знакомстве с Зюссенгутом. Нанизав целый ряд предложений в виде фельетона, он заметил, что рассказ его встретил мало сочувствия. Только глаза фрейлейн Фукс были неотступно обращены на него. Это были черные глаза, походившие в полумраке комнаты на блестящие уголья, – глаза, которым недоставало глубины.
– Вы знаете его? – спросил Вандерер.
– Этого еврея? Нет.
– Вы презираете его за то, что он еврей?
Она пожала плечами и открыла рот, что придало ее лицу детски беспомощный вид.
– Мне много рассказывали о нем мои подруги, – прибавила она тише, опуская глаза.
На этом беседа завершилась; с этой минуты каждый из них под шум разговора был занят только своими мыслями.
Анзельм и фрейлейн Фукс собрались уходить одновременно. Ее экипаж ожидал внизу, но так как вечер выдался прекрасный, то ей захотелось пройтись пешком, если Вандереру не покажется скучным проводить ее. Когда они спускались с лестницы, Вандерер любовался свободной грацией движений Ренаты. В ней не было и следа сдержанности и чопорности, присущих молодым женщинам ее круга.
Был необычный вечер. Полузадернутые туманом фонари, точно лампады, висели в пространстве; воздух как будто дымился и делал невидимым все, что нарушало гармонию близящейся ночи. Они шли медленно и, можно сказать, бездумно. Наконец Вандерер сказал, где он видел Ренату несколько часов тому назад. Теперь ей стало понятно замечание, смысл которого он не хотел объяснять в присутствии Терке. Фрейлейн Фукс остановилась, и ему показалось, что она вдруг стала выше ростом; со свойственной ей особенной манерой она полуоткрыла рот, как бы ища ответа. Вандерер, странно взволнованный, спросил, что, собственно, она имеет против Зюссенгута.
– Во-первых, я ненавижу евреев! – ответила она.
– Серьезно? – Вандерер улыбнулся.
– А разве вы еврей? – спросила Рената Фукс, тоже улыбаясь.
– Нет, но я мог бы им быть, и тогда вы бы славно попались. Но вы сказали «во-первых». А во-вторых?
– Весь город знает, чем занимается этот субъект. Детям он пишет письма. В каждую девушку он влюблен. Кроме того, он проповедует вещи, о которых другие не смеют и подумать, проводит время в кошмарных местах, с ужасными женщинами. Так, по крайней мере, мне говорили о нем.
– Однако, по-видимому, он вас все-таки интересует?
Другие электронные книги автора Якоб Вассерман
Золото Кахамарки




 4.5
4.5
Свободная любовь




 2.67
2.67