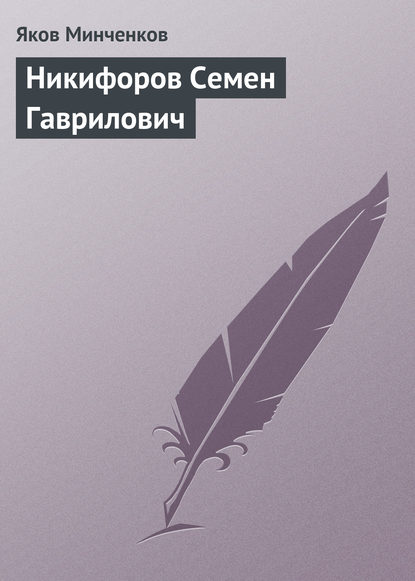По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Никифоров Семен Гаврилович
Автор
Жанр
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А знаешь, – говорю, – есть у меня секретное средство прочив твоего несчатья. Только в нем риск – пан или пропал. Или портрет твой совсем погибнет, или будешь писать его легко, как по свежему холсту. Только вот условие: чтоб ты перестал волноваться и ругать питерцев и Академию.
Семен Гаврилович взмолился:
– Брат родной, научи! Спаси мою душу! Не только ругать никого не буду, а всех, даже каменных сфинксов, что сидят перед Академией, перецелую!
– Ладно. Возьми большой флакон скипидарного лака, вели министру нос зажать, чтоб не задохнулся от скипидара, и залей сплошь обратную сторону портрета лаком. А там видно будет.
Послушался, сделал, как я ему посоветовал, обождал день, чтоб лак просох, и возвратился с первого сеанса после этой операции сияющий.
– Век, – говорит, – тебя не забуду, спас ты меня от гибели: обновился, как чудотворный образ, лик министра, краски выступили и не проваливаются куда-то в бездну. Вижу – министр повеселел и, должно быть, деньги к расплате готовит.
Я уезжал в Москву. Никифоров провожал меня на вокзале со слезами на глазах.
– Ты уезжаешь! Там, в Москве, уже сухо, тепло, березы распускаются, а здесь каменные стены домов еще не обогрелись, и мне надо писать портрет редактора. Как бы и от него не пришлось в Неву прыгать. Эх, лучше бы мне в золотарях быть!
Он собрался с деньгами, обобрал, как говорил, пауков, министра и редактора, – и стремглав полетел в Крым. Там, в Гурзуфе, подыскал и купил маленькое местечко и принялся строить мастерскую. Ушел весь в эту заботу. Писал мне: «Создаю себе точку опоры, откуда начну вылазки на весь свет божий. Вычищу палитру от рязанской грязи, вымою кисти и размахнусь солнцем и бирюзовой водой. Скоро, скоро возьму Крым за рога!»
Однако ему не удалось потягаться с Крымом. Там подстерегала его судьба и серьезно погрозила пальцем. Сердце у него стало так плохо работать, что он не мог ходить на этюды. Он возвратился в Москву, и здесь доктора нашли, что здоровье его в Крыму значительно ухудшилось от физической работы на стройке и хождения по горам. Мастерскую он построил, но ничего из Крыма не привез. Пришлось на зиму снова вернуться в рязанскую деревню. Ему не дает спать Малявин:
– Как это он может писать такие большие картины, а я нет? Берется за большую картину «Прасол»: здоровенный детина купил корову с телушкой и, сияющий, с улыбкой до ушей, идет со скотного двора.
Тип в картине передан верно – живой человек, но того, чего хотелось Никифорову – малявинского здорового размаха – конечно, не было. Чувствовалась потуга на большое.
Я ему говорил:
– Ну чего ты тянешься за здоровенным Малявиным! Ведь он тебя одним пальцем к земле придавит, разве у него сердце такое, как у тебя? А ты у себя последние силы выматываешь из-за одного только размера картины. И нет в этом никакой нужды, так как и в малых вещах можно сделать большое.
Никифоров как будто послушался, поехал еще в деревню и привез небольшие, но очень хорошие этюды крестьян за зимней работой. Все было сделано по-никифоровски: легко, просто, искренне, без всякой натяжки.
Поехали в Петербург. «Прасола» увидел Серов; посмотрел внимательно, а потом показал пальцем вниз, где Никифоров хотел широким письмом щегольнуть и лихо, большой кистью, одним мазком завернул полушубок прасола, – сказал: – Не закручивай!
Никифоров со смехом говорил потом:
– Нет, брат, Серова на мякине не проведешь! Меня этот полушубок и дома мучил: залихватская пустота. Вот и он высек меня за него.
Все вещи Никифорова были проданы, один «Прасол» никого не затронул. Семена Гавриловича это задело.
– Значит, в этот раз я не допрыгнул с «Прасолом», – говорил он. – Но погоди, на этом не остановлюсь, отдохну да опять что-либо большое затею. А неудачу мне и телушка, что с прасолом позировала, предсказала. Писал я картину на дворе, в мороз, оставил большую палитру с горой красок и ушел погреться в избу, а телушка все краски и слизала. По этой ли причине или от чего другого, но только она подохла.
Лежит вечером Семен Гаврилович на кровати, отдыхает от сеанса, читает письмо из Москвы и, вижу – злится. Усмехнется, вздохнет, досадливо махнет рукой, а потом пускается в рассуждение:
– Скажи, пожалуйста, отчего это так, что сколько ни писали, сколько ни говорили умные люди о значении искусства, а до сих пор не вдолбили настоящего представления о нем не только в головы обывателя, но даже большой части интеллигенции и наших учителей, которые в школах всем задом брыкаются на искусство?
– Не все, – говорю, – большинство ходит в кино.
Никифоров рассмеялся.
– Во-во, им чтоб в трубу все вверх ногами летело да в воду прыгало, а вот послушай, что сестренка пишет. У нее, скажу тебе, талант к музыке, большой из нее толк выйти может. Так вот учительница-естественница запрещает ей заниматься на рояле, потому что музыка может помешать ей в естественных науках. А у девочки такая охота, что она к подругам бегает, чтоб поиграть, так как своего инструмента нет. Думаю теперь купить ей пианино. Нет, ты подумай, эта каракатица хочет удушить у человека потребность, которую признают люди не ей чета, а такие гиганты наши, как Менделеев, Павлов, Бехтерев, Бородин, да, наконец, и все человечество. Она, протоплазма, не знает, что Фидий, Микеланджело, Данте, Шекспир, Гете, Бетховен, Вагнер, Глинка дали человечеству не меньше, чем Архимед, Ньютон, Дарвин и другие великаны науки. Верно я говорю?
– На этот раз – стопроцентная истина.
– Так вот, я пишу сестренке, чтоб она сказала учительнице, что наоборот: естественные науки мешают ей заниматься музыкой. Пускай выгонят ее из гимназии, дорогу ей найдем, а учительнице я сам еще напишу: «Уважаемая Семяпочка! Счастье человечества не в одних собачьих кишках и бараньих мозгах живет, которых и мы не отрицаем, но и в мыслях и чувствах людей искусства». А то что ж? И напишу, хоть редакция неважная. Им ведь кажется наше дело пустым и чрезвычайно легким, один козерог выразился даже так, что для искусства большого ума не надо, а достаточно одного таланта. Я1 брат, показал одному, насколько легко работать нам, чуть было не угробил его.
– Ты мог угробить?
– Еще как! В Крыму один чиновник пишет пейзажи и продает непонимающей сезонной публике. Известно что: синее море, зеленые кипарисы. Полное невежество, а уже самоуверенность. Приходит ко мне. «Вы, – говорит, – художник, читал о вас в газетах, так я хочу взять у вас несколько уроков для своей, так сказать, шлифовки». Понимаешь? – шлифовки, когда человек еще ни а, ни бе не понимает. Ладно, думаю, пошлифую тебя. Уроков, говорю, не даю, но ради шлифовки готов заняться с вами.
Пошли мы с ним на берег моря, стал он писать камни и воду. Положит мазок, а я говорю: «Не так, всмотритесь – тон не тот, проверьте его с отношением к камню. Возьмите точное отношение неба к скалам. Каждый мазок кладите без повторения и верный, в упор». Он туда-сюда, хочет отделаться попроще, смазать как-нибудь, а я не даю, наседаю, шагу не позволяю сделать в отсебятину. И так часа три. Пот с него градом. Кончился сеанс, побежал он домой опрометью. На другой день приходит ко мне его жена и от имени мужа просит обождать с уроками несколько дней. Спрашивает еще, сколько они должны мне за урок. «А что, – говорю, – с вашим мужем?» – «Ох, – отвечает жена, – у него после урока все разбито, слег, и ночью даже бред был». – «Это, – говорю, – всегда бывает при шлифовке. Денег я не беру за это дело, а только вы не пускайте вашего мужа брать уроки, так как идущие в шлифовку после третьего сеанса на стену лезут или начинают жен бить, ежели семейные». С тех пор ни мужа, ни жены я больше не видел.
Выставка в Петербурге закончилась. Назначено было последнее товарищеское собрание. Едем туда с Никифоровым, и я прошу его дорогой:
– Ты хоть на прощание не спорь со стариками, чтоб чего не вышло.
– Ладно, – отвечает он, – там видно будет.
А я чувствую, что у него в голове что-то засело.
На собрании опять поднялся проклятый вопрос о мерах улучшения качества выставки, о замене драпировки материей другого цвета и других мероприятиях, которые, конечно, не могли изменить общего положения вещей.
Даже Репин с некоторым пафосом заявил:
– Действительно! Это положительно необходимо! А то – скажите, пожалуйста, – все этот коричневый фон, это однообразие! Ведь надо же, наконец!..
А Маковский подхватил:
– Конечно, необходимо! – И, обращаясь к Никифорову, как бы с укоризной продолжал: – А то вот, батенька мой, все говорят: не то, не то, а сами не знают, что надо.
– А что надо? – спросил, приподымаясь, Никифоров.
– Как что? Надо, чтоб, во-первых, все поняли, что это необходимо, что без этого нельзя.
– Без чего нельзя? – спрашивает Семен Гаврилович.
Маковскому тон его, видимо, не понравился. Сверля глазами своего оппонента, он начал горячиться:
– Нельзя без того, чтоб не поднять выставку, не заинтересовать публику и не привлечь новые силы.
У Никифорова тоже сверкнули глаза. Тяжело дыша, с перерывами, он заговорил:
– Улучшить… да… привлечь… ну да… а чем улучшить и кого привлечь? Разве вот мы… ну да… молодые, не шли к вам, а вы вот… не гнали нас?.. Разве вы нас, безбородых, слушаете?
Раздались протестующие голоса: «Он говорит не по существу! Зачем это?»
Но Никифорова нельзя уже было удержать. Он продолжал:
– Не по существу? А где ваше существо? Где ваши заветы? Да, ваше значительное? Разве не разменялись на мелочи?.. Вот… не торгуете уже в розницу?
Голоса:
Семен Гаврилович взмолился:
– Брат родной, научи! Спаси мою душу! Не только ругать никого не буду, а всех, даже каменных сфинксов, что сидят перед Академией, перецелую!
– Ладно. Возьми большой флакон скипидарного лака, вели министру нос зажать, чтоб не задохнулся от скипидара, и залей сплошь обратную сторону портрета лаком. А там видно будет.
Послушался, сделал, как я ему посоветовал, обождал день, чтоб лак просох, и возвратился с первого сеанса после этой операции сияющий.
– Век, – говорит, – тебя не забуду, спас ты меня от гибели: обновился, как чудотворный образ, лик министра, краски выступили и не проваливаются куда-то в бездну. Вижу – министр повеселел и, должно быть, деньги к расплате готовит.
Я уезжал в Москву. Никифоров провожал меня на вокзале со слезами на глазах.
– Ты уезжаешь! Там, в Москве, уже сухо, тепло, березы распускаются, а здесь каменные стены домов еще не обогрелись, и мне надо писать портрет редактора. Как бы и от него не пришлось в Неву прыгать. Эх, лучше бы мне в золотарях быть!
Он собрался с деньгами, обобрал, как говорил, пауков, министра и редактора, – и стремглав полетел в Крым. Там, в Гурзуфе, подыскал и купил маленькое местечко и принялся строить мастерскую. Ушел весь в эту заботу. Писал мне: «Создаю себе точку опоры, откуда начну вылазки на весь свет божий. Вычищу палитру от рязанской грязи, вымою кисти и размахнусь солнцем и бирюзовой водой. Скоро, скоро возьму Крым за рога!»
Однако ему не удалось потягаться с Крымом. Там подстерегала его судьба и серьезно погрозила пальцем. Сердце у него стало так плохо работать, что он не мог ходить на этюды. Он возвратился в Москву, и здесь доктора нашли, что здоровье его в Крыму значительно ухудшилось от физической работы на стройке и хождения по горам. Мастерскую он построил, но ничего из Крыма не привез. Пришлось на зиму снова вернуться в рязанскую деревню. Ему не дает спать Малявин:
– Как это он может писать такие большие картины, а я нет? Берется за большую картину «Прасол»: здоровенный детина купил корову с телушкой и, сияющий, с улыбкой до ушей, идет со скотного двора.
Тип в картине передан верно – живой человек, но того, чего хотелось Никифорову – малявинского здорового размаха – конечно, не было. Чувствовалась потуга на большое.
Я ему говорил:
– Ну чего ты тянешься за здоровенным Малявиным! Ведь он тебя одним пальцем к земле придавит, разве у него сердце такое, как у тебя? А ты у себя последние силы выматываешь из-за одного только размера картины. И нет в этом никакой нужды, так как и в малых вещах можно сделать большое.
Никифоров как будто послушался, поехал еще в деревню и привез небольшие, но очень хорошие этюды крестьян за зимней работой. Все было сделано по-никифоровски: легко, просто, искренне, без всякой натяжки.
Поехали в Петербург. «Прасола» увидел Серов; посмотрел внимательно, а потом показал пальцем вниз, где Никифоров хотел широким письмом щегольнуть и лихо, большой кистью, одним мазком завернул полушубок прасола, – сказал: – Не закручивай!
Никифоров со смехом говорил потом:
– Нет, брат, Серова на мякине не проведешь! Меня этот полушубок и дома мучил: залихватская пустота. Вот и он высек меня за него.
Все вещи Никифорова были проданы, один «Прасол» никого не затронул. Семена Гавриловича это задело.
– Значит, в этот раз я не допрыгнул с «Прасолом», – говорил он. – Но погоди, на этом не остановлюсь, отдохну да опять что-либо большое затею. А неудачу мне и телушка, что с прасолом позировала, предсказала. Писал я картину на дворе, в мороз, оставил большую палитру с горой красок и ушел погреться в избу, а телушка все краски и слизала. По этой ли причине или от чего другого, но только она подохла.
Лежит вечером Семен Гаврилович на кровати, отдыхает от сеанса, читает письмо из Москвы и, вижу – злится. Усмехнется, вздохнет, досадливо махнет рукой, а потом пускается в рассуждение:
– Скажи, пожалуйста, отчего это так, что сколько ни писали, сколько ни говорили умные люди о значении искусства, а до сих пор не вдолбили настоящего представления о нем не только в головы обывателя, но даже большой части интеллигенции и наших учителей, которые в школах всем задом брыкаются на искусство?
– Не все, – говорю, – большинство ходит в кино.
Никифоров рассмеялся.
– Во-во, им чтоб в трубу все вверх ногами летело да в воду прыгало, а вот послушай, что сестренка пишет. У нее, скажу тебе, талант к музыке, большой из нее толк выйти может. Так вот учительница-естественница запрещает ей заниматься на рояле, потому что музыка может помешать ей в естественных науках. А у девочки такая охота, что она к подругам бегает, чтоб поиграть, так как своего инструмента нет. Думаю теперь купить ей пианино. Нет, ты подумай, эта каракатица хочет удушить у человека потребность, которую признают люди не ей чета, а такие гиганты наши, как Менделеев, Павлов, Бехтерев, Бородин, да, наконец, и все человечество. Она, протоплазма, не знает, что Фидий, Микеланджело, Данте, Шекспир, Гете, Бетховен, Вагнер, Глинка дали человечеству не меньше, чем Архимед, Ньютон, Дарвин и другие великаны науки. Верно я говорю?
– На этот раз – стопроцентная истина.
– Так вот, я пишу сестренке, чтоб она сказала учительнице, что наоборот: естественные науки мешают ей заниматься музыкой. Пускай выгонят ее из гимназии, дорогу ей найдем, а учительнице я сам еще напишу: «Уважаемая Семяпочка! Счастье человечества не в одних собачьих кишках и бараньих мозгах живет, которых и мы не отрицаем, но и в мыслях и чувствах людей искусства». А то что ж? И напишу, хоть редакция неважная. Им ведь кажется наше дело пустым и чрезвычайно легким, один козерог выразился даже так, что для искусства большого ума не надо, а достаточно одного таланта. Я1 брат, показал одному, насколько легко работать нам, чуть было не угробил его.
– Ты мог угробить?
– Еще как! В Крыму один чиновник пишет пейзажи и продает непонимающей сезонной публике. Известно что: синее море, зеленые кипарисы. Полное невежество, а уже самоуверенность. Приходит ко мне. «Вы, – говорит, – художник, читал о вас в газетах, так я хочу взять у вас несколько уроков для своей, так сказать, шлифовки». Понимаешь? – шлифовки, когда человек еще ни а, ни бе не понимает. Ладно, думаю, пошлифую тебя. Уроков, говорю, не даю, но ради шлифовки готов заняться с вами.
Пошли мы с ним на берег моря, стал он писать камни и воду. Положит мазок, а я говорю: «Не так, всмотритесь – тон не тот, проверьте его с отношением к камню. Возьмите точное отношение неба к скалам. Каждый мазок кладите без повторения и верный, в упор». Он туда-сюда, хочет отделаться попроще, смазать как-нибудь, а я не даю, наседаю, шагу не позволяю сделать в отсебятину. И так часа три. Пот с него градом. Кончился сеанс, побежал он домой опрометью. На другой день приходит ко мне его жена и от имени мужа просит обождать с уроками несколько дней. Спрашивает еще, сколько они должны мне за урок. «А что, – говорю, – с вашим мужем?» – «Ох, – отвечает жена, – у него после урока все разбито, слег, и ночью даже бред был». – «Это, – говорю, – всегда бывает при шлифовке. Денег я не беру за это дело, а только вы не пускайте вашего мужа брать уроки, так как идущие в шлифовку после третьего сеанса на стену лезут или начинают жен бить, ежели семейные». С тех пор ни мужа, ни жены я больше не видел.
Выставка в Петербурге закончилась. Назначено было последнее товарищеское собрание. Едем туда с Никифоровым, и я прошу его дорогой:
– Ты хоть на прощание не спорь со стариками, чтоб чего не вышло.
– Ладно, – отвечает он, – там видно будет.
А я чувствую, что у него в голове что-то засело.
На собрании опять поднялся проклятый вопрос о мерах улучшения качества выставки, о замене драпировки материей другого цвета и других мероприятиях, которые, конечно, не могли изменить общего положения вещей.
Даже Репин с некоторым пафосом заявил:
– Действительно! Это положительно необходимо! А то – скажите, пожалуйста, – все этот коричневый фон, это однообразие! Ведь надо же, наконец!..
А Маковский подхватил:
– Конечно, необходимо! – И, обращаясь к Никифорову, как бы с укоризной продолжал: – А то вот, батенька мой, все говорят: не то, не то, а сами не знают, что надо.
– А что надо? – спросил, приподымаясь, Никифоров.
– Как что? Надо, чтоб, во-первых, все поняли, что это необходимо, что без этого нельзя.
– Без чего нельзя? – спрашивает Семен Гаврилович.
Маковскому тон его, видимо, не понравился. Сверля глазами своего оппонента, он начал горячиться:
– Нельзя без того, чтоб не поднять выставку, не заинтересовать публику и не привлечь новые силы.
У Никифорова тоже сверкнули глаза. Тяжело дыша, с перерывами, он заговорил:
– Улучшить… да… привлечь… ну да… а чем улучшить и кого привлечь? Разве вот мы… ну да… молодые, не шли к вам, а вы вот… не гнали нас?.. Разве вы нас, безбородых, слушаете?
Раздались протестующие голоса: «Он говорит не по существу! Зачем это?»
Но Никифорова нельзя уже было удержать. Он продолжал:
– Не по существу? А где ваше существо? Где ваши заветы? Да, ваше значительное? Разве не разменялись на мелочи?.. Вот… не торгуете уже в розницу?
Голоса: