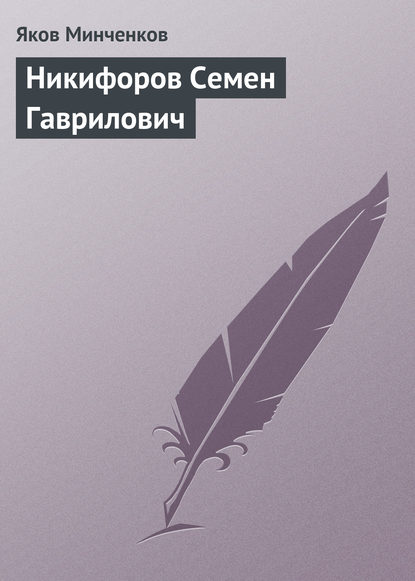По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Никифоров Семен Гаврилович
Автор
Жанр
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Какое право он имеет так говорить?
Никифоров с болью в голосе:
– Да, имею, потому что… ну вот, мне больно, и я тоже люблю и хочу, чтоб было хорошо. Вы ведь были молоды и по-новому творили, а теперь новое не признаете и вот ищете выхода, а надо, чтоб вы, как прежде, любили свободу, чтоб сами были молоды и с нами вместе, и мы тогда горы опрокинем! Вы полюбите нас, дайте дорогу молодости, и тогда придут к вам и тогда… да – тогда все будет наше, родное, и не умрет, а вас полюбим. А если нет – так не будет жизни, все рушится, и вам, да, вам достанется одно проклятье!
Он выкрикнул последнее слово, упал на стол и забился в рыданиях.
Произошло замешательство, его стали успокаивать, а Репин произнес серьезно:
– А знаете ли? Он прав, нам о себе надо бы подумать, а не так – искусственно.
Я увез совсем разбитого Никифорова с выставки. Дома Семен Гаврилович, казалось, совсем пришел в себя, успокоился, но, улегшись в постель, вдруг заявил:
– Когда так, то так! Ни на копейку меньше!
– Ты что еще задумал? – спрашиваю.
– Шабаш! Все побоку: и Рязанщину и Крым!
– Ну, а дальше что?
– А дальше то, что еду я в Рим.
– Подожди: ты, кажется, еще не пришел в себя и перепутал, где Рим и где Крым.
– Говорят тебе, в Рим, и не перепутал: река Тибр, Форум, Колизей, Леонардо да Винчи, Виа Аппиа, акведук, термы Каракаллы, римский папа и макарони. Справься по энциклопедии.
– Нет, ты угорел!
– Как хочешь – подохну, а поеду!
– Ну, если подохнешь, то не поедешь, но ты хоть скажи, в чем дело?
– Изволь, теперь я уже могу говорить. Слушай. Крым оказался – сущая брехня! Все в нем есть и ничего нет. Опошлен. Дамочки и проводники, а в парках румынские музыканты завывают. Силы нет, мармелад. В другом месте надо себе зарядку делать, а там только заканчивать, под солнцем и на фоне моря. И надо сил набираться. Все мы жиденькие, у стариков силишек только на анекдоты осталось да на кислую мораль. Большого нет ничего, разве еще у Репина да Сурикова. А большое надо, и ему следует учиться. А где учиться? Можно в Вавилоне – Париже, либо в Риме. По-моему, в Париже все готовый рецепт для современности: рецепт символизма, импрессионизма и всего, чего душа пожелает. Разжевал – и готово дело. А в Риме не то. Там великаны от вечного. У них рецепта нет, и для современности так прямо ничем не поживишься, но их размаху, монументальности, умению впитать в себя дух эпохи и отношению к ремеслу искусства поучиться следует. Они не чета нам, сладеньким да кисленьким. И поеду я туда, к ним, и там разверну такое, чтоб здесь все надулись от зависти и сразу лопнули.
– А сам ты не лопнешь от натуги?
– Ну что ж, по-твоему лучше воронье долголетие влачить? В Рим, и никаких чертей! – закончил Никифоров со смехом.
Я ему напомнил: «Не хочу быть столбовой дворянкой, а хочу быть вольною царицей». Но, кажется, он не расслышал и уже засыпал.
Никифоров собрал денег с выставки, и случилось еще так, что в Московской школе учреждена была стипендия на посылку за границу талантливого ученика. Стипендию присудили Никифорову как молодому художнику, недавно бывшему учеником школы.
И вот однажды вечером со Смоленского вокзала тихо тронулся поезд, увозя за границу слабое тело Семена Гавриловича и его сильный протестующий дух.
С ним поехала и оберегавшая его Н.
Из-за границы Никифоров писал:
«Италия, Рим! Когда же вы перестанете быть великой притягательной силой? Я не смогу описать того, чем дышу. Самый воздух насыщен ароматом искусства, как стены храма запахом фимиама. Чтобы описывать впечатление от великих мастеров, надо быть таким же великим поэтом, как они художники. Я чувствую только усиленное биение сердца. Титаническая сила духа Микеланджело, таинственная задумчивость Леонардо, торжество с некоторой пряностью Рафаэля, краски Тициана и болезненная нежность Боттичелли! «Примавера»! Какая тонкость, изящество! Если увидишь моего «Прасола», скажи ему, что он дурак! Чему он смеется? Над собой смеется! Довольно нам кланяться священному лаптю. Лучше рожу умыть, причесать патлы да приложиться к ручке одной из граций Боттичелли. Вот так надо рисовать! А вообще – не стоит и говорить об этом, а скорее самому приниматься за работу, где атмосфера способна заразить тебя великим, хотя бы ты думал по-новому, не по-ихнему. И я уже заквасил тесто, а что из него испеку – видно будет».
В Риме он с энтузиазмом набросился на работу. Чего только не переписал! Случайные наброски, этюды-пейзажи, натурщицы, лошади. Все писано на воздухе, под солнцем. Появились у него новые, сильные, южные краски, еще большая свежесть. Он добился разрешения писать конных солдат на их учении, чтобы изучать движение лошадей при беге на скачках через препятствия. Написал даже итальянского короля, едущего в экипаже на выставку, уделив внимание главным образом лошадям.
Все этюды его сводились к одной цели: написать картину, названия которой я от него не слыхал, но видел потом огромный холст с намеченными углем фигурами. Идея картины мне представлялась такой: воздух, свет, море, брызги волн, молодость, сила, здоровье, веселье. Все должно было быть полно движения и ликования жизни. Как раз то, чего жаждала слабая, больная натура Никифорова и чего она была физически лишена. На картине намечалась в брызгах морских волн игра женских тел и лошадей, поднятых на дыбы.
А когда уже было собрано много материала, когда художник приступил к осуществлению своей думы, своих радостных переживаний – судьба мягко сказала: «Ну, довольно с тебя и того, что помечтал о жизни». И сдавила ему грудь чугунной доской.
Сердце его стало сдавать, и врачи посоветовали ему отправиться домой, на родину.
Его подруга уложила все им сделанное и повезла больного в Россию, к себе в деревню. На первой же русской станции в руки Никифорова попала газета, где он прочитал о смерти своего учителя Серова, которому он так верил и которого так ценил. Стало ему совсем плохо.
Не пришлось ему пожить и в деревне, откуда отправили его в московские клиники, где я повидал его в последний раз.
Он находился в общей палате. Лежал вниз лицом, упершись локтями в подушку.
Я старался говорить с ним полушутливо, избегая всяких волнующих вопросов, и он отвечал в таком же тоне. А потом добавил:
– Нас, больных, как видишь, много, и воздуху порядочно, а мне все же не хватает. Иногда отсюда уносят вот в ту комнату… – (кивнул назад головой) – это тех, которые… – и замолчал.
При прощаньи он поднял голову, смотрел на меня детски умоляющими глазами, как будто просил пощады для себя: милости, крохотку из того, чем другие пользуются в таком изобилии и чего ему никогда не доставалось.
Я взглянул на ту страшную темную комнату, куда уносят… и мне показалось, что там уже его судьба готовит ему место на жесткой кровати.
А жизнь идет. В Петербурге снова стучат на выставке молотки, вешают картины, спорят из-за места. Среди шума и стука раздается чей-то голос:
– Товарищи, собрание! Важное известие из Москвы!
Передвижники спускаются с верхних галерей и собираются в центральном зале. Дубовской вынимает телеграмму.
Волков волнуется:
– Кто там стучит? Тихо!
Выставка замерла. Дубовской объявляет:
– Вчера вечером не стало нашего славного товарища Семена Гавриловича. Он сгорел в своей непосильной работе. Почтим его память.
Головы обнажаются, и группа товарищей-передвижников стоит в задумчивом безмолвии.
Осенью, направляясь по делам на юг, заехал я по дороге в деревню, где была мастерская Никифорова и куда звала меня Н., чтобы показать его римские работы и посоветоваться об устройстве выставки всех его работ. А мне и без того хотелось побывать в уголке моего друга.
Наступили уже ранние морозы, листва опала. Грустно стояли обнаженные деревья на фоне серого неба, предвещавшего снег. Замерз и пруд. Н. водила меня по местам, где работал Семен Гаврилович. Я их узнавал по его этюдам и картинам.
Здесь у пруда летом под солнцем лениво дремало стадо; сараи, на которых в зимних этюдах сверкал снег; скотный двор, откуда выходил веселый прасол.
Холодно было на дворе, холодно и в мастерской с верхним светом, построенной любовно, с расчетом на долгий, упорный труд.
А мне думалось: вот на что пошли усилия Никифорова, вот куда он вложил результаты упорного труда. И для чего? Чтоб все осталось брошенным, и верхнее окно, освещавшее картину художника, теперь стало никому не нужным и бессмысленно смотрело в пустое небо.
Никифоров с болью в голосе:
– Да, имею, потому что… ну вот, мне больно, и я тоже люблю и хочу, чтоб было хорошо. Вы ведь были молоды и по-новому творили, а теперь новое не признаете и вот ищете выхода, а надо, чтоб вы, как прежде, любили свободу, чтоб сами были молоды и с нами вместе, и мы тогда горы опрокинем! Вы полюбите нас, дайте дорогу молодости, и тогда придут к вам и тогда… да – тогда все будет наше, родное, и не умрет, а вас полюбим. А если нет – так не будет жизни, все рушится, и вам, да, вам достанется одно проклятье!
Он выкрикнул последнее слово, упал на стол и забился в рыданиях.
Произошло замешательство, его стали успокаивать, а Репин произнес серьезно:
– А знаете ли? Он прав, нам о себе надо бы подумать, а не так – искусственно.
Я увез совсем разбитого Никифорова с выставки. Дома Семен Гаврилович, казалось, совсем пришел в себя, успокоился, но, улегшись в постель, вдруг заявил:
– Когда так, то так! Ни на копейку меньше!
– Ты что еще задумал? – спрашиваю.
– Шабаш! Все побоку: и Рязанщину и Крым!
– Ну, а дальше что?
– А дальше то, что еду я в Рим.
– Подожди: ты, кажется, еще не пришел в себя и перепутал, где Рим и где Крым.
– Говорят тебе, в Рим, и не перепутал: река Тибр, Форум, Колизей, Леонардо да Винчи, Виа Аппиа, акведук, термы Каракаллы, римский папа и макарони. Справься по энциклопедии.
– Нет, ты угорел!
– Как хочешь – подохну, а поеду!
– Ну, если подохнешь, то не поедешь, но ты хоть скажи, в чем дело?
– Изволь, теперь я уже могу говорить. Слушай. Крым оказался – сущая брехня! Все в нем есть и ничего нет. Опошлен. Дамочки и проводники, а в парках румынские музыканты завывают. Силы нет, мармелад. В другом месте надо себе зарядку делать, а там только заканчивать, под солнцем и на фоне моря. И надо сил набираться. Все мы жиденькие, у стариков силишек только на анекдоты осталось да на кислую мораль. Большого нет ничего, разве еще у Репина да Сурикова. А большое надо, и ему следует учиться. А где учиться? Можно в Вавилоне – Париже, либо в Риме. По-моему, в Париже все готовый рецепт для современности: рецепт символизма, импрессионизма и всего, чего душа пожелает. Разжевал – и готово дело. А в Риме не то. Там великаны от вечного. У них рецепта нет, и для современности так прямо ничем не поживишься, но их размаху, монументальности, умению впитать в себя дух эпохи и отношению к ремеслу искусства поучиться следует. Они не чета нам, сладеньким да кисленьким. И поеду я туда, к ним, и там разверну такое, чтоб здесь все надулись от зависти и сразу лопнули.
– А сам ты не лопнешь от натуги?
– Ну что ж, по-твоему лучше воронье долголетие влачить? В Рим, и никаких чертей! – закончил Никифоров со смехом.
Я ему напомнил: «Не хочу быть столбовой дворянкой, а хочу быть вольною царицей». Но, кажется, он не расслышал и уже засыпал.
Никифоров собрал денег с выставки, и случилось еще так, что в Московской школе учреждена была стипендия на посылку за границу талантливого ученика. Стипендию присудили Никифорову как молодому художнику, недавно бывшему учеником школы.
И вот однажды вечером со Смоленского вокзала тихо тронулся поезд, увозя за границу слабое тело Семена Гавриловича и его сильный протестующий дух.
С ним поехала и оберегавшая его Н.
Из-за границы Никифоров писал:
«Италия, Рим! Когда же вы перестанете быть великой притягательной силой? Я не смогу описать того, чем дышу. Самый воздух насыщен ароматом искусства, как стены храма запахом фимиама. Чтобы описывать впечатление от великих мастеров, надо быть таким же великим поэтом, как они художники. Я чувствую только усиленное биение сердца. Титаническая сила духа Микеланджело, таинственная задумчивость Леонардо, торжество с некоторой пряностью Рафаэля, краски Тициана и болезненная нежность Боттичелли! «Примавера»! Какая тонкость, изящество! Если увидишь моего «Прасола», скажи ему, что он дурак! Чему он смеется? Над собой смеется! Довольно нам кланяться священному лаптю. Лучше рожу умыть, причесать патлы да приложиться к ручке одной из граций Боттичелли. Вот так надо рисовать! А вообще – не стоит и говорить об этом, а скорее самому приниматься за работу, где атмосфера способна заразить тебя великим, хотя бы ты думал по-новому, не по-ихнему. И я уже заквасил тесто, а что из него испеку – видно будет».
В Риме он с энтузиазмом набросился на работу. Чего только не переписал! Случайные наброски, этюды-пейзажи, натурщицы, лошади. Все писано на воздухе, под солнцем. Появились у него новые, сильные, южные краски, еще большая свежесть. Он добился разрешения писать конных солдат на их учении, чтобы изучать движение лошадей при беге на скачках через препятствия. Написал даже итальянского короля, едущего в экипаже на выставку, уделив внимание главным образом лошадям.
Все этюды его сводились к одной цели: написать картину, названия которой я от него не слыхал, но видел потом огромный холст с намеченными углем фигурами. Идея картины мне представлялась такой: воздух, свет, море, брызги волн, молодость, сила, здоровье, веселье. Все должно было быть полно движения и ликования жизни. Как раз то, чего жаждала слабая, больная натура Никифорова и чего она была физически лишена. На картине намечалась в брызгах морских волн игра женских тел и лошадей, поднятых на дыбы.
А когда уже было собрано много материала, когда художник приступил к осуществлению своей думы, своих радостных переживаний – судьба мягко сказала: «Ну, довольно с тебя и того, что помечтал о жизни». И сдавила ему грудь чугунной доской.
Сердце его стало сдавать, и врачи посоветовали ему отправиться домой, на родину.
Его подруга уложила все им сделанное и повезла больного в Россию, к себе в деревню. На первой же русской станции в руки Никифорова попала газета, где он прочитал о смерти своего учителя Серова, которому он так верил и которого так ценил. Стало ему совсем плохо.
Не пришлось ему пожить и в деревне, откуда отправили его в московские клиники, где я повидал его в последний раз.
Он находился в общей палате. Лежал вниз лицом, упершись локтями в подушку.
Я старался говорить с ним полушутливо, избегая всяких волнующих вопросов, и он отвечал в таком же тоне. А потом добавил:
– Нас, больных, как видишь, много, и воздуху порядочно, а мне все же не хватает. Иногда отсюда уносят вот в ту комнату… – (кивнул назад головой) – это тех, которые… – и замолчал.
При прощаньи он поднял голову, смотрел на меня детски умоляющими глазами, как будто просил пощады для себя: милости, крохотку из того, чем другие пользуются в таком изобилии и чего ему никогда не доставалось.
Я взглянул на ту страшную темную комнату, куда уносят… и мне показалось, что там уже его судьба готовит ему место на жесткой кровати.
А жизнь идет. В Петербурге снова стучат на выставке молотки, вешают картины, спорят из-за места. Среди шума и стука раздается чей-то голос:
– Товарищи, собрание! Важное известие из Москвы!
Передвижники спускаются с верхних галерей и собираются в центральном зале. Дубовской вынимает телеграмму.
Волков волнуется:
– Кто там стучит? Тихо!
Выставка замерла. Дубовской объявляет:
– Вчера вечером не стало нашего славного товарища Семена Гавриловича. Он сгорел в своей непосильной работе. Почтим его память.
Головы обнажаются, и группа товарищей-передвижников стоит в задумчивом безмолвии.
Осенью, направляясь по делам на юг, заехал я по дороге в деревню, где была мастерская Никифорова и куда звала меня Н., чтобы показать его римские работы и посоветоваться об устройстве выставки всех его работ. А мне и без того хотелось побывать в уголке моего друга.
Наступили уже ранние морозы, листва опала. Грустно стояли обнаженные деревья на фоне серого неба, предвещавшего снег. Замерз и пруд. Н. водила меня по местам, где работал Семен Гаврилович. Я их узнавал по его этюдам и картинам.
Здесь у пруда летом под солнцем лениво дремало стадо; сараи, на которых в зимних этюдах сверкал снег; скотный двор, откуда выходил веселый прасол.
Холодно было на дворе, холодно и в мастерской с верхним светом, построенной любовно, с расчетом на долгий, упорный труд.
А мне думалось: вот на что пошли усилия Никифорова, вот куда он вложил результаты упорного труда. И для чего? Чтоб все осталось брошенным, и верхнее окно, освещавшее картину художника, теперь стало никому не нужным и бессмысленно смотрело в пустое небо.