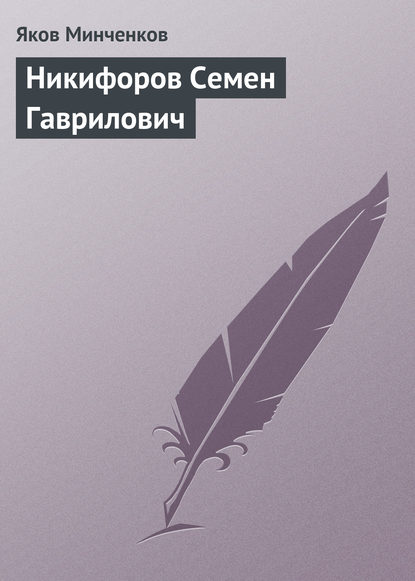По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Никифоров Семен Гаврилович
Автор
Жанр
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Никифоров Семен Гаврилович
Яков Данилович Минченков
Воспоминания о передвижниках
«…К чему бы он ни стремился, чего бы ни искал – судьба допускала его до конца стремлений, а в самом конце подсекала достигнутые успехи и разрушала все его достижения. Она невзлюбила Никифорова с самого его рождения и приуготовила ему несчастье уже в младенчестве. Это она подтолкнула руку его няньки, чтоб та выронила младенца, и свихнула его позвоночник, сделав Семена Гавриловича на всю жизнь физически недоразвитым и горбатым. Судьба дала ему ум и талант – и на каждом шагу мешала проявить свои способности. Она окружила его тяжелыми условиями жизни и, слабого, заставляла нести непосильный труд и биться над заработком с самого детства ради куска хлеба. Она же наделила Никифорова жаждой жизни, не дав ничего, чтоб утолить эту жажду…»
Яков Данилович Минченков
Никифоров Семен Гаврилович
Вот уж именно, что у иных судьба бывает хуже злой мачехи. И кого она невзлюбит – нет тому от нее пощады.
Предо мной проходила жизнь товарища-друга Никифорова, за спиной которого постоянно чудилась его злая судьба.
К чему бы он ни стремился, чего бы ни искал – судьба допускала его до конца стремлений, а в самом конце подсекала достигнутые успехи и разрушала все его достижения. Она невзлюбила Никифорова с самого его рождения и приуготовила ему несчастье уже в младенчестве. Это она подтолкнула руку его няньки, чтоб та выронила младенца, и свихнула его позвоночник, сделав Семена Гавриловича на всю жизнь физически недоразвитым и горбатым. Судьба дала ему ум и талант – и на каждом шагу мешала проявить свои способности. Она окружила его тяжелыми условиями жизни и, слабого, заставляла нести непосильный труд и биться над заработком с самого детства ради куска хлеба. Она же наделила Никифорова жаждой жизни, не дав ничего, чтоб утолить эту жажду.
Чего стоила ему его короткая жизнь, какие невероятные усилия, труд понес он для того только, чтобы все завоеванное им оказалось для него не нужным и самому отойти в тень, остаться полузабытым обществом!
Никифоров вскоре по окончании Московского училища живописи был избран членом Товарищества передвижников. Талантливость его ярко выразилась в первых же вещах, выставленных на передвижной выставке.
Школу он заканчивал под руководством Серова, перед которым преклонялся.
Он многое взял от Серова, но сохранил и свою индивидуальность. У него не было той кажущейся легкости и артистического изящества в живописи, как у Серова, он был грубее, проще, более реалист, без налета модернизма, но зато крепче и глубже проникал в жизнь, в ее повседневную простоту и по своему восприятию натуры был более связан с передвижничеством.
Брал он нечто и от Малявина, увлекаясь его широким размахом в письме, его силой. Драма жизни Никифорова заключалась в том, что он хотел быть богатырем, подымать огромные тяжести, охватывать широкую могучую жизнь, выражать ее на больших полотнах в ярких и сильных образах, хотел упиваться здоровьем, молодостью, силой, темпераментом и славой, но для всего этого у него не было физических средств.
Маленький, тщедушный, с еле бьющимся сердцем, он бросался на штурм и падал в изнеможении, проклиная свою слабость.
В том, что он делал, виден был его порыв, его талант и уже выработанное умение мастера. Он хорошо владел рисунком, лепил форму и бросал сильные краски, но всего этого достаточно было лишь для небольших сколков с жизни, для небольших картин с реальными образами, а Никифорову мерещилось уже то огромное, что он видел у великих мастеров, и он, не учитывая своих сил, хотел с размаху взбежать на вершины. И надрывался.
Когда его предостерегали, говорили, что надо беречь свое здоровье, свои силы ради самого дела, указывали, что своим страшным напряжением он может совсем уложить себя, Никифоров отвечал: «Ну и прекрасно! Лучше пасть сразу в бою, чем тянуть длинную канитель бесполезного спокойствия. Ворон вон двести лет прожить может, да только мертвечиной питаясь».
Честный по натуре, он был необычайно честен и в искусстве и откровенно сознавался в своем грехе, в фальши, допущенной им в работе. Показывая мне свою вещь, он обводил пальцем неудачное на ней место и говорил:
– Вот тут – замечаешь? Надо было разобраться в натуре, а я фуксом отделался, замазал чем попало. Увидит Серов – достанется мне!
Беспощадно относился он и к произведениям других, где видел плутовство в живописи, желание отделаться дешевкой или угодить вкусам невежественной публики.
Всякая картина на выставке была для него своей. По ней он читал все содержание, весь характер художника и представлял даже внешность его. По произведениям у него являлись симпатии или антипатии к личности автора.
Показывал на картину незнакомого художника:
– Вот за эту вещь бить мало! Смотри, как он тут изворачивается, лжет, угодничает. Подхалима! Я рожу его вижу: слюнявая, заискивающая. Если его увижу у нас на выставке, так рядом не сяду. Он редко даже улыбается! А этот парень хорош, – говорил Никифоров о другом, – за правдой гонится, не поймал ее еще, а не плутает, не льстит, малый честный!
Ему, бывало, говоришь:
– А не случается разве так, что видишь в картине умение, правду, а автор как человек не высоких качеств?
Семен Гаврилович соглашается и смеется:
– Бывает, да еще как! Гений и беспутство! Да только редко, а мне-то что? Не детей же у него крестить! Буду знать только его произведения, а с ним говорить не стану. А только надо так, что ежели ты хороший человек, так не плутай и в искусстве, не будь «чего изволите» и не подсовывай гнили людям непонимающим. Сидишь вот у купца – милый человек, он тебе и то и се, угождает, а зайдешь к нему в магазин – там он всунет вещь совершенно негодную. Так-то и у нас делается.
Отдавшись всецело искусству, Никифоров делил и людей как бы на две половины: люди искусства, творящие – и все остальные, служащие натурой, объектом для их творчества. От первых он требовал всех высоких качеств, а вторые могли быть какими угодно и как натурщики могли представлять интерес даже при уродстве.
Он находил, что запираться в своем искусстве художнику все же нельзя, как нельзя создавать для себя монашеской кельи или одиночной камеры, а надо вращаться в широкой жизни, в стороннем от искусства мире, набираться его пыли и вытряхивать ее потом на холст.
Говорил как будто по секрету:
– А знаешь что? Надо бы поплавать в этом, как говорится, житейском море, чтоб изучить даже окраску его, а иначе, сбоку припека, не поймешь его колорита и не разберешься в том, чем оно насыщено. Черт побери! Грешить даже над этим миром, и так, пожалуй, вернее попадешь в рай, где бывших грешников сильнее любят, чем праведников. Что там говорить! Пушкин, Толстой, Некрасов не отличались добродетелями в жизни, а как перешли в свой мир, то выходили в люди. Тут есть как будто грязелечение.
Он задумывался над такими вопросами, мучился, не умея разрешить их, а непосредственно поступать не мог в силу, прежде всего, своей физической слабости, больного организма.
Он прошел уже полосу учения, крайней нужды и лишений. Завелись у него даже деньги от продажи картин на выставках, где его начали замечать собиратели картин.
Однажды весенним вечером в Москве заходит он ко мне, наряженный в новый костюм.
– Ну, что? Как я сейчас, прилично выгляжу?
– Как жених! А по какому поводу?
– Вот что: поедем-ка сейчас куда-нибудь… Ну, как там: в кабаре, к Яру или в другое место, где много разных людей.
– Но разные люди и по домам сидят.
– А ну их! Пускай сидят. Из этих ничего не выжмешь, а надо таких, что годились бы для холста. Понимаешь?
Очутились мы в саду, в «Аквариуме». Там было все, что полагается для праздного прожигания жизни.
Поскучав перед открытой сценой, мы перешли в ресторан, где ужин тянулся до рассвета и где тоже была сцена, на которой проводились соответствующие ужину и публике развлечения.
Нашли свободный столик у самой сцены. Никифоров заказал ужин, вино. Кругом была настоящая публика кафешантанов: молодые саврасы, почтенные прожигатели жизни, женщины с подмостков и со стороны. Против нас сидело два претолстых субъекта с заложенными за воротник салфетками! Рядом с ними разряженные веселые дамы. Дальше море голов за столиками, между которыми шныряли измученные официанты и проходили парами крикливо разодетые женщины. За столиками все жевало, чокалось звенящими бокалами, шумело, иногда подсвистывало и подпевало знакомым мотивам, которые ползли со сцены в уши, и все казалось беспечным и празднично веселым.
На сцене беспрерывно сменялись номера. Певицы в платьях, усыпанных блестками или выкроенных точно из рыбьей чешуи, пели двусмысленные или совершенно откровенные песенки, танцевали, приподымая и точно встряхивая на наши головы пыль со своих юбок. Пели и в такт стучали каблуками молодые кавалеры, иностранцы во фраках с одинаковыми физиономиями и совершенно одинаковыми напомаженными проборами. Семь одинаково наряженных девиц катались на одноколесных велосипедах, солидная дева скользила по натянутой стальной узкой ленте и посредине ее сбрасывала свое платье, оставаясь в одном трико. Чем дальше, тем больше лилось вина в ресторане, тем острее преподносились номера. Певицы, уже кричали хриплыми голосами и взвизгивали при решительных действиях их кавалеров на сцене: танцовщицы, почти совсем голые, тужились выводить брюшными мускулами танец живота, словом – все шло, как полагается в местах забвения от житейских забот, от морали и всех условностей. Но наше положение было довольно глупое. Без всякой предварительной выпивки и закуски мы набросились на ужин, как не евшие несколько дней, бутылки с вином стояли непочатыми. Официант несколько раз подходил к нам, наклонялся в ожидании наших дальнейших требований, а с нас было много и того, что стояло на столе. Официант уходил с миной презрения. Никифоров даже вздыхал.
– Вот черт возьми! Чего бы в самом деле спросить? Вина? Так и эти бутылки некуда вылить. Хотел было в кадку с пальмой – заметят, смеяться будут, а то и оштрафуют.
Велел принести папирос, а потом сигар и, не курив от роду, пускал вверх клубы дыма.
– Ну что, – спрашиваю у него, – удовлетворен ты, что сюда попал?
– Не сожалею. Ты только посмотри, как напротив толстый работает челюстями. Кости хрустят, должно быть, рябчиков жрет. А вино! Во какими бокалами в себя, как в бочку, льет! Лицо что биллиардный шар блестит, глаза как у кота прищурены, а над верхней губой редкие волосики торчком торчат. Ну, разве не прелесть? Жаль, нельзя зарисовать – еще побьют, а экземпляр первосортный. Мне досадно, что я вот такой… а то бы, ей-богу, подсел бы к ним, выпил бы вместе, потерся около них, набрался ихнего и потом принес бы все в свою мастерскую и вытряхнул на подрамок с холстом. Что? Здоровая бы вещь вышла! Вот оно, наше пекло – не придуманное!
– А для чего оно?
– Как для чего? Для того, что оно есть. Для чего солнце светит и дождь идет? Для чего цветы цветут и грязь невылазная? И что же – изображать одни цветочки-василечки или по-передвижнически назидательно доказывать, что знания полезны, а много есть вредно? Нет, ты вот это могуче, ярко передай! Это жизнь, а не прокислая мораль! Ах, зачем я не здоровенный мужик, как вон те, что жрут. Как бы я хотел все делать, как они!
– Послушайте, господин, – послышался женский голос в нашу сторону, – у вас, кажется, есть свободные стулья?
Стояли две дамы.
Яков Данилович Минченков
Воспоминания о передвижниках
«…К чему бы он ни стремился, чего бы ни искал – судьба допускала его до конца стремлений, а в самом конце подсекала достигнутые успехи и разрушала все его достижения. Она невзлюбила Никифорова с самого его рождения и приуготовила ему несчастье уже в младенчестве. Это она подтолкнула руку его няньки, чтоб та выронила младенца, и свихнула его позвоночник, сделав Семена Гавриловича на всю жизнь физически недоразвитым и горбатым. Судьба дала ему ум и талант – и на каждом шагу мешала проявить свои способности. Она окружила его тяжелыми условиями жизни и, слабого, заставляла нести непосильный труд и биться над заработком с самого детства ради куска хлеба. Она же наделила Никифорова жаждой жизни, не дав ничего, чтоб утолить эту жажду…»
Яков Данилович Минченков
Никифоров Семен Гаврилович
Вот уж именно, что у иных судьба бывает хуже злой мачехи. И кого она невзлюбит – нет тому от нее пощады.
Предо мной проходила жизнь товарища-друга Никифорова, за спиной которого постоянно чудилась его злая судьба.
К чему бы он ни стремился, чего бы ни искал – судьба допускала его до конца стремлений, а в самом конце подсекала достигнутые успехи и разрушала все его достижения. Она невзлюбила Никифорова с самого его рождения и приуготовила ему несчастье уже в младенчестве. Это она подтолкнула руку его няньки, чтоб та выронила младенца, и свихнула его позвоночник, сделав Семена Гавриловича на всю жизнь физически недоразвитым и горбатым. Судьба дала ему ум и талант – и на каждом шагу мешала проявить свои способности. Она окружила его тяжелыми условиями жизни и, слабого, заставляла нести непосильный труд и биться над заработком с самого детства ради куска хлеба. Она же наделила Никифорова жаждой жизни, не дав ничего, чтоб утолить эту жажду.
Чего стоила ему его короткая жизнь, какие невероятные усилия, труд понес он для того только, чтобы все завоеванное им оказалось для него не нужным и самому отойти в тень, остаться полузабытым обществом!
Никифоров вскоре по окончании Московского училища живописи был избран членом Товарищества передвижников. Талантливость его ярко выразилась в первых же вещах, выставленных на передвижной выставке.
Школу он заканчивал под руководством Серова, перед которым преклонялся.
Он многое взял от Серова, но сохранил и свою индивидуальность. У него не было той кажущейся легкости и артистического изящества в живописи, как у Серова, он был грубее, проще, более реалист, без налета модернизма, но зато крепче и глубже проникал в жизнь, в ее повседневную простоту и по своему восприятию натуры был более связан с передвижничеством.
Брал он нечто и от Малявина, увлекаясь его широким размахом в письме, его силой. Драма жизни Никифорова заключалась в том, что он хотел быть богатырем, подымать огромные тяжести, охватывать широкую могучую жизнь, выражать ее на больших полотнах в ярких и сильных образах, хотел упиваться здоровьем, молодостью, силой, темпераментом и славой, но для всего этого у него не было физических средств.
Маленький, тщедушный, с еле бьющимся сердцем, он бросался на штурм и падал в изнеможении, проклиная свою слабость.
В том, что он делал, виден был его порыв, его талант и уже выработанное умение мастера. Он хорошо владел рисунком, лепил форму и бросал сильные краски, но всего этого достаточно было лишь для небольших сколков с жизни, для небольших картин с реальными образами, а Никифорову мерещилось уже то огромное, что он видел у великих мастеров, и он, не учитывая своих сил, хотел с размаху взбежать на вершины. И надрывался.
Когда его предостерегали, говорили, что надо беречь свое здоровье, свои силы ради самого дела, указывали, что своим страшным напряжением он может совсем уложить себя, Никифоров отвечал: «Ну и прекрасно! Лучше пасть сразу в бою, чем тянуть длинную канитель бесполезного спокойствия. Ворон вон двести лет прожить может, да только мертвечиной питаясь».
Честный по натуре, он был необычайно честен и в искусстве и откровенно сознавался в своем грехе, в фальши, допущенной им в работе. Показывая мне свою вещь, он обводил пальцем неудачное на ней место и говорил:
– Вот тут – замечаешь? Надо было разобраться в натуре, а я фуксом отделался, замазал чем попало. Увидит Серов – достанется мне!
Беспощадно относился он и к произведениям других, где видел плутовство в живописи, желание отделаться дешевкой или угодить вкусам невежественной публики.
Всякая картина на выставке была для него своей. По ней он читал все содержание, весь характер художника и представлял даже внешность его. По произведениям у него являлись симпатии или антипатии к личности автора.
Показывал на картину незнакомого художника:
– Вот за эту вещь бить мало! Смотри, как он тут изворачивается, лжет, угодничает. Подхалима! Я рожу его вижу: слюнявая, заискивающая. Если его увижу у нас на выставке, так рядом не сяду. Он редко даже улыбается! А этот парень хорош, – говорил Никифоров о другом, – за правдой гонится, не поймал ее еще, а не плутает, не льстит, малый честный!
Ему, бывало, говоришь:
– А не случается разве так, что видишь в картине умение, правду, а автор как человек не высоких качеств?
Семен Гаврилович соглашается и смеется:
– Бывает, да еще как! Гений и беспутство! Да только редко, а мне-то что? Не детей же у него крестить! Буду знать только его произведения, а с ним говорить не стану. А только надо так, что ежели ты хороший человек, так не плутай и в искусстве, не будь «чего изволите» и не подсовывай гнили людям непонимающим. Сидишь вот у купца – милый человек, он тебе и то и се, угождает, а зайдешь к нему в магазин – там он всунет вещь совершенно негодную. Так-то и у нас делается.
Отдавшись всецело искусству, Никифоров делил и людей как бы на две половины: люди искусства, творящие – и все остальные, служащие натурой, объектом для их творчества. От первых он требовал всех высоких качеств, а вторые могли быть какими угодно и как натурщики могли представлять интерес даже при уродстве.
Он находил, что запираться в своем искусстве художнику все же нельзя, как нельзя создавать для себя монашеской кельи или одиночной камеры, а надо вращаться в широкой жизни, в стороннем от искусства мире, набираться его пыли и вытряхивать ее потом на холст.
Говорил как будто по секрету:
– А знаешь что? Надо бы поплавать в этом, как говорится, житейском море, чтоб изучить даже окраску его, а иначе, сбоку припека, не поймешь его колорита и не разберешься в том, чем оно насыщено. Черт побери! Грешить даже над этим миром, и так, пожалуй, вернее попадешь в рай, где бывших грешников сильнее любят, чем праведников. Что там говорить! Пушкин, Толстой, Некрасов не отличались добродетелями в жизни, а как перешли в свой мир, то выходили в люди. Тут есть как будто грязелечение.
Он задумывался над такими вопросами, мучился, не умея разрешить их, а непосредственно поступать не мог в силу, прежде всего, своей физической слабости, больного организма.
Он прошел уже полосу учения, крайней нужды и лишений. Завелись у него даже деньги от продажи картин на выставках, где его начали замечать собиратели картин.
Однажды весенним вечером в Москве заходит он ко мне, наряженный в новый костюм.
– Ну, что? Как я сейчас, прилично выгляжу?
– Как жених! А по какому поводу?
– Вот что: поедем-ка сейчас куда-нибудь… Ну, как там: в кабаре, к Яру или в другое место, где много разных людей.
– Но разные люди и по домам сидят.
– А ну их! Пускай сидят. Из этих ничего не выжмешь, а надо таких, что годились бы для холста. Понимаешь?
Очутились мы в саду, в «Аквариуме». Там было все, что полагается для праздного прожигания жизни.
Поскучав перед открытой сценой, мы перешли в ресторан, где ужин тянулся до рассвета и где тоже была сцена, на которой проводились соответствующие ужину и публике развлечения.
Нашли свободный столик у самой сцены. Никифоров заказал ужин, вино. Кругом была настоящая публика кафешантанов: молодые саврасы, почтенные прожигатели жизни, женщины с подмостков и со стороны. Против нас сидело два претолстых субъекта с заложенными за воротник салфетками! Рядом с ними разряженные веселые дамы. Дальше море голов за столиками, между которыми шныряли измученные официанты и проходили парами крикливо разодетые женщины. За столиками все жевало, чокалось звенящими бокалами, шумело, иногда подсвистывало и подпевало знакомым мотивам, которые ползли со сцены в уши, и все казалось беспечным и празднично веселым.
На сцене беспрерывно сменялись номера. Певицы в платьях, усыпанных блестками или выкроенных точно из рыбьей чешуи, пели двусмысленные или совершенно откровенные песенки, танцевали, приподымая и точно встряхивая на наши головы пыль со своих юбок. Пели и в такт стучали каблуками молодые кавалеры, иностранцы во фраках с одинаковыми физиономиями и совершенно одинаковыми напомаженными проборами. Семь одинаково наряженных девиц катались на одноколесных велосипедах, солидная дева скользила по натянутой стальной узкой ленте и посредине ее сбрасывала свое платье, оставаясь в одном трико. Чем дальше, тем больше лилось вина в ресторане, тем острее преподносились номера. Певицы, уже кричали хриплыми голосами и взвизгивали при решительных действиях их кавалеров на сцене: танцовщицы, почти совсем голые, тужились выводить брюшными мускулами танец живота, словом – все шло, как полагается в местах забвения от житейских забот, от морали и всех условностей. Но наше положение было довольно глупое. Без всякой предварительной выпивки и закуски мы набросились на ужин, как не евшие несколько дней, бутылки с вином стояли непочатыми. Официант несколько раз подходил к нам, наклонялся в ожидании наших дальнейших требований, а с нас было много и того, что стояло на столе. Официант уходил с миной презрения. Никифоров даже вздыхал.
– Вот черт возьми! Чего бы в самом деле спросить? Вина? Так и эти бутылки некуда вылить. Хотел было в кадку с пальмой – заметят, смеяться будут, а то и оштрафуют.
Велел принести папирос, а потом сигар и, не курив от роду, пускал вверх клубы дыма.
– Ну что, – спрашиваю у него, – удовлетворен ты, что сюда попал?
– Не сожалею. Ты только посмотри, как напротив толстый работает челюстями. Кости хрустят, должно быть, рябчиков жрет. А вино! Во какими бокалами в себя, как в бочку, льет! Лицо что биллиардный шар блестит, глаза как у кота прищурены, а над верхней губой редкие волосики торчком торчат. Ну, разве не прелесть? Жаль, нельзя зарисовать – еще побьют, а экземпляр первосортный. Мне досадно, что я вот такой… а то бы, ей-богу, подсел бы к ним, выпил бы вместе, потерся около них, набрался ихнего и потом принес бы все в свою мастерскую и вытряхнул на подрамок с холстом. Что? Здоровая бы вещь вышла! Вот оно, наше пекло – не придуманное!
– А для чего оно?
– Как для чего? Для того, что оно есть. Для чего солнце светит и дождь идет? Для чего цветы цветут и грязь невылазная? И что же – изображать одни цветочки-василечки или по-передвижнически назидательно доказывать, что знания полезны, а много есть вредно? Нет, ты вот это могуче, ярко передай! Это жизнь, а не прокислая мораль! Ах, зачем я не здоровенный мужик, как вон те, что жрут. Как бы я хотел все делать, как они!
– Послушайте, господин, – послышался женский голос в нашу сторону, – у вас, кажется, есть свободные стулья?
Стояли две дамы.