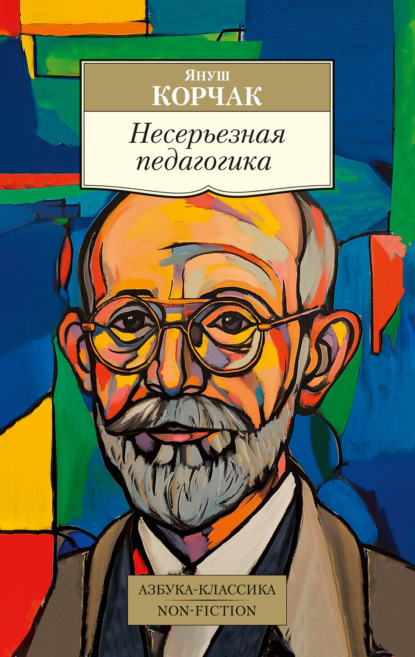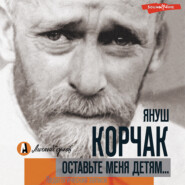По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Несерьезная педагогика
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сталкиваясь с воспитательницами, которые ради одного-двух детей оставили коллектив – иными словами, предпочли место частного педагога работе в приюте или интернате, – я полагал, что ими движет не любовь к своей профессии, а стремление к выгоде, к труду более комфортному и необременительному.
Всего две недели я провел с одиннадцатилетним Стефаном – и убедился, что наблюдение за одним ребенком дает не менее богатый материал, приносит не меньше забот и радостей, чем работа с группой детей. В этом одном ребенке ты замечаешь намного больше, тоньше чувствуешь и глубже продумываешь каждый факт.
Мне кажется, воспитатель, уставший от большого коллектива, вправе – а быть может, даже обязан – применить «севооборот»: на некоторое время уйти от толпы в тишину, чтобы затем вновь вернуться к работе с группой. Насколько я знаю, такой традиции нет: одни педагоги специализируются на индивидуальном, другие – на групповом обучении и воспитании.
Эти записи имеют форму дневника – так я их вел и в таком виде оставляю. Они могут представлять ценность как документ – несмотря на необычные условия, время и место.
NB. Я был тогда ординатором полевого госпиталя. Во время затишья я взял к себе мальчика из приюта; он хотел учиться ремеслу, а при госпитале имелась столярно-плотницкая мастерская. Мы провели вместе всего две недели: я заболел и уехал, мальчик еще какое-то время оставался при госпитале, потом начались военные действия, и денщик отвез его обратно в приют.
Четверг, 8.3.1917
Он у меня уже четвертый день. Я хотел сразу начать записывать. К сожалению, с дневниками всегда так: когда есть что записать, нет времени. Это многих расхолаживает. Мне жаль удивительных чувств, что остались незапечатленными. Я уже привык к присутствию мальчика.
Его зовут Стефан. Мать умерла, когда ему было семь лет, имени ее Стефан не помнит. Отец на войне или в плену, а может, убит. Семнадцатилетний брат – в Тернополе. Сначала Стефан жил с братом, потом у солдат, теперь, уже полгода, в приюте. Приюты открывает городское самоуправление, руководить ими доверяют кому попало. Правительство то разрешает обучение, то запрещает. Это не интернат, а помойка, куда сбрасываются отходы войны, печальные жертвы дизентерии, сыпного тифа и холеры, унесших родителей (точнее, матерей – отцы сражаются за новый передел мира). Война – не преступление, это триумфальный марш, ликование обезумевших на пьяном сатанинском пиру.
Я спросил, хочет ли Стефан поехать со мной, – и тут же пожалел о сказанном.
– Не сейчас – я приеду за тобой в понедельник. Спроси завтра брата, позволит ли он. Посоветуйся, подумай.
Едем; луна, снег. О чем он думает? Глядит с любопытством: костел, вокзал, вагоны, мост. Бесхитростное лицо. Говорят, трудолюбив; при госпитале есть плотницкая мастерская – отдам его в обучение Дудуку.
Экзаменую: читать не разучился.
Задача по арифметике.
– Сколько тебе сейчас лет?
Вижу, не понимает, что такое «сейчас».
– Сей час? Ну как и раньше – одиннадцать.
Не поправляю.
Получил от брата пятьдесят копеек, купил пирожки с повидлом, конфеты, у нас ел холодный зельц – шедевр Пласки; вечером у него разболелся живот. Боль в области слепой кишки. Это плохо: я хотел, чтобы он ел из солдатского котла, пока не решит, останется он тут или нет. Хотел, чтобы с самого начала у него был четкий распорядок дня.
Валентий вздыхает:
– И надо вам это?
У Стефана врожденное чувство порядка: после занятий он складывает книжки стопкой, ручку кладет рядом с чернильницей. Повесил полотенце, один конец длиннее другого – поправил.
Зачем на пятьдесят копеек накупил сластей?
– А чего я буду деньги жалеть?
Это слова не его, а кого-то для него авторитетного – Назарки или Климовича (Климович красиво рисует).
– Отец вернется, – говорю я.
– Вернется – хорошо, не вернется – тоже хорошо.
Это он тоже где-то слышал. Сколько глупостей я мог бы наговорить по этому поводу: «Фу, как ты можешь… об отце…» – и т. д.
Его сейчас интересует другое:
– А зачем у зеркальца ремешки?
– Этот ремешок – для мыла, этот – для расчески, а тот – для зубной щетки.
– А эта папиросница, когда была новая, тоже с трещинами была?
– Да, это как будто крокодиловая кожа.
Совет педагогам. Когда приезжаешь в детский дом воспитателем, пусть дети смотрят, как ты в своей комнате распаковываешь багаж, пусть помогают развязывать корзины или открывать сундук, вынимать и расставлять мелочи. Завяжется разговор – о часах, о ножике, о несессере. Он поможет быстро и естественно сблизиться с детьми. Так и они сами друг с другом знакомятся. Вспомните, как часто взрослые завязывают знакомства через детей и благодаря беседам о детях – в парке, на даче. Если сказать, что нехорошо все трогать, обо всем выспрашивать, дети будут смущены, раздосадованы. Можно сказать им об этом через месяц, через три, в связи с кем-то другим, посторонним, не тобой. Вы-то уже знакомы, вы-то не посторонние.
– А сколько стоит эта папиросница?
– Рубля два-три, наверно. Не знаю, не помню, она у меня уже давно. Видишь, замок сломан, не закрывается.
– А починить нельзя?
– Можно, наверно, но мне не мешает – папиросы что так, что эдак не выпадут.
Я еще не воспитываю, я только наблюдаю и стараюсь не делать никаких замечаний, чтобы не спугнуть Стефана. И все же за эти четыре дня мне пришлось дважды его вразумить.
Первый раз. Во время урока вошел фельдшер. Я был на дежурстве – привезли больных.
– Весь день к вам лезут, – громко и раздраженно сказал Стефан.
Судя по тону и выражению лица, это явно не его слова. Так, должно быть, говорили в приюте – панна Лоня или кухарка.
– Не надо так говорить, – замечаю я мягко, когда фельдшер уходит.
– Я ведь читаю, а он лезет.
Ему странно, что в госпитале двести семнадцать больных и раненых.
– Так вы, когда дежурите, должны всех осматривать?
– Нет, я осматриваю только новеньких, чтобы какого-нибудь заразного больного не поместили к обычным.
– А правда, что корь – заразная болезнь? Когда я болел корью, так задыхался, что говорить не мог. Батя тогда дал мне выпить керосина, получшело. Он никогда к врачу не ходил, сам все знал, как лечить.
– Твой отец был умный человек, – говорю я.
– Конечно умный, – согласно кивает он.
Меня так и тянет спросить, почему же он сказал, что, если отец не вернется, тоже хорошо. Нет, слишком рано.
Всего две недели я провел с одиннадцатилетним Стефаном – и убедился, что наблюдение за одним ребенком дает не менее богатый материал, приносит не меньше забот и радостей, чем работа с группой детей. В этом одном ребенке ты замечаешь намного больше, тоньше чувствуешь и глубже продумываешь каждый факт.
Мне кажется, воспитатель, уставший от большого коллектива, вправе – а быть может, даже обязан – применить «севооборот»: на некоторое время уйти от толпы в тишину, чтобы затем вновь вернуться к работе с группой. Насколько я знаю, такой традиции нет: одни педагоги специализируются на индивидуальном, другие – на групповом обучении и воспитании.
Эти записи имеют форму дневника – так я их вел и в таком виде оставляю. Они могут представлять ценность как документ – несмотря на необычные условия, время и место.
NB. Я был тогда ординатором полевого госпиталя. Во время затишья я взял к себе мальчика из приюта; он хотел учиться ремеслу, а при госпитале имелась столярно-плотницкая мастерская. Мы провели вместе всего две недели: я заболел и уехал, мальчик еще какое-то время оставался при госпитале, потом начались военные действия, и денщик отвез его обратно в приют.
Четверг, 8.3.1917
Он у меня уже четвертый день. Я хотел сразу начать записывать. К сожалению, с дневниками всегда так: когда есть что записать, нет времени. Это многих расхолаживает. Мне жаль удивительных чувств, что остались незапечатленными. Я уже привык к присутствию мальчика.
Его зовут Стефан. Мать умерла, когда ему было семь лет, имени ее Стефан не помнит. Отец на войне или в плену, а может, убит. Семнадцатилетний брат – в Тернополе. Сначала Стефан жил с братом, потом у солдат, теперь, уже полгода, в приюте. Приюты открывает городское самоуправление, руководить ими доверяют кому попало. Правительство то разрешает обучение, то запрещает. Это не интернат, а помойка, куда сбрасываются отходы войны, печальные жертвы дизентерии, сыпного тифа и холеры, унесших родителей (точнее, матерей – отцы сражаются за новый передел мира). Война – не преступление, это триумфальный марш, ликование обезумевших на пьяном сатанинском пиру.
Я спросил, хочет ли Стефан поехать со мной, – и тут же пожалел о сказанном.
– Не сейчас – я приеду за тобой в понедельник. Спроси завтра брата, позволит ли он. Посоветуйся, подумай.
Едем; луна, снег. О чем он думает? Глядит с любопытством: костел, вокзал, вагоны, мост. Бесхитростное лицо. Говорят, трудолюбив; при госпитале есть плотницкая мастерская – отдам его в обучение Дудуку.
Экзаменую: читать не разучился.
Задача по арифметике.
– Сколько тебе сейчас лет?
Вижу, не понимает, что такое «сейчас».
– Сей час? Ну как и раньше – одиннадцать.
Не поправляю.
Получил от брата пятьдесят копеек, купил пирожки с повидлом, конфеты, у нас ел холодный зельц – шедевр Пласки; вечером у него разболелся живот. Боль в области слепой кишки. Это плохо: я хотел, чтобы он ел из солдатского котла, пока не решит, останется он тут или нет. Хотел, чтобы с самого начала у него был четкий распорядок дня.
Валентий вздыхает:
– И надо вам это?
У Стефана врожденное чувство порядка: после занятий он складывает книжки стопкой, ручку кладет рядом с чернильницей. Повесил полотенце, один конец длиннее другого – поправил.
Зачем на пятьдесят копеек накупил сластей?
– А чего я буду деньги жалеть?
Это слова не его, а кого-то для него авторитетного – Назарки или Климовича (Климович красиво рисует).
– Отец вернется, – говорю я.
– Вернется – хорошо, не вернется – тоже хорошо.
Это он тоже где-то слышал. Сколько глупостей я мог бы наговорить по этому поводу: «Фу, как ты можешь… об отце…» – и т. д.
Его сейчас интересует другое:
– А зачем у зеркальца ремешки?
– Этот ремешок – для мыла, этот – для расчески, а тот – для зубной щетки.
– А эта папиросница, когда была новая, тоже с трещинами была?
– Да, это как будто крокодиловая кожа.
Совет педагогам. Когда приезжаешь в детский дом воспитателем, пусть дети смотрят, как ты в своей комнате распаковываешь багаж, пусть помогают развязывать корзины или открывать сундук, вынимать и расставлять мелочи. Завяжется разговор – о часах, о ножике, о несессере. Он поможет быстро и естественно сблизиться с детьми. Так и они сами друг с другом знакомятся. Вспомните, как часто взрослые завязывают знакомства через детей и благодаря беседам о детях – в парке, на даче. Если сказать, что нехорошо все трогать, обо всем выспрашивать, дети будут смущены, раздосадованы. Можно сказать им об этом через месяц, через три, в связи с кем-то другим, посторонним, не тобой. Вы-то уже знакомы, вы-то не посторонние.
– А сколько стоит эта папиросница?
– Рубля два-три, наверно. Не знаю, не помню, она у меня уже давно. Видишь, замок сломан, не закрывается.
– А починить нельзя?
– Можно, наверно, но мне не мешает – папиросы что так, что эдак не выпадут.
Я еще не воспитываю, я только наблюдаю и стараюсь не делать никаких замечаний, чтобы не спугнуть Стефана. И все же за эти четыре дня мне пришлось дважды его вразумить.
Первый раз. Во время урока вошел фельдшер. Я был на дежурстве – привезли больных.
– Весь день к вам лезут, – громко и раздраженно сказал Стефан.
Судя по тону и выражению лица, это явно не его слова. Так, должно быть, говорили в приюте – панна Лоня или кухарка.
– Не надо так говорить, – замечаю я мягко, когда фельдшер уходит.
– Я ведь читаю, а он лезет.
Ему странно, что в госпитале двести семнадцать больных и раненых.
– Так вы, когда дежурите, должны всех осматривать?
– Нет, я осматриваю только новеньких, чтобы какого-нибудь заразного больного не поместили к обычным.
– А правда, что корь – заразная болезнь? Когда я болел корью, так задыхался, что говорить не мог. Батя тогда дал мне выпить керосина, получшело. Он никогда к врачу не ходил, сам все знал, как лечить.
– Твой отец был умный человек, – говорю я.
– Конечно умный, – согласно кивает он.
Меня так и тянет спросить, почему же он сказал, что, если отец не вернется, тоже хорошо. Нет, слишком рано.