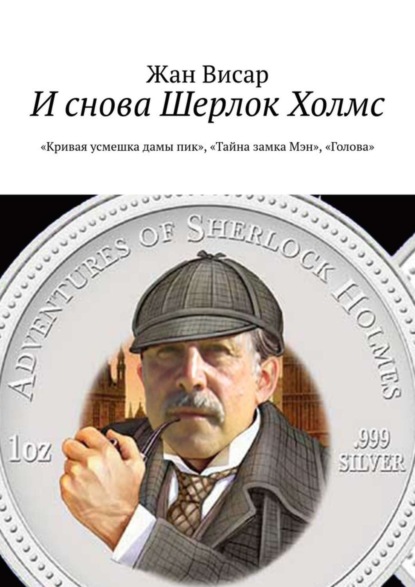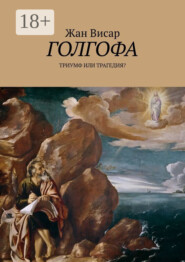По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
И снова Шерлок Холмс. «Кривая усмешка дамы пик», «Тайна замка Мэн», «Голова»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это, как вы помните, уже наш главный герой выступает со своей партией, включается в свою, не мене чудовищную игру. Вернее, не вступает, а просто категорически требует от бедной, уже умирающей и временами плохо понимающей происходящее, старухи секрет волшебной выигрышной партии. Но, естественно, не получает его. Потому что никакого секрета у нее просто-напросто нет. Все эти россказни о трех беспроигрышных картах не более чем блеф, анекдот, шутка, как в секунды просветления и пытается объяснить ему сама, уже отходящая в мир иной, женщина. Помните Ватсон, что говорит об этом сам ваш кумир:
«Это была шутка, – сказала она, наконец, – клянусь вам! Это была шутка!»
– Но, ослепленный алчностью Германн, так же, как и она, уже безнадежно болен. Он явно не в себе. Ведь его душевная болезнь, Ватсон, началась не после проигрыша у Чекалинского. Нет! Это случилось много раньше. Неужели вы не заметили, что он свихнулся уже тогда, сразу после рассказа Поля? Его практичный мозг, с намертво впаянным в него истинно немецким тезисом: «никогда не жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее», тоже уже отравлен этой, воистину удивительной и неискоренимой, чисто русской идеей, – получить все и сразу, причем без каких бы то ни было лишних хлопот и, не слезая, с теплой печи. Прочитайте еще раз со вниманием это место, и вы согласитесь со мной:
«Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил у него из головы. Что, если, – думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, – что, если старая графиня откроет мне свою тайну! – или назначит мне эти три верные карты! Почему не попробовать своего счастья?»
Вы же врач, Ватсон! Неужели вы не видите этих явных признаков хорошо нам с вами знакомого параноидного бреда, с полным отсутствием какой бы то ни было логики? Ведь Томский сразу после рассказанного своего анекдота, как будто специально для Германна отмечает, что ни своему старшему сыну, его отцу, ни трем ее другим сыновьям, заядлым картежникам, ни их детям – никому зловредная старуха не раскрыла своего секрета. И совершенно ясно, что с ее характером она не раскрыла бы его никогда, даже если бы он и на самом деле был, и уж тем более какому-то безродному немцу-инженеру. Смешно!
Но Германн с упорством маньяка продолжает настаивать:
«– Можете ли вы, продолжал Германн, – назначить эти три верные карты? … Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала; Германн стал на колени… Откройте мне вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках; что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню…
Старуха не отвечала ни слова.
Германн встал.
– Старая ведьма! – сказал он, стиснув зубы, – так я ж заставлю тебя отвечать…
С этим словом он вынул из кармана пистолет.
При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головою и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела… Потом покатилась навзничь… и осталась недвижима.
– Перестаньте ребячиться, – сказал Германн, взяв ее руку. – Спрашиваю в последний раз: хотите ли назначить мне ваши три карты? – да или нет?
Графиня не отвечала. Германн увидел, что она умерла.
Вот мы и дошли с вами, дорогой Ватсон, до кульминации этой страшной и, теперь уже, несомненно, криминальной драмы. Полагающийся для этого труп теперь уже налицо!
Графиня мертва, но, как я вам уже говорил, не Германн причина ее смерти. Если он в чем и виноват, то лишь в своей излишней экстравагантности, а проще говоря, легком умопомешательстве, в котором он уже находился в тот роковой момент. Ведь теперь с очевидностью ясно, что предсмертные конвульсии, обусловленные исключительно действием яда, недалекий немец ошибочно принял, на свой счет – как неадекватную реакцию старого человека на его угрозу. И словами автора Герман сам нам об этом говорит:
«И кажется, – продолжал Германн, – я причиною ее смерти».
В этом смысле, Полина и здесь оказалась права. Если вдруг и начнется расследование дела о насильственной смерти старухи-графини, то первый претендент на ее, пусть и невольное, но все-таки убийство – именно Германн, который к тому же еще и сам в этом уверен.
Холмс поднялся с кресла, деланно поклонился: «Quod erat demonstrandum» (что и требовалось доказать!) и обратно занял свое место.
Несколько минут мы просидели молча, как бы вновь переживая все перипетии открывшегося перед нами ужасного злодеяния.
Да, Холмс, – я первым нарушил молчание, – вы как всегда на высоте! Не вдаваясь в детали, полученных вами дополнительных материалов по этому делу, скажу лишь, что даже черновая версия происходящего, так мастерски представленная вами, безукоризненна не только с точки зрения вашего дедуктивного метода и формальной логики, но и совершенно согласуется с последними данными медицины, физиологии и психологии. Я это говорю не как почитатель вашего таланта и ваш друг, Холмс, а как профессионал в этой области. Браво, мой друг! Просто, браво!
Как жаль, что все эти события, выражаясь словами самого нашего автора, всего лишь «дела давно минувших дней, преданье старины глубокой». Ведь они происходили не только в туманные времена начала века, но и в далекой, во многом непонятной для нас европейцев, полу азиатской стране. Стране – блистательных царей, восточных дворцов, безграничных заснеженных пространств с несметными богатствами и умопомрачительной нищетой разбросанного среди всего этого великолепия разношерстного народонаселения. Жаль, что мы не сможем пролить свет на ту, вторую, не менее захватывающую и жутковатую мистическую часть этой истории.
– Ха – ха – ха, – Холмс раскатисто рассмеялся, – вы имеете в виду, Ватсон, эту тень из «Гамлета» в русской постановке, – тень дряхлой старухи в чепце и белых тапках явившуюся к нашему герою, чтобы открыть, наконец, ему свою страшную, несуществующую тайну? Старухи – по вине которой он, словно в насмешку, вместо получения состояния, останется нищим, без средств к существованию и с белым билетом на руках? Такой, кажется, документ в то время выдавался умалишенным на Руси вместо паспорта. А, впрочем, может тогда там, и паспортов-то еще никаких не было.
А вам не приходило в голову, милый мой друг, что поведение всех этих потусторонних сил выглядит в рассказе какое-то странно. Я бы даже сказал, дурно и совершенно нелогично, что, согласитесь, не очень-то вяжется с действиями, хоть и потусторонних, но все-таки «высших сил». От них, от этих «высших сил» хотелось бы ожидать и какой-то «высшей логики» в своих действиях. А, Ватсон? Разве вы не согласны со мной? Это же все-таки – высшие силы! Ну, как-то не солидно, право слово! – Холмс опять рассмеялся своим искренним веселым смехом.
– Я не совсем вас понимаю Холмс, – в который уже раз на протяжении этой нашей беседы удивился я, – куда вы опять клоните? Не хотите ли вы сказать, что и в этой, мистической части нашей «повести прошедших лет», возможно просто вымышленной автором, тоже есть что-то, что подвластно вашему дедуктивному анализу, которым вы так легко и виртуозно, будто секционным ножом расчленяете пороки нашего, увы, пока еще такого несовершенного мира!
– А ведь, хорошо и очень образно сказано, Ватсон! Вы как всегда, опять попали в яблочко!
– Но, Холмс! Пожалейте меня. Я так и жду, что вы сейчас опять скажите эту вашу знаменитую и, не побоюсь этого слова, довольно пошлую фразу – «Это же элементарно, Ватсон!» – рассмеялся и я в ответ, – Но нет! Тут даже вы бессильны, мой дорогой друг! Эта, вернее, та – потусторонняя сторона нашей жизни, я уверен, недоступна даже и для вашего изощренного ума. Это невозможно, Холмс, по той простой причине, что это невозможно в принципе! Именно потому оно и потусторонне, что находится по ту сторону человеческих знаний, логики и принципиальной возможности понимания простыми смертными природы всех этих явлений.
– Что ж, Ватсон, опять поздравляю! Сказано, безусловно, умно! Да, я, как вы хорошо знаете, действительно стараюсь сторониться всего, так называемого, «потустороннего» и предпочитаю иметь дело только с земными пороками, свойственными лишь людям грешным, состоящим из плоти и крови. Но, – вынужден вас огорчить. Весь ваш пафос потрачен впустую. Уверяю вас, что никакой мистикой и в этой второй части нашей истории даже и не пахнет. А пахнет там, Ватсон, хоть и весьма изощренным, но отвратительнейшим криминалом!
– От этих его слов, я буквально остолбенел в своем кресле.
– Но позвольте, Холмс! Как же это может быть! – Нет мистики! А дух старухи? А назначенные ею три карты? Ведь именно о них и идет речь в этом сочинении. Карты, как олицетворение одного из самых отвратительных людских пороков – и есть главный стержень всего этого произведения. Пиковая дама даже выведена в его заглавие.
– Дух старухи, – Холмс вновь рассмеялся, – опять хорошо сказано, Ватсон. Вы сегодня просто в ударе. Прекрасный каламбур. Но и здесь я вынужден вас огорчить – никакого «духа старухи» в этой истории не было и в помине. Огорчу вас и в том вашем постулате, что дело это, мол, «давно минувших дней», как вы изволили изящно выразиться, и что, мол, все его персонажи давно уже истлели в могиле, а потому ничто уже нельзя документально подтвердить, или опровергнуть. А все эти мои досужие рассуждения, ни что иное, как лишь забавная игра ума, – ни к чему не обязывающие сомнительные логические построения страдающего от скуки сыщика-консультанта. От скуки и передозировки кокаина. А, Ватсон? Вы еще и позавчерашнюю инъекцию мне припомните!
– Да что вы Холмс, – вскричал я, – помилуйте! Я имел в виду совсем другое. Простите, но выдвинутый вами же самим тезис об огромном временном интервале, отделяющем наш индустриальный век от того, давно забытого патриархального времени, тоже нельзя сбрасывать со счетов. Ведь с тех пор прошло уже более полувека. Срок, согласитесь, немалый…
– Холмс лишь лукаво улыбнулся, но ничего мне на это не ответил. Похоже, ему было сейчас не до моих высокопарных сентенций. Он уже не сидел в кресле, а нервно ходил по комнате, то, бросая быстрый взгляд на часы, стрелки которых приближалась уже к четырем, то, поглядывая, сквозь мокрое стекло на блестящую от моросящего дождя и пустынную в это время дня булыжную мостовую Бейкер-стрит.
– Мы что, ждем гостей, Холмс? – спросил я, тоже вставая с кресла и направляясь к другому, соседнему окну нашей гостиной.
– И ждем, как я вижу, не напрасно! Я просто не хотел вам раньше времени обо всем этом говорить, но вон тот, кэб, с лихим кучером на козлах в виде, хорошо вам знакомого, инспектора Лестлейда, приближает к нам как раз то самое «невозвратное прошлое», о котором вы только что, так страстно рассуждали. Смотрите, это «прошлое» подвозят прямо к дверям нашего дома. И прямо сейчас, здесь перед вами факир-консультант сдернет с этого пыльного прошлого свое черное покрывало Времени, и вы его, наконец, увидите, хотя уверяю вас, ничего приятного в этом, скорее всего, не будет…
И, действительно, абсолютно мокрый и блестящий от дождя кэб остановился прямо у наших входных дверей, и я с нескрываемым любопытством следил за тем, как инспектор лихо соскочив с козел, открыл тоже мокрую, лакированную дверцу и подал руку, какой-то леди в длинной серой накидке и в такой огромной шляпе, что разглядеть сверху ни только ее лицо, но даже и фигуру, совершенно не представлялось возможным. А буквально через несколько секунд двери гостиной распахнулись, в них возникла наша неизменная миссис Хадсон, которая торжественным голосом громко объявила: «Инспектор Лестлейд и графиня Томская, к мистеру Шерлоку Холмсу…»
– Эсквайру – после небольшой паузы добавила она, так как никаких других титулов кроме этого у нашего знаменитого консультанта, к глубокому ее сожалению, пока не было.
От этих слов у меня буквально подкосились колени, и я чуть не сел в стоявшее сзади меня кресло, что ни смог бы себе простить потом всю оставшуюся жизнь, потому что именно в этот момент, пропущенная преувеличенно почтительным жестом инспектора, в комнату вошла женщина. Вернее, даже не женщина, а, судя по ее изысканным и, я бы даже сказал, слегка высокопарным манерам, настоящая леди. Я сразу понял, что это и есть та самая графиня Томская, урожденная княжна Полина из прочитанной нами два дня назад воистину волшебной книжки. Да, Холмс был прав – это было чудо. Чудо, которое случается только в детских сказках.
Вуаль прикрывала ее лицо, и казалось, что сейчас она поднимет свою изящную руку в серой перчатке из тончайшей лайки, изысканно отбросит эту вуаль вверх, на широкие поля своей шляпки, и я увижу сияющие задором молодости, бездонные глаза и обольстительную улыбку той далекой, прелестной в своей какой-то особенной красоте, русской княжны. Как будто она, как птица Феникс, выпорхнула оттуда к нам, сюда. Выпорхнула из навеянных белыми вьюгами северных снов великого писателя…
Мы с Холмсом почтительно поклонились. Дама тоже слегка кивнула и, не сказав ни слова, медленно прошла по ковру, тяжело опустилась в кресло для посетителей, стоящее у стола. Романтический морок спал с моих глаз. Перед нами сидела умудренная жизнью и уже слегка уставшая от нее пожилая леди. Мне показалось, что сквозь вуаль она смотрит прямо на меня.
И тут со мной что-то произошло. Казалось, пол на секунду куда-то провалился, какой-то грязный туман и смутные тени заколыхались перед моими глазами. На мгновенье мелькнуло видение слабо освещенной комнаты, и какая-то тень в кресле чуть видная на фоне ночного окна. Это длилось буквально мгновение, и вот я снова стою здесь, в нашей гостиной, с бешено колотящимся сердцем. Стою рядом с Холмсом, прислонившись, как и он, к подоконнику одного из наших высоких стрельчатых окон, и тоже спиной к свету, а Лестлейд, как верный пес, занял охранную позицию, подпирая косяк приоткрытой двери. Его яркий клетчатый пиджак, с огромными накладными карманами, длинный коричневый шарф, обмотанный вокруг шеи, и такого же цвета гетры, заправленные в желтые башмаки на высокой шнуровке, крепко сшитые из грубой свиной кожи и забрызганные свежей грязью, резко контрастировали со скромным, но изысканным нарядом старой графини…
Было все это со мной или только привиделось? Нервы – не к черту! Надо бы сегодня вечером вызвать фельдшера и облегчить кровь, – подумал я. А в комнате тем временем повисла гнетущая пауза.
– Мадам, – Холмс первым прервал это тягостное молчание, – я хотел бы сначала поблагодарить вас, за то, что вы, не посчитавшись с немалыми тяготами проделанного вами путешествия и, не оставив без внимания просьбу моего старшего брата Майкрофта Холмса, исполняющего в настоящее время чрезвычайно важные функции помощника при министре иностранных дел, любезно согласились посетить нас и, надеюсь, не откажете нам в любезности ответить на некоторые вопросы, которые я намерен вам задать? Это, мой друг и помощник доктор Ватсон. Инспектора Лестлейда, я надеюсь, представлять вам нет необходимости.
Безукоризненная вежливость Холмса ни в коей мере не компенсировала его ледяной холодности.
Я еще раз вежливо поклонился, Лестлейд у двери приподнял свое неизменное клетчатое кепи, достал блокнот, и дальше все время, что-то непрерывно строчил в нем на протяжении всей нашей последующей беседы.
– Благодарю вас, мистер Холмс, – начала графиня, и мы впервые услышали ее глубокий, полный достоинства, достаточно низкий, грудной голос. – Благодарю вас, сэр, за правильно выбранный и, единственно возможный в такой ситуации, тон нашей беседы. Ваша исключительная вежливость и, несмотря на известные вам обстоятельства, уважение к моему титулу и возрасту, заставляет и меня, со своей стороны, проявить в ответ максимальную откровенность в освещении интересующих и, к моему безграничному изумлению, откуда-то известных вам приватных событий моей жизни пятидесятитрехлетней давности. В своем письме ваш брат, сэр, Майкрофт Холмс, просьбам которого я, в силу известных обстоятельств, о которых умолчу, отказать никак не могу, написал мне, что вас интересует. А именно все то, что произошло в Петербурге в период времени заключенный между днем смерти, известной вам графини***, бабушки моего, ныне покойного мужа, графа Петра Александровича Томского, и вплоть до момента нашего с мужем отъезда из России в Англию, которую ни он, ни я, ни разу не покидали с тех пор. Сразу же хочу ответить и на поставленный им в письме прямой вопрос, – голос графини предательски дрогнул, но она справилась со своими чувствами и продолжала:
– Вопрос о существе того препарата, который был тогда применен. Этот флакончик привезли из Индии, и содержал он смесь некоторых одурманивающих алкалоидов, малых количеств яда кураре с добавлением вытяжки из каких-то восточных растений.
– Мы с Холмсом понимающе переглянулись.
– Единственно, что я хочу еще вам сказать, господа, чтобы окончательно закрыть эту тему, так это то, что события, о которых вам надлежит сейчас услышать, являются для меня самыми ужасными и трагическими на протяжении всей моей, богатой на разные превратности и, поверьте, непростой жизни. …Но в этом, господа, – голос ее опять дрогнул от волнения, – не люди, а теперь только Бог мне судья…
– А может и сам дьявол, – вдруг закончила она после небольшой заминки со странным смешком. И, если бы не заботы о Лизе – моей юной воспитаннице…