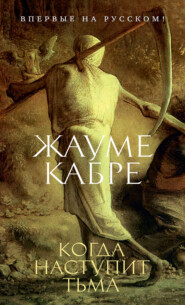По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тень евнуха
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы с Жулией посмотрели на официанта, который как из-под земли возник с бутылкой в руках.
– Пусть пробует дама, – сказал я наугад.
Но энергичный жест Жулии меня переубедил. И меня, и официанта. Я сделал вид, что оцениваю цвет, поболтал вино на дне бокала, понюхал его и попробовал. Я закатил глаза, понимая, что все это делается для внимательной и беспокойной публики. А я-то почем знаю. Для меня все вина хороши.
– Ну как, хорошее вино? – нетерпеливо спросила Жулия.
– Полагаю, да.
– Что значит «полагаю»? Горчит? Пробкой отдает?
– Нет-нет… Я же сказал, что лучше бы тебе пробовать.
Жулия одним взглядом положила конец спору. И оба джентльмена немедленно решили признать вино хорошим. Мне нравится решимость Жулии. Она привлекает меня, потому что отличается от моей застенчивости… и напоминает мне бабушку Амелию. Жулия прекрасно могла бы быть моей тетей.
– И правда, вино хорошее. Но обойдется тебе дорого.
– Что?
– Ты все еще в облаках витаешь.
– С позволения дамы… – Я встал, делая вид, что я официант, и убрал в карман зажигалку Айзека Стерна, которая, с тех пор как мне ее подарила Тереза, ни разу не ночевала ни в одном кармане, кроме моего. Жулия заметила этот бестактный поступок, но ничего не сказала. – Пойду помою руки. Не знаешь, где здесь туалет?
– В конце коридора, вон та дверь. По крайней мере, женский там.
Очень забавно спрашивать у чужого человека, где туалет в твоем собственном доме. И я пошел туда, где еще пять лет назад была ванная на первом этаже. А за столом осталась женщина, сверлившая мне затылок взглядом, – женщина, с которой я пока еще не знал, что делать, которая привела меня в мой собственный дом, чтобы я рассказывал ей о своем лучшем друге, и которая пока что только слушает с раскрытым ртом историю того мира, который встает передо мной в этих стенах. А я ей даже не сказал, что все дело в том, что «Красный дуб» был когда-то моим домом.
6
Молоденький официант показал мне, где в нашем доме туалет. Там, где раньше была ванная на первом этаже, какой-то бесцеремонный человек повесил на дверь ужасающего вида металлическую табличку с изображением джентльмена, отдаленно напоминавшего Марселя Пруста. Микель открыл дверь, немного разозлившись. Эта Майте Сегарра хорошенько постаралась использовать все имеющееся пространство. Ванну, батарею и шкафчики убрали. Перегородка разделила пространство на две части, в одной из которых стояли унитазы, а в другой, у окна, писсуары – у того самого окна, откуда он выглядывал, чтобы посмотреть, качается ли на качелях кузина Нурия или пытается стащить наклейки, которые он подкладывал ей в качестве приманки. Он обильно помочился. Это, наверное, из-за журчания фонтана ему так захотелось. Сейчас рядом с окном висел дозатор с мылом и две раковины. А в углу возле двери стоял автомат с презервативами. Как же мы умудрились потерять этот дом? И почему он не протестовал? Он бы, наверное, предпочел, чтобы его незаметно разрушили жуки-древоточцы, забвение, крысы, сорняки и насекомые, а не Майте Сегарра и все эти клиенты, которые день за днем вторгаются теперь в его личную жизнь. Я опустил монетку в автомат. Из кухни доносился охрипший и усталый голос повара с марокканским акцентом, что-то насчет нарезанной картошки, и я подумал, что жизнь полна ошибок, но возможности переиграть ход нет; в последнее время эта глубокая мысль приходит мне в голову постоянно; если чуть-чуть постараться, она может превратиться в самую что ни на есть замечательную навязчивую идею и прекрасный повод посетить психиатра. И хорошо еще, что у меня есть возможность думать об этом: бедному Болосу и этого не дано; он умер, почти не догадываясь, почему умирает. Его товарищи по парламенту и лично мэр в связи с его кончиной опубликовали в газетах некрологи с самыми броскими выражениями. Болосу, несомненно, предстояли великие свершения – да, если бы он только не погиб. Смерть встала на его пути совершенно неожиданно.
Я вышел из туалета с презервативом в кармане. Вместо того чтобы вернуться в библиотеку, я направился к выходу, к двери, которую отец в один прекрасный день открыл и – до свидания. Теперь ее открыл я. Дверь с тех пор совсем не изменилась. Вдалеке, скорее всего у моря, беззвучно вспыхивали молнии. В моем саду, полном незнакомых машин, было душновато. Земляничное дерево пряталось от моего взгляда в сумерках, стыдясь того, что встретились мы при таких обстоятельствах, и не решаясь сказать мне: «Микель, послушай, в конце концов, меня тут каждый день поливают, я знаю, что дело не в этом, но подчас не дано выбирать…» Микель с негодованием отвернулся от дурацких отговорок земляничного дерева, открыл дверь и снова вошел в дом, не обращая внимания на подозрительные взгляды своего друга-метрдотеля, и остановился в прихожей, оглядывая просторный вестибюль с таким же удивленным выражением, какое было у бабушки Амелии семьдесят два года назад, когда она еще не была бабушкой и даже матерью толком не успела стать, «но у нее уже был приемный сын, твой дядя Маурисий Безземельный, единственный оставшийся в живых истинный отпрыск семьи Женсана, Официальный Летописец и Совершенный Безумец с того самого дня, когда я понял, что есть боль, против которой невозможно устоять, а я все живу да живу, и если я все еще не умер и продолжаю приводить в порядок семейные архивы, то это из-за тебя, Микель, только из-за тебя». А Микель, сидя возле кресла, где дядя Маурисий сплетал нити воспоминаний и в который раз разглядывая дедовские портреты в психиатрической клинике «Бельэсгуард», говорил ему: «Сейчас я поступил бы точно так же, дядя. Я бы еще раз спас тебе жизнь, потому что люблю тебя». А дядя суровел и отвечал: «Микель, мужчины таких вещей друг другу не говорят. И если у меня когда-нибудь хватит храбрости рассказать тебе обо всем, ты, наверное, меня разлюбишь».
Бабушка Амелия никогда не смогла бы представить себе, что на эту дверь, которую муж открыл перед ней с сияющими от восторга глазами, на дверь дома, в который они въезжали после того, как его перестроил архитектор Мункуниль[25 - Льюис Мункуниль-и-Парельяда (1868–1931) – каталонский архитектор-модернист, в его творчестве прослеживается влияние таких значимых для испанского модернизма фигур, как Антонио Гауди и Льюис Доменек-и-Монтанер. Большинство спроектированных Мункунилем зданий находятся в каталонском городе Тарраса, который и является прототипом Фейшеса в романе Кабре. – Примеч. ред.], налепят аляповатые наклейки с названиями четырех самых престижных кредитных карт для удобства посетителей. Для клиентов. Войдя в дом, Амелия, госпожа Амелия Эролес, в замужестве Женсана, глубоко вздохнула и оглянулась, чтобы посмотреть на мужа; в глазах у нее были слезы. Муж стоял у порога и был гораздо более заинтригован тем, что она скажет, чем переделками в интерьере, уже прекрасно ему знакомыми.
– Тебе нравится? – спросил он с мольбой в голосе.
Это было так заметно, что она не решилась его расстраивать.
– Просто невероятно, Тон… Это… Это же… Такое впечатление, будто дом выстроили заново. Это, наверное, очень дорого стоило, Тон.
– На то и деньги, когда они есть: их нужно тратить. Осталось только обжить дом. Родители приедут только на следующей неделе.
– Мы всю неделю будем одни? – радостно спросила она.
(«Одни» значило, что вместе с ними, моими тогда еще любимыми приемными родителями, там был и я, несчастный сирота Маурисий Безземельный, спасенный от беды юношеским пылом благородства твоей бабушки Амелии, благослови ее Господь, и деда Тона, катись он от врат Господних прямо в ад; Пере – Пере Женсана Первый, Беглец – твой отец, Микель, и мой самый близкий в жизни друг в течение многих лет, о котором у тебя дома не хотят вспоминать, потому что однажды он испугался и не подумал ни о ком, кроме себя самого; а еще твои тетки, Элионор и Эльвира, мои сводные сестры. И четыре человека прислуги. Я тебе когда-нибудь расскажу про служанок, которых я там застал, Микель. Знаешь что? Дом Женсана всегда был слишком велик для такого незначительного количества обитателей.)
Дядя Маурисий имел обыкновение создавать теории обо всем на свете, и у него этих теорий накопилась большая коллекция; он слишком много вечеров провел скучая, и пребывание в сумасшедшем доме обострило его ум. Одна из таких теорий, которую он позаимствовал у князя ди Лампедуза[26 - Джузеппе Томази ди Лампедуза (1896–1957) – итальянский писатель, автор романа «Леопард», по мотивам которого Лукино Висконти поставил одноименный фильм.] (дядя никогда не скрывал своих источников), состояла в том, что настоящий дом, во всей широте, щедрости и сложности этого понятия, должен быть достаточно велик для того, чтобы хранить секреты от самих обитателей. А если дом к тому же еще и красив, само обитание в нем и рождение новых поколений дает жизни какой-то смысл. Так говорил дядя, детей у которого никогда не было. Он считал особняк Женсана настоящим домом, потому что там было столько секретов, что в каждом уголке жила своя печальная история. А теперь он еще и превратился в ресторан. Дом был настоящим домом, несмотря на то что некоторые из его хозяев, в большинстве своем Мауры, делали все возможное, чтобы как следует его обезобразить. Скорее всего, ни один из членов семьи Женсана, там живших (за исключением Маурисия), не понимал своего счастья: дом был знаком им всю жизнь. Это скорее гости, приезжавшие на крестины или на похороны, или заходившие попить чаю, или заглядывавшие поздравить Маура или Антония с именинами, изумлялись величественной красоте здания и окружавшего его сада. Многие восторгались часовней в вышедшем из моды барочном стиле эпохи прадеда Маура с песиком Бонапартом, который приложил руку к ее украшению совершенно ужасающими статуэтками и орнаментами. Но несмотря на сомнительный интерьер, самому зданию часовни, довольно небольшому, было присуще некоторое благородство. Эта скромных размеров часовня отличалась прекрасно выдержанными пропорциями; в ней венчались все представители рода Женсана – и мужчины, и женщины, когда-либо вступавшие в брак. Без исключения. Лучи солнца в часовню попадали через три разноцветных витража на окнах северной стены со сценой из Ветхого Завета на каждом. Стена напротив была глухая, если не считать двери в ризницу, – с этой стороны часовня примыкала к дому. Алтарь на клиросе, на две пяди приподнятом над остальной частью нефа, был свидетелем профессиональных амбиций нескольких десятков священников, служивших там мессы и справлявших все разнообразие литургических действ, которые проводили в Фейшесе. Тридцать скамей и исповедальня (отличное укрытие, когда играешь в прятки), да еще крестильная купель и три картины маслом с изображением святых на глухой стене. Снаружи, в колокольне с завитками, обитали Антоний и Маур – два небольших колокола, звон которых отмечал все важные события в доме Женсана.
Но главным предметом гордости семейства Женсана был дом: бельэтаж, основной жилой этаж и верхний этаж для прислуги. Знающие люди говорили, что в нем насчитывалось двадцать три комнаты, в том числе двенадцать спален и, конечно же, комната Элионор. А кроме того, две столовых, гостиная, портретная галерея, библиотека прадеда Маура (семь тысяч восемьсот тридцать пять томов и великолепный салонный рояль), кухня, гардеробная, гладильная, прачечная и дворик для сушки белья. И еще кое-что, чего ни один гость не видел. Но все-таки самое глубокое впечатление производил сад: тенистый парк площадью в два гектара, в одном из уголков которого был пруд с фонтаном и беседка, окруженная белым жасмином, который в июле источал сладкий, пьянящий аромат. И магнолиевая аллея, ведущая к лесной части, к каштановой роще, где я поцеловал Жемму и стал мужчиной и где до этого целые поколения маленьких Женсанчиков и Женсаночек переживали восхитительные приключения в обществе ужасных неописуемых чудовищ. Сейчас этот великолепный сад, полный историй, превратился в удобную парковку для клиентов не менее великолепного ресторана. В сумерках, за то время, пока он был снаружи, Микель не успел точно разглядеть, сколько деревьев срубили для того, чтобы расширить парковку или сделать окрестности посветлее.
– Дядя…
– Что?
– Дом уже не наш. Отец…
– Я знаю. А почему, ты думаешь, я сошел с ума?
Он взял в руки синюю пальму, которую сложил из бумаги за время нашего разговора, и стал разглядывать ее так пристально, будто от этого зависела его дальнейшая судьба. А потом посмотрел мне в глаза:
– По какому праву. – У него не было сил даже придать вопросительную интонацию.
– Дом же принадлежал отцу, так?
Я не понял дядиного молчания. Его невозможно было понять даже по прошествии нескольких месяцев.
– По какому праву он это сделал? – Теперь вопросительная интонация все-таки прозвучала.
– Посмотрим, сможем ли мы его вернуть. – Я кашлянул. – Адвокат говорит, что…
Да что он скажет, этот адвокат? Бедняга Альмендрос был еще больше подавлен, чем мы все, когда ему пришлось сообщить нам, что мебель и воспоминания из дома необходимо вывезти в течение месяца. Но поскольку я часто вру, Микелю все-таки удалось договорить:
– …что нашу апелляцию могут удовлетворить. У нас еще несколько месяцев осталось.
Новое молчание дяди подтвердило то, о чем всегда говорила Жемма: врать я совершенно не умею.
Дядя опять взял в руки пальму и, как с ромашки, начал обрывать с нее листья в немом «любит – не любит», от которого зависела судьба уже не столько дома, потому что с тем, что сказал адвокат, поделать ничего уже было нельзя, сколько моей совести, которая давно уже протекает, как дуршлаг.
7
«В теории Косериу, в отличие от теории Ельмслева, система не имеет формального характера. Система Косериу концептуально ближе к понятию нормы Ельмслева: это функциональная часть языка. Таким образом, в определении фонемы как системы будут представлены ее основные характеристики. В общем и целом понятие нормы для Ельмслева и Косериу формулируется на несколько абстрактном уровне». И это когда еще была возможность ходить на лекции, потому что атмосфера с каждым днем все больше накалялась от серого, гнетущего присутствия полиции, и те студенты, которые, как я, поначалу впали в некоторое заблуждение, считая, что в университет они пришли учиться, начали понемногу понимать, что нас ждут более срочные дела, чем установление разницы между системами Косериу и Ельмслева, – скажем, возвращение демократии; скажем, использование права нашей нации на самоопределение; скажем, освобождение от фашизма и от созданных франкизмом структур; скажем, революция. Потому что в стране, согнувшейся под гнетом фашистской, ультраправой и контрреволюционной диктатуры, назревали объективные условия для революционного процесса. «Нет никакого сомнения, что без помощи Соссюра Ельмслеву не удалось бы так ясно увидеть корень проблемы, а значит, сегодня мы бы не говорили с такой определенностью о глоссематике». Объективные условия для революции создаются конкретными социальными и историческими обстоятельствами. Однако они могут быть использованы только революционной элитой, стоящей у руля. Она руководит борьбой в конкретном обществе, идущем путем революционного процесса к установлению по-настоящему справедливого строя после необходимого, но недолгого периода диктатуры пролетариата. Таким вещам учишься, прислушиваясь, на них обращаешь пристальное внимание, чтобы переварить столько новой информации. В этом состоял первый университетский курс Микеля Женсаны Второго, Впечатлительного. А еще он деликатно следил за всеми передвижениями Берты, которые с каждым разом, и очень явно, становились все более таинственными. Бывали дни, когда он совсем не видел ее на лекциях. Несмотря на это, в обед она сидела в баре и, держа в руке бутерброд с сыром, вела в углу беседу с каким-то незнакомцем, да еще с таким жаром, что даже не замечала меня, и я думал: черт бы тебя побрал, парень, что ты ей там рассказываешь, совсем ее заворожил. С той ночи, когда Берта и Микель, Абеляр и Элоиза, вместе писали лозунги на стенах двух важных административных зданий франкистского правительства в Барселоне, они ни разу не разговаривали об этом. Они доехали на мотороллере до переулка Доминго, чтобы вернуть «веспу» на место, и выпили обещанного самим себе пива в «Драгсторе». Я сидел понурый, мне хотелось рассказать Берте о том, что я оказался не на высоте и все сделал не так. Но она не дала мне возможности ни в чем признаться, потому что все это время проговорила о разделении нашего общества на классы и о том, что теперь ей все стало гораздо яснее и у жизни появился смысл. И Микель говорил: «да, Берта» – и тонул в ее полном энергии взгляде; ему было абсолютно наплевать на то, что необходимо осуществить анализ конкретной реальности, потому что было нечто более срочное, как, например: «Берта, я люблю тебя, я с ума по тебе схожу, я с места не могу сдвинуться, ты – Путь, Истина и Жизнь; ты даешь жизни смысл, но ко мне совершенно равнодушна». В тот вечер в «Драгсторе» она взглянула на часы и, словно внутри ее сработал некий пружинный механизм, сказала: «ну все, мне пора бежать» – и положила на стол купюру в сто песет, ведь настоящая революционерка никогда не позволит мужчине заплатить за себя: это мелкобуржуазный пережиток. И ушла, как только ей принесли сдачу, не позволив себя проводить, прочь, в никуда, исчезла из жизни Микеля, а они были так близки, когда смотрели опасности в лицо. Ту ночь, уже пропустив все поезда домой, Микель проспал в подъезде, и ему казалось, что душа его окоченела от холода. С тех пор, когда они встречались на занятиях, Берта никогда не делала и не говорила ничего связанного с их совместным приключением. А он, хотя и находил время, чтобы разобраться в различиях между латинским и греческим крестами, и пытался понять, какой момент благоприятен для настоящей революции, бродил по коридорам тоскующей тенью, и Болос был обеспокоен, хотя сам в то время волочился за очень низенькой девушкой из Реуса с милым лицом и самым чувственным голосом, какой мне приходилось слышать. Думаю, Болос был влюблен именно в это меццо-сопрано. Так что я сообщил ему, что мы оба влюблены в призрак. Нас обоих пора выбрасывать на помойку, а прошли мы всего лишь три четверти курса. И дело не в трудности латыни, не в сухости арабского языка (который учил я) или греческого (который учил Болос), не в зубрежке огромного количества исторических фактов (кстати, представленных на страницах толстенных учебников без тени революционной точности, как живейшее выражение реакционной и фашистской историографии преподавателей нашего университета) и не в тысяче слайдов произведений искусства, превращавшихся под конец вместо удовольствия в мучительную угрозу. Нет, дело было совсем не в этом, дело было в том, что, взглянув в глаза девушке или услышав ее голос, мы совершенно лишались сил. И мы признали эту очевидность, выходя как-то вечером из Национальной библиотеки Каталонии, на улице де-л’Оспиталь, когда решили все друг другу рассказать, и разревелись над кружкой пива, и продолжали плакать над второй и третьей. Болос и Микель напились до беспамятства, как следует, до крайности, до рвоты. Эта пьянка из пьянок, крик разбитых сердец, объединила нас еще больше, если такое возможно, но мы продолжали все так же грустить. С того дня мы с Болосом – братья по духу, Жулия.
Время от времени Микель думал о том, что Берта ни разу его не упрекнула за то, что он не проявил достаточного революционного тщания, когда писал на стене мэрии; несколько раз я собирался пойти и закончить начатое, один, но мне ужасно не хотелось этого делать. А полиция все не оставляла нас в покое. Барселона в то время была черно-белым печальным городом, придушенным безжалостной рукой диктатора. Несмотря на красоту, которую невозможно скрыть, это был город с грустным взглядом, который жил, отвернувшись от моря, совершенно отгородившись от собственного волшебства. Бедная Барселона, где капрал полиции имел больше власти, чем владелец старейшего магазина на проспекте Грасия. И вот пришел тот день, когда Берта со своей улыбкой исчезла, и Микель не знал куда. Он спрашивал у Болоса и у остальных товарищей; спрашивал у члена профсоюза, который учился на его курсе; тот тоже ничего о ней не слышал. На самом деле я не приходил в отчаяние до тех пор, пока не узнал, что экзамены она тоже сдавать не будет. Она исчезла бесследно: даже в общежитии, где она жила, ему сказали, что Берта вот уже несколько недель как уехала, не сказав куда. И вот так Микель Марлоу-Женсана[27 - Филип Марлоу – частный детектив из Лос-Анджелеса, главный герой рассказов и романов американского писателя Реймонда Чандлера (1888–1959), многие из которых были экранизированы. В 1969 г. на экраны вышел фильм «Марлоу», экранизация романа Р. Чандлера «Младшая сестра», где детектив расследует исчезновение человека. – Примеч. ред.] нежданно-негаданно потерял свою любовь. И Болос, большой специалист по части решения чужих проблем, сказал ему: «Но ведь, в конце концов, когда ты ее здесь видел, ты тоже не мог к ней даже прикоснуться. Ты что, чучело, не видишь, что эта девушка не для тебя и ты был ей совершенно безразличен?» А я, хоть и не говорил ни слова, вспоминал жаркое объятие на мотороллере во время самоубийственной подпольной операции по разрисовке правительственных зданий революционными надписями, о любимая и пропавшая Берта души моей.
Под конец учебного года Барселонский университет гудел, как паровой котел, превратившись в бастион наивной, но благородной борьбы с франкизмом. И представители власти растерянно наблюдали, как отпрыски буржуазии (которая продолжала терпеть и улыбаться, когда следует) восставали против истории. А в начале второго курса мы с Болосом познакомились с Субиратсом. О Берте не было ни слуху ни духу, хотя она все еще жила в моей памяти, в красном пальто, в зимней куртке, с книгами и баллончиками с краской в руках. Субиратс, высокий, видный парень несколько загадочного вида, никогда не заходивший на лекции, с бесконечным терпением стал заниматься с шестью или семью непосвященными, среди которых были и мы с Болосом, открывать им тайны основных событий недавней истории: Маркс, Энгельс, Роза Люксембург, Лондон, Германия, меньшевики, большевики, «Апрельские тезисы», объективные причины падения авторитета Временного правительства Керенского, революция, Ленин, Троцкий, Красная армия, Сталин, Зимний дворец… Мы с трепетом ходили на тайные показы фильмов «Октябрь», «Иван Грозный» и «Броненосец „Потемкин“» на узкой, 16-миллиметровой пленке, служивших для нас роскошным продолжением обычных занятий революционным катехизисом. И дальше речь шла о надеждена равновесие в обществе, о необходимости немедленного создания крепкой, профессионально направленной партийной структуры (ленинский тезис) вместо партии масс (тезис социал-демократов). О социалистах христианского толка, о попутчиках, о партии, о необходимости создания рабочей Красной гвардии, о демократическом централизме (на этом этапе катехизиса трое из семерых студентов уже вступили в Объединенную социалистическую партию Каталонии, среди них Микель Женсана Второй, Новообращенный: по примеру первых христиан они сделали это без помпы, достаточно было рукопожатия с ответственным за ячейку, в суровой дисциплине катакомб, – святой Тарцизий, святая Присцилла, святой Микель Женсана, коммунист христианского происхождения). О строгости подпольной работы – без шуток, на войне как на войне, – о конфедерации профсоюзов Испании, о постоянной, до изнеможения, без перерыва деятельности (тут еще двое заявили о своем желании вступить в партию), о необходимости по причине строгой секретности хранить все это в тайне даже от самых близких. И в сердце поселилось чувство опасности, не очень острое, но постоянное. И боль за павших товарищей. И вся эта история с самокритикой: что случилось, что произошло, почему произошло, почему мы это не предотвратили, почему мы этого не предвидели… И всегда получалось, что ты сам во всем виноват, потому что солдат всегда должен быть бдителен, – то же самое чувство, которое прививали мне еще иезуиты в старших классах школы. И мы делали все, чтобы через десять-пятнадцать лет у психиатров не было недостатка в клиентах. Я, помнится, чувствовал, что все, что ни делается в Советском Союзе, прекрасно, а мы и не знали. «Yankees, go home»[28 - «Янки, вон отсюда» (англ.). Популярный в 1960-е гг. лозунг, адресованный американским войскам, размещенным на Кубе на базе в Гуантанамо. – Примеч. ред.]. И первое воскресенье, когда ни Болос, ни я, не сговариваясь, не пошли к мессе – посмотреть, что из этого получится. На следующий день мы поняли, что ничего не произошло, то есть, наоборот, происходило нечто замечательное: у нас стало гораздо больше времени. И через несколько ночей – первый приступ тахикардии, который меня ужасно напугал. Это произошло дома, ночью. Бабушка Амелия уже давно спала, а родители ушли, не помню куда. Дела у Пере Первого, Будущего Беглеца, шли уже неважно, но фабрика стараниями моего кузена Рамона и при почетном присутствии дяди Маурисия все еще как-то держалась на плаву. У Рамона был разгар приготовлений к свадьбы с Лали Брос, и каждую ночь он падал в кровать совершенно измученным. Я всегда спал в комнате один, потому что чего-чего, а комнат в доме Женсана было предостаточно: комната у меня была огромная, почти необъятная, и я променял ее на мечту, Жулия.
Было темно, и я еще не совсем очнулся от кошмара, в котором страх перед дубинкой бешеного полицейского, яростно набрасывавшегося на нас во время полуденной демонстрации, смешивался с завыванием сирен и нашими голосами: криками мы с Болосом пытались прогнать страх, ведь на демонстрацию пошли только Болос, Микель и еще сто девяносто восемь идиотов. (Бояться, между прочим, не контрреволюционно.) Я в отчаянии бросился в первый попавшийся открытый подъезд, потому что больше всего боялся, что меня схватят и увезут в полицейский участок на улице Лайетана и там начнут пытать. Нет, только не это! Микель не знал, насколько он способен переносить физическую боль, и ни в коем случае не хотел превратиться в предателя. Нет-нет, только не это! Такие вещи ему снились – все вперемешку. Кроме того, его беспокоило еще кое-что: он столько времени провел на демонстрациях, что уже давно не занимался, не ходил в библиотеку и не появлялся на лекциях. Ни о каких лекциях в такой обстановке и речи быть не могло. Мое будущее историка («Да уж, историк, с такой профессией на кусок хлеба с маслом не заработаешь! И не стыдно тебе, что твой двоюродный брат, дальний родственник, а вовсе не мой сын, заведует нашей фабрикой?») начало погружаться в туман. На самом деле я даже не знал, собираюсь ли я быть в этом неясном будущем историком, филологом, литературоведом, востоковедом или географом: в те беспокойные годы все эти профессии вызывали у меня интерес, и это только усложняло то, что мне и раньше давалось непросто, – принятие решений. Тогда-то меня и разбудил стук далеких барабанов, стук близкий и неровный, и я проснулся в темноте, весь в поту, и грудь моя оказалась натянутой кожей барабана, и из нее раздавалось «бум-ба-рам-бей-бум». Я испугался и не придумал ничего лучшего, как пойти разбудить Рамона, который в рабочие дни ночевал у нас дома: «Эй, Рамон, ну проснись!» – а он все спал как убитый. (Рамон окончил школу с отличными оценками, помогал с фабрикой своему дяде, то есть моему отцу, был помолвлен с Лали Брос, вот-вот должен был жениться, а по воскресеньям ходил на футбол – понятное дело, что чутко спать он никак не мог.)
– Что случилось?
– Не знаю, – с тревогой ответил Микель. – Вот, потрогай.
Он положил руку кузена себе на грудь. Тот отдернул ее как ужаленный. Потом протер глаза и вернул руку на то же место.
– Вот черт! Что же это такое?
– Не знаю.
– Пусть пробует дама, – сказал я наугад.
Но энергичный жест Жулии меня переубедил. И меня, и официанта. Я сделал вид, что оцениваю цвет, поболтал вино на дне бокала, понюхал его и попробовал. Я закатил глаза, понимая, что все это делается для внимательной и беспокойной публики. А я-то почем знаю. Для меня все вина хороши.
– Ну как, хорошее вино? – нетерпеливо спросила Жулия.
– Полагаю, да.
– Что значит «полагаю»? Горчит? Пробкой отдает?
– Нет-нет… Я же сказал, что лучше бы тебе пробовать.
Жулия одним взглядом положила конец спору. И оба джентльмена немедленно решили признать вино хорошим. Мне нравится решимость Жулии. Она привлекает меня, потому что отличается от моей застенчивости… и напоминает мне бабушку Амелию. Жулия прекрасно могла бы быть моей тетей.
– И правда, вино хорошее. Но обойдется тебе дорого.
– Что?
– Ты все еще в облаках витаешь.
– С позволения дамы… – Я встал, делая вид, что я официант, и убрал в карман зажигалку Айзека Стерна, которая, с тех пор как мне ее подарила Тереза, ни разу не ночевала ни в одном кармане, кроме моего. Жулия заметила этот бестактный поступок, но ничего не сказала. – Пойду помою руки. Не знаешь, где здесь туалет?
– В конце коридора, вон та дверь. По крайней мере, женский там.
Очень забавно спрашивать у чужого человека, где туалет в твоем собственном доме. И я пошел туда, где еще пять лет назад была ванная на первом этаже. А за столом осталась женщина, сверлившая мне затылок взглядом, – женщина, с которой я пока еще не знал, что делать, которая привела меня в мой собственный дом, чтобы я рассказывал ей о своем лучшем друге, и которая пока что только слушает с раскрытым ртом историю того мира, который встает передо мной в этих стенах. А я ей даже не сказал, что все дело в том, что «Красный дуб» был когда-то моим домом.
6
Молоденький официант показал мне, где в нашем доме туалет. Там, где раньше была ванная на первом этаже, какой-то бесцеремонный человек повесил на дверь ужасающего вида металлическую табличку с изображением джентльмена, отдаленно напоминавшего Марселя Пруста. Микель открыл дверь, немного разозлившись. Эта Майте Сегарра хорошенько постаралась использовать все имеющееся пространство. Ванну, батарею и шкафчики убрали. Перегородка разделила пространство на две части, в одной из которых стояли унитазы, а в другой, у окна, писсуары – у того самого окна, откуда он выглядывал, чтобы посмотреть, качается ли на качелях кузина Нурия или пытается стащить наклейки, которые он подкладывал ей в качестве приманки. Он обильно помочился. Это, наверное, из-за журчания фонтана ему так захотелось. Сейчас рядом с окном висел дозатор с мылом и две раковины. А в углу возле двери стоял автомат с презервативами. Как же мы умудрились потерять этот дом? И почему он не протестовал? Он бы, наверное, предпочел, чтобы его незаметно разрушили жуки-древоточцы, забвение, крысы, сорняки и насекомые, а не Майте Сегарра и все эти клиенты, которые день за днем вторгаются теперь в его личную жизнь. Я опустил монетку в автомат. Из кухни доносился охрипший и усталый голос повара с марокканским акцентом, что-то насчет нарезанной картошки, и я подумал, что жизнь полна ошибок, но возможности переиграть ход нет; в последнее время эта глубокая мысль приходит мне в голову постоянно; если чуть-чуть постараться, она может превратиться в самую что ни на есть замечательную навязчивую идею и прекрасный повод посетить психиатра. И хорошо еще, что у меня есть возможность думать об этом: бедному Болосу и этого не дано; он умер, почти не догадываясь, почему умирает. Его товарищи по парламенту и лично мэр в связи с его кончиной опубликовали в газетах некрологи с самыми броскими выражениями. Болосу, несомненно, предстояли великие свершения – да, если бы он только не погиб. Смерть встала на его пути совершенно неожиданно.
Я вышел из туалета с презервативом в кармане. Вместо того чтобы вернуться в библиотеку, я направился к выходу, к двери, которую отец в один прекрасный день открыл и – до свидания. Теперь ее открыл я. Дверь с тех пор совсем не изменилась. Вдалеке, скорее всего у моря, беззвучно вспыхивали молнии. В моем саду, полном незнакомых машин, было душновато. Земляничное дерево пряталось от моего взгляда в сумерках, стыдясь того, что встретились мы при таких обстоятельствах, и не решаясь сказать мне: «Микель, послушай, в конце концов, меня тут каждый день поливают, я знаю, что дело не в этом, но подчас не дано выбирать…» Микель с негодованием отвернулся от дурацких отговорок земляничного дерева, открыл дверь и снова вошел в дом, не обращая внимания на подозрительные взгляды своего друга-метрдотеля, и остановился в прихожей, оглядывая просторный вестибюль с таким же удивленным выражением, какое было у бабушки Амелии семьдесят два года назад, когда она еще не была бабушкой и даже матерью толком не успела стать, «но у нее уже был приемный сын, твой дядя Маурисий Безземельный, единственный оставшийся в живых истинный отпрыск семьи Женсана, Официальный Летописец и Совершенный Безумец с того самого дня, когда я понял, что есть боль, против которой невозможно устоять, а я все живу да живу, и если я все еще не умер и продолжаю приводить в порядок семейные архивы, то это из-за тебя, Микель, только из-за тебя». А Микель, сидя возле кресла, где дядя Маурисий сплетал нити воспоминаний и в который раз разглядывая дедовские портреты в психиатрической клинике «Бельэсгуард», говорил ему: «Сейчас я поступил бы точно так же, дядя. Я бы еще раз спас тебе жизнь, потому что люблю тебя». А дядя суровел и отвечал: «Микель, мужчины таких вещей друг другу не говорят. И если у меня когда-нибудь хватит храбрости рассказать тебе обо всем, ты, наверное, меня разлюбишь».
Бабушка Амелия никогда не смогла бы представить себе, что на эту дверь, которую муж открыл перед ней с сияющими от восторга глазами, на дверь дома, в который они въезжали после того, как его перестроил архитектор Мункуниль[25 - Льюис Мункуниль-и-Парельяда (1868–1931) – каталонский архитектор-модернист, в его творчестве прослеживается влияние таких значимых для испанского модернизма фигур, как Антонио Гауди и Льюис Доменек-и-Монтанер. Большинство спроектированных Мункунилем зданий находятся в каталонском городе Тарраса, который и является прототипом Фейшеса в романе Кабре. – Примеч. ред.], налепят аляповатые наклейки с названиями четырех самых престижных кредитных карт для удобства посетителей. Для клиентов. Войдя в дом, Амелия, госпожа Амелия Эролес, в замужестве Женсана, глубоко вздохнула и оглянулась, чтобы посмотреть на мужа; в глазах у нее были слезы. Муж стоял у порога и был гораздо более заинтригован тем, что она скажет, чем переделками в интерьере, уже прекрасно ему знакомыми.
– Тебе нравится? – спросил он с мольбой в голосе.
Это было так заметно, что она не решилась его расстраивать.
– Просто невероятно, Тон… Это… Это же… Такое впечатление, будто дом выстроили заново. Это, наверное, очень дорого стоило, Тон.
– На то и деньги, когда они есть: их нужно тратить. Осталось только обжить дом. Родители приедут только на следующей неделе.
– Мы всю неделю будем одни? – радостно спросила она.
(«Одни» значило, что вместе с ними, моими тогда еще любимыми приемными родителями, там был и я, несчастный сирота Маурисий Безземельный, спасенный от беды юношеским пылом благородства твоей бабушки Амелии, благослови ее Господь, и деда Тона, катись он от врат Господних прямо в ад; Пере – Пере Женсана Первый, Беглец – твой отец, Микель, и мой самый близкий в жизни друг в течение многих лет, о котором у тебя дома не хотят вспоминать, потому что однажды он испугался и не подумал ни о ком, кроме себя самого; а еще твои тетки, Элионор и Эльвира, мои сводные сестры. И четыре человека прислуги. Я тебе когда-нибудь расскажу про служанок, которых я там застал, Микель. Знаешь что? Дом Женсана всегда был слишком велик для такого незначительного количества обитателей.)
Дядя Маурисий имел обыкновение создавать теории обо всем на свете, и у него этих теорий накопилась большая коллекция; он слишком много вечеров провел скучая, и пребывание в сумасшедшем доме обострило его ум. Одна из таких теорий, которую он позаимствовал у князя ди Лампедуза[26 - Джузеппе Томази ди Лампедуза (1896–1957) – итальянский писатель, автор романа «Леопард», по мотивам которого Лукино Висконти поставил одноименный фильм.] (дядя никогда не скрывал своих источников), состояла в том, что настоящий дом, во всей широте, щедрости и сложности этого понятия, должен быть достаточно велик для того, чтобы хранить секреты от самих обитателей. А если дом к тому же еще и красив, само обитание в нем и рождение новых поколений дает жизни какой-то смысл. Так говорил дядя, детей у которого никогда не было. Он считал особняк Женсана настоящим домом, потому что там было столько секретов, что в каждом уголке жила своя печальная история. А теперь он еще и превратился в ресторан. Дом был настоящим домом, несмотря на то что некоторые из его хозяев, в большинстве своем Мауры, делали все возможное, чтобы как следует его обезобразить. Скорее всего, ни один из членов семьи Женсана, там живших (за исключением Маурисия), не понимал своего счастья: дом был знаком им всю жизнь. Это скорее гости, приезжавшие на крестины или на похороны, или заходившие попить чаю, или заглядывавшие поздравить Маура или Антония с именинами, изумлялись величественной красоте здания и окружавшего его сада. Многие восторгались часовней в вышедшем из моды барочном стиле эпохи прадеда Маура с песиком Бонапартом, который приложил руку к ее украшению совершенно ужасающими статуэтками и орнаментами. Но несмотря на сомнительный интерьер, самому зданию часовни, довольно небольшому, было присуще некоторое благородство. Эта скромных размеров часовня отличалась прекрасно выдержанными пропорциями; в ней венчались все представители рода Женсана – и мужчины, и женщины, когда-либо вступавшие в брак. Без исключения. Лучи солнца в часовню попадали через три разноцветных витража на окнах северной стены со сценой из Ветхого Завета на каждом. Стена напротив была глухая, если не считать двери в ризницу, – с этой стороны часовня примыкала к дому. Алтарь на клиросе, на две пяди приподнятом над остальной частью нефа, был свидетелем профессиональных амбиций нескольких десятков священников, служивших там мессы и справлявших все разнообразие литургических действ, которые проводили в Фейшесе. Тридцать скамей и исповедальня (отличное укрытие, когда играешь в прятки), да еще крестильная купель и три картины маслом с изображением святых на глухой стене. Снаружи, в колокольне с завитками, обитали Антоний и Маур – два небольших колокола, звон которых отмечал все важные события в доме Женсана.
Но главным предметом гордости семейства Женсана был дом: бельэтаж, основной жилой этаж и верхний этаж для прислуги. Знающие люди говорили, что в нем насчитывалось двадцать три комнаты, в том числе двенадцать спален и, конечно же, комната Элионор. А кроме того, две столовых, гостиная, портретная галерея, библиотека прадеда Маура (семь тысяч восемьсот тридцать пять томов и великолепный салонный рояль), кухня, гардеробная, гладильная, прачечная и дворик для сушки белья. И еще кое-что, чего ни один гость не видел. Но все-таки самое глубокое впечатление производил сад: тенистый парк площадью в два гектара, в одном из уголков которого был пруд с фонтаном и беседка, окруженная белым жасмином, который в июле источал сладкий, пьянящий аромат. И магнолиевая аллея, ведущая к лесной части, к каштановой роще, где я поцеловал Жемму и стал мужчиной и где до этого целые поколения маленьких Женсанчиков и Женсаночек переживали восхитительные приключения в обществе ужасных неописуемых чудовищ. Сейчас этот великолепный сад, полный историй, превратился в удобную парковку для клиентов не менее великолепного ресторана. В сумерках, за то время, пока он был снаружи, Микель не успел точно разглядеть, сколько деревьев срубили для того, чтобы расширить парковку или сделать окрестности посветлее.
– Дядя…
– Что?
– Дом уже не наш. Отец…
– Я знаю. А почему, ты думаешь, я сошел с ума?
Он взял в руки синюю пальму, которую сложил из бумаги за время нашего разговора, и стал разглядывать ее так пристально, будто от этого зависела его дальнейшая судьба. А потом посмотрел мне в глаза:
– По какому праву. – У него не было сил даже придать вопросительную интонацию.
– Дом же принадлежал отцу, так?
Я не понял дядиного молчания. Его невозможно было понять даже по прошествии нескольких месяцев.
– По какому праву он это сделал? – Теперь вопросительная интонация все-таки прозвучала.
– Посмотрим, сможем ли мы его вернуть. – Я кашлянул. – Адвокат говорит, что…
Да что он скажет, этот адвокат? Бедняга Альмендрос был еще больше подавлен, чем мы все, когда ему пришлось сообщить нам, что мебель и воспоминания из дома необходимо вывезти в течение месяца. Но поскольку я часто вру, Микелю все-таки удалось договорить:
– …что нашу апелляцию могут удовлетворить. У нас еще несколько месяцев осталось.
Новое молчание дяди подтвердило то, о чем всегда говорила Жемма: врать я совершенно не умею.
Дядя опять взял в руки пальму и, как с ромашки, начал обрывать с нее листья в немом «любит – не любит», от которого зависела судьба уже не столько дома, потому что с тем, что сказал адвокат, поделать ничего уже было нельзя, сколько моей совести, которая давно уже протекает, как дуршлаг.
7
«В теории Косериу, в отличие от теории Ельмслева, система не имеет формального характера. Система Косериу концептуально ближе к понятию нормы Ельмслева: это функциональная часть языка. Таким образом, в определении фонемы как системы будут представлены ее основные характеристики. В общем и целом понятие нормы для Ельмслева и Косериу формулируется на несколько абстрактном уровне». И это когда еще была возможность ходить на лекции, потому что атмосфера с каждым днем все больше накалялась от серого, гнетущего присутствия полиции, и те студенты, которые, как я, поначалу впали в некоторое заблуждение, считая, что в университет они пришли учиться, начали понемногу понимать, что нас ждут более срочные дела, чем установление разницы между системами Косериу и Ельмслева, – скажем, возвращение демократии; скажем, использование права нашей нации на самоопределение; скажем, освобождение от фашизма и от созданных франкизмом структур; скажем, революция. Потому что в стране, согнувшейся под гнетом фашистской, ультраправой и контрреволюционной диктатуры, назревали объективные условия для революционного процесса. «Нет никакого сомнения, что без помощи Соссюра Ельмслеву не удалось бы так ясно увидеть корень проблемы, а значит, сегодня мы бы не говорили с такой определенностью о глоссематике». Объективные условия для революции создаются конкретными социальными и историческими обстоятельствами. Однако они могут быть использованы только революционной элитой, стоящей у руля. Она руководит борьбой в конкретном обществе, идущем путем революционного процесса к установлению по-настоящему справедливого строя после необходимого, но недолгого периода диктатуры пролетариата. Таким вещам учишься, прислушиваясь, на них обращаешь пристальное внимание, чтобы переварить столько новой информации. В этом состоял первый университетский курс Микеля Женсаны Второго, Впечатлительного. А еще он деликатно следил за всеми передвижениями Берты, которые с каждым разом, и очень явно, становились все более таинственными. Бывали дни, когда он совсем не видел ее на лекциях. Несмотря на это, в обед она сидела в баре и, держа в руке бутерброд с сыром, вела в углу беседу с каким-то незнакомцем, да еще с таким жаром, что даже не замечала меня, и я думал: черт бы тебя побрал, парень, что ты ей там рассказываешь, совсем ее заворожил. С той ночи, когда Берта и Микель, Абеляр и Элоиза, вместе писали лозунги на стенах двух важных административных зданий франкистского правительства в Барселоне, они ни разу не разговаривали об этом. Они доехали на мотороллере до переулка Доминго, чтобы вернуть «веспу» на место, и выпили обещанного самим себе пива в «Драгсторе». Я сидел понурый, мне хотелось рассказать Берте о том, что я оказался не на высоте и все сделал не так. Но она не дала мне возможности ни в чем признаться, потому что все это время проговорила о разделении нашего общества на классы и о том, что теперь ей все стало гораздо яснее и у жизни появился смысл. И Микель говорил: «да, Берта» – и тонул в ее полном энергии взгляде; ему было абсолютно наплевать на то, что необходимо осуществить анализ конкретной реальности, потому что было нечто более срочное, как, например: «Берта, я люблю тебя, я с ума по тебе схожу, я с места не могу сдвинуться, ты – Путь, Истина и Жизнь; ты даешь жизни смысл, но ко мне совершенно равнодушна». В тот вечер в «Драгсторе» она взглянула на часы и, словно внутри ее сработал некий пружинный механизм, сказала: «ну все, мне пора бежать» – и положила на стол купюру в сто песет, ведь настоящая революционерка никогда не позволит мужчине заплатить за себя: это мелкобуржуазный пережиток. И ушла, как только ей принесли сдачу, не позволив себя проводить, прочь, в никуда, исчезла из жизни Микеля, а они были так близки, когда смотрели опасности в лицо. Ту ночь, уже пропустив все поезда домой, Микель проспал в подъезде, и ему казалось, что душа его окоченела от холода. С тех пор, когда они встречались на занятиях, Берта никогда не делала и не говорила ничего связанного с их совместным приключением. А он, хотя и находил время, чтобы разобраться в различиях между латинским и греческим крестами, и пытался понять, какой момент благоприятен для настоящей революции, бродил по коридорам тоскующей тенью, и Болос был обеспокоен, хотя сам в то время волочился за очень низенькой девушкой из Реуса с милым лицом и самым чувственным голосом, какой мне приходилось слышать. Думаю, Болос был влюблен именно в это меццо-сопрано. Так что я сообщил ему, что мы оба влюблены в призрак. Нас обоих пора выбрасывать на помойку, а прошли мы всего лишь три четверти курса. И дело не в трудности латыни, не в сухости арабского языка (который учил я) или греческого (который учил Болос), не в зубрежке огромного количества исторических фактов (кстати, представленных на страницах толстенных учебников без тени революционной точности, как живейшее выражение реакционной и фашистской историографии преподавателей нашего университета) и не в тысяче слайдов произведений искусства, превращавшихся под конец вместо удовольствия в мучительную угрозу. Нет, дело было совсем не в этом, дело было в том, что, взглянув в глаза девушке или услышав ее голос, мы совершенно лишались сил. И мы признали эту очевидность, выходя как-то вечером из Национальной библиотеки Каталонии, на улице де-л’Оспиталь, когда решили все друг другу рассказать, и разревелись над кружкой пива, и продолжали плакать над второй и третьей. Болос и Микель напились до беспамятства, как следует, до крайности, до рвоты. Эта пьянка из пьянок, крик разбитых сердец, объединила нас еще больше, если такое возможно, но мы продолжали все так же грустить. С того дня мы с Болосом – братья по духу, Жулия.
Время от времени Микель думал о том, что Берта ни разу его не упрекнула за то, что он не проявил достаточного революционного тщания, когда писал на стене мэрии; несколько раз я собирался пойти и закончить начатое, один, но мне ужасно не хотелось этого делать. А полиция все не оставляла нас в покое. Барселона в то время была черно-белым печальным городом, придушенным безжалостной рукой диктатора. Несмотря на красоту, которую невозможно скрыть, это был город с грустным взглядом, который жил, отвернувшись от моря, совершенно отгородившись от собственного волшебства. Бедная Барселона, где капрал полиции имел больше власти, чем владелец старейшего магазина на проспекте Грасия. И вот пришел тот день, когда Берта со своей улыбкой исчезла, и Микель не знал куда. Он спрашивал у Болоса и у остальных товарищей; спрашивал у члена профсоюза, который учился на его курсе; тот тоже ничего о ней не слышал. На самом деле я не приходил в отчаяние до тех пор, пока не узнал, что экзамены она тоже сдавать не будет. Она исчезла бесследно: даже в общежитии, где она жила, ему сказали, что Берта вот уже несколько недель как уехала, не сказав куда. И вот так Микель Марлоу-Женсана[27 - Филип Марлоу – частный детектив из Лос-Анджелеса, главный герой рассказов и романов американского писателя Реймонда Чандлера (1888–1959), многие из которых были экранизированы. В 1969 г. на экраны вышел фильм «Марлоу», экранизация романа Р. Чандлера «Младшая сестра», где детектив расследует исчезновение человека. – Примеч. ред.] нежданно-негаданно потерял свою любовь. И Болос, большой специалист по части решения чужих проблем, сказал ему: «Но ведь, в конце концов, когда ты ее здесь видел, ты тоже не мог к ней даже прикоснуться. Ты что, чучело, не видишь, что эта девушка не для тебя и ты был ей совершенно безразличен?» А я, хоть и не говорил ни слова, вспоминал жаркое объятие на мотороллере во время самоубийственной подпольной операции по разрисовке правительственных зданий революционными надписями, о любимая и пропавшая Берта души моей.
Под конец учебного года Барселонский университет гудел, как паровой котел, превратившись в бастион наивной, но благородной борьбы с франкизмом. И представители власти растерянно наблюдали, как отпрыски буржуазии (которая продолжала терпеть и улыбаться, когда следует) восставали против истории. А в начале второго курса мы с Болосом познакомились с Субиратсом. О Берте не было ни слуху ни духу, хотя она все еще жила в моей памяти, в красном пальто, в зимней куртке, с книгами и баллончиками с краской в руках. Субиратс, высокий, видный парень несколько загадочного вида, никогда не заходивший на лекции, с бесконечным терпением стал заниматься с шестью или семью непосвященными, среди которых были и мы с Болосом, открывать им тайны основных событий недавней истории: Маркс, Энгельс, Роза Люксембург, Лондон, Германия, меньшевики, большевики, «Апрельские тезисы», объективные причины падения авторитета Временного правительства Керенского, революция, Ленин, Троцкий, Красная армия, Сталин, Зимний дворец… Мы с трепетом ходили на тайные показы фильмов «Октябрь», «Иван Грозный» и «Броненосец „Потемкин“» на узкой, 16-миллиметровой пленке, служивших для нас роскошным продолжением обычных занятий революционным катехизисом. И дальше речь шла о надеждена равновесие в обществе, о необходимости немедленного создания крепкой, профессионально направленной партийной структуры (ленинский тезис) вместо партии масс (тезис социал-демократов). О социалистах христианского толка, о попутчиках, о партии, о необходимости создания рабочей Красной гвардии, о демократическом централизме (на этом этапе катехизиса трое из семерых студентов уже вступили в Объединенную социалистическую партию Каталонии, среди них Микель Женсана Второй, Новообращенный: по примеру первых христиан они сделали это без помпы, достаточно было рукопожатия с ответственным за ячейку, в суровой дисциплине катакомб, – святой Тарцизий, святая Присцилла, святой Микель Женсана, коммунист христианского происхождения). О строгости подпольной работы – без шуток, на войне как на войне, – о конфедерации профсоюзов Испании, о постоянной, до изнеможения, без перерыва деятельности (тут еще двое заявили о своем желании вступить в партию), о необходимости по причине строгой секретности хранить все это в тайне даже от самых близких. И в сердце поселилось чувство опасности, не очень острое, но постоянное. И боль за павших товарищей. И вся эта история с самокритикой: что случилось, что произошло, почему произошло, почему мы это не предотвратили, почему мы этого не предвидели… И всегда получалось, что ты сам во всем виноват, потому что солдат всегда должен быть бдителен, – то же самое чувство, которое прививали мне еще иезуиты в старших классах школы. И мы делали все, чтобы через десять-пятнадцать лет у психиатров не было недостатка в клиентах. Я, помнится, чувствовал, что все, что ни делается в Советском Союзе, прекрасно, а мы и не знали. «Yankees, go home»[28 - «Янки, вон отсюда» (англ.). Популярный в 1960-е гг. лозунг, адресованный американским войскам, размещенным на Кубе на базе в Гуантанамо. – Примеч. ред.]. И первое воскресенье, когда ни Болос, ни я, не сговариваясь, не пошли к мессе – посмотреть, что из этого получится. На следующий день мы поняли, что ничего не произошло, то есть, наоборот, происходило нечто замечательное: у нас стало гораздо больше времени. И через несколько ночей – первый приступ тахикардии, который меня ужасно напугал. Это произошло дома, ночью. Бабушка Амелия уже давно спала, а родители ушли, не помню куда. Дела у Пере Первого, Будущего Беглеца, шли уже неважно, но фабрика стараниями моего кузена Рамона и при почетном присутствии дяди Маурисия все еще как-то держалась на плаву. У Рамона был разгар приготовлений к свадьбы с Лали Брос, и каждую ночь он падал в кровать совершенно измученным. Я всегда спал в комнате один, потому что чего-чего, а комнат в доме Женсана было предостаточно: комната у меня была огромная, почти необъятная, и я променял ее на мечту, Жулия.
Было темно, и я еще не совсем очнулся от кошмара, в котором страх перед дубинкой бешеного полицейского, яростно набрасывавшегося на нас во время полуденной демонстрации, смешивался с завыванием сирен и нашими голосами: криками мы с Болосом пытались прогнать страх, ведь на демонстрацию пошли только Болос, Микель и еще сто девяносто восемь идиотов. (Бояться, между прочим, не контрреволюционно.) Я в отчаянии бросился в первый попавшийся открытый подъезд, потому что больше всего боялся, что меня схватят и увезут в полицейский участок на улице Лайетана и там начнут пытать. Нет, только не это! Микель не знал, насколько он способен переносить физическую боль, и ни в коем случае не хотел превратиться в предателя. Нет-нет, только не это! Такие вещи ему снились – все вперемешку. Кроме того, его беспокоило еще кое-что: он столько времени провел на демонстрациях, что уже давно не занимался, не ходил в библиотеку и не появлялся на лекциях. Ни о каких лекциях в такой обстановке и речи быть не могло. Мое будущее историка («Да уж, историк, с такой профессией на кусок хлеба с маслом не заработаешь! И не стыдно тебе, что твой двоюродный брат, дальний родственник, а вовсе не мой сын, заведует нашей фабрикой?») начало погружаться в туман. На самом деле я даже не знал, собираюсь ли я быть в этом неясном будущем историком, филологом, литературоведом, востоковедом или географом: в те беспокойные годы все эти профессии вызывали у меня интерес, и это только усложняло то, что мне и раньше давалось непросто, – принятие решений. Тогда-то меня и разбудил стук далеких барабанов, стук близкий и неровный, и я проснулся в темноте, весь в поту, и грудь моя оказалась натянутой кожей барабана, и из нее раздавалось «бум-ба-рам-бей-бум». Я испугался и не придумал ничего лучшего, как пойти разбудить Рамона, который в рабочие дни ночевал у нас дома: «Эй, Рамон, ну проснись!» – а он все спал как убитый. (Рамон окончил школу с отличными оценками, помогал с фабрикой своему дяде, то есть моему отцу, был помолвлен с Лали Брос, вот-вот должен был жениться, а по воскресеньям ходил на футбол – понятное дело, что чутко спать он никак не мог.)
– Что случилось?
– Не знаю, – с тревогой ответил Микель. – Вот, потрогай.
Он положил руку кузена себе на грудь. Тот отдернул ее как ужаленный. Потом протер глаза и вернул руку на то же место.
– Вот черт! Что же это такое?
– Не знаю.