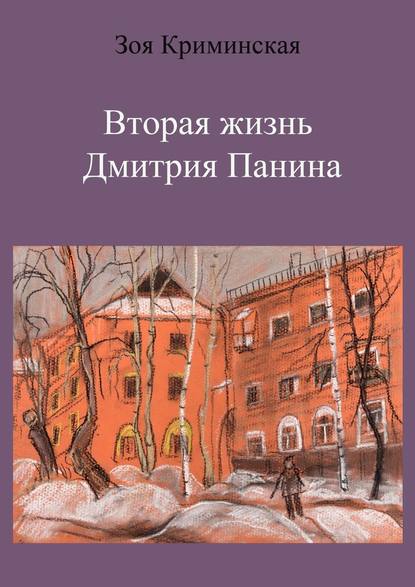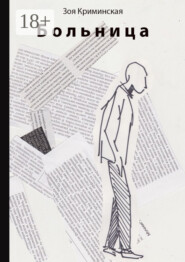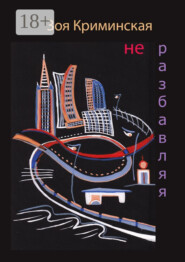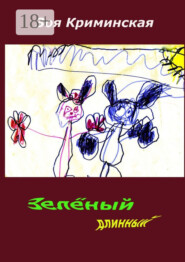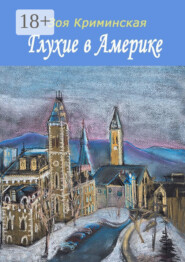По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вторая жизнь Дмитрия Панина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я не хотел…
Дима начал и смешался
– Не хотели сдавать больничный из-за диагноза? Это уже совсем пустяки. Институт наш огромный, людей много, ученые часто психи, не у одного вас такая петрушка с диагнозами. К тому же эти диагнозы иногда снимают.
Как же, подумал Дима, успокаивай меня. Виктор говорил, что это как приговор, только приговор на время, а диагноз навсегда.
Озвучивать свои мысли Дима не стал, а просто достал из кармана два голубых листика больничного.
Шеф придвинул ему бланк заявления об увольнении и, пока Дима писал, Пукарев внимательно прочитал диагноз, потом вышел из кабинета и вернулся с уже подписанным табельщицей больничным.
Понял, что я боюсь общаться с людьми, думал Дима, дописывая заявление.
На прощание Пукарев пожал Диме руку и сказал, перейдя на ты.
– Я надеюсь всё же, что мы с тобой ещё встретимся, мир тесен, теснее, чем это принято считать. А по больничному получи прямо сейчас, я позвонил в кассу, они тебя ждут.
С тем они и расстались.
Дима ушел от Пукарева с чувством удивления и благодарности за понимание, он вдруг почувствовал после разговора с ним, что не так всё трагично и безвозвратно оборвалось, как это ему казалось ещё час тому назад. Драму его жизни, оказалась, можно рассматривать, как «петрушку с диагнозами»
21
На самом деле решение Димы уволиться очень облегчило Пукареву жизнь. Где-то через неделю после того, как Диму увезли в больницу, Пукареву позвонил директор института и спросил:
– Что там у вас за дела в лаборатории, мне поступил сигнал, что вы до того загружали сотрудника работой, что у него произошел нервный срыв.
Пукарев на тот момент был не в курсе произошедшего с Димой и судорожно перебирал в уме своих подчиненных, стараясь понять, у кого из них нервный срыв.
Наверное, у Раисы, подумал он, вчера ей дали перепечатывать отчет и сказали – за два дня, – вот она и психанула, но как директор мог узнать об этом? Да ещё вмешиваться в работу секретарей?
Он пошел выяснять, в чем дело, и выяснил у Лёни Пронина, что Дима Панин не вышел на работу, и когда позвонили жене, то она сказала что-то непонятное про скорую помощь и милицию и сразу бросила трубку, и с той поры на звонки никто не отвечает.
Пукарев, тем не менее, сразу понял, что звонок директора связан с Димой: наверняка тесть Димин позвонил директору и насплетничал. Пукарев, в отличие от Лёни знал, что Дима женат на Каховской.
– А что, – спросил Пукарев у Лёни, – сильно ты нагружал Диму последнее время?
– Да, нет, как обычно. Просто у него не получалось никак связать концы с концами: теория, которую он сам разработал, предсказывала одно, а эксперимент показывал другое.
– А где ошибка?
– Мы вместе совершенствовали прибор, усиливали магнитное поле, нам надо было бо?льшую напряженность, и там всё правильно, а вы же сами знаете, у Димы в его выкладках чёрт ногу сломит, да и я всё же не теоретик. Так-то, вообще красиво получалось…
– А почему он уже два года, как закончил аспирантуру, а всё ещё не кандидат, не нарыли ещё на кандидатскую? ведь у него пять статей, кажется?
– Да давно бы мог написать диссертацию, но он хотел, чтобы всё было в ажуре, и эксперимент, и теория, вот и тянул. Кажется, у него в семье нелады были из-за этого, ну из-за того, что он тянет с защитой.
– А вообще, Сергей Иванович, в чем дело? Почему Вы так заинтересовались Паниным?
– А потому, – сердито сказал Сергей Иванович, что пора бы ему выходить на защиту. Пусть придет, когда появится.
Но Дима не появлялся, телефон молчал, директор больше о Панине не спрашивал, но Пукарев о нём помнил, а Леонид не знал, что ему и думать. Пришлось ехать к Панину домой.
Виолетту он застал, вернее, настиг в тот момент, когда она возвращалась домой от родителей. Встретила Лёню неприветливо, поздоровалась сквозь зубы, рассказала не всю правду, про вызов милиции и попытку суицида промолчала. По её словам выходило, что Дмитрий очень буянил, она вызвала скорую, и его отвезли в областную психиатрическую лечебницу номер 20, расположенную в городе Долгопрудном, где Дима и прописан.
Больше никаких сведений выудить у Виолетты не удалось – и эти достались тяжкими усилиями, и Лёня ушел, крайне подавленный всем услышанным.
После того, как Виолетта вылила на Лёню целые ушаты холодное презрения, косвенным образом, но убедительно давая понять, кого она считает виновником всех несчастий, решимость Лёня посетить Дмитрия в больнице сильно ослабла, если не исчезла совсем. Он не мог знать, что уверенность Виолетты в том, кто виноват в случившемся, является только её личной уверенностью. Он думал, что и Дима считал его кругом виноватым, в конце концов, он являлся фактически Диминым научным руководителям, малым шефом, и он был тем человеком, с которым Дима, пропадая на работе чуть ли не сутками, проводил большую часть времени. Проводил бесплодно, как считала и имела полное на это право Виолетта, и Лёне следовало бы и раньше заметить, что с Паниным что-то не то, взять хотя бы случай с Леной.
Дима никогда, это было очень свойственно ему, не поднимал завесу над своими взаимоотношениями с женой, и из-за его скрытности Лёня вынужден был считать, что срыв Панина вызван напряженной работой последних месяцев, а никаких разладов с женой у него не было. В глубине души он считал, что должно было быть ещё что-то, что довело уравновешенного парня до буйства, в конце концов, не на работе же с ним случилось несчастье, а дома, в семье.
Но Виолетта в разговоре с ним сумела показать себя женщиной, которая не чувствует за собой ровно никакой вины, и Леониду оставалось одно: признать виновным в произошедшем с Паниным только себя. И он боялся показаться Панину на глаза, боясь усугубить без того плохое, как он понял, самочувствие Димы. Он не сознавал, что Дима не был сейчас способен ни к какому анализу своей или чужой вины в случившемся, да и случившееся не помнил, плавал в густом тумане беспамятства животного, живущего сиюминутными ощущениями. И никому на свете в тот момент было не до него: жена его бросила, друг был занят своими домашними неурядицами, Пронин боялся показаться, чувствуя свою вину. А на скудном питании больницы даже у здорово человека могли начаться глюки с голодухи.
22
Сейчас, когда бесконечная суета последних пятнадцати лет его жизни неожиданно прервалась, и можно было просто лежать на диване и смотреть в потолок, многое из детства вспоминалось, всплывало на поверхность его замусоренного каждодневной суетой, а позднее замутненного сознания.
Сейчас эта замутненность по мере того, как Виктор уменьшал ему дозы препарата, отступала, горизонты памяти расширялись, и просматривалось многое из того, что казалось навеки похороненным.
Да и не было надобности вытаскивать всё это из памяти, не было до сегодняшнего момента, когда из быcтро несущегося потока жизнь его превратилась в тихую заводь, в мелкую речушку, грозящую высохнуть с наступлением жаркого лета, и для того, чтобы вода в этой речке сохранилась, надо было почему-то заново вспомнить всё то, что происходило до его остановки в тихой заводи.
Сначала приходили картинки, цветные, яркие, но беззвучные и неподвижные. Без всяких усилий с его стороны персонажи, населяющие эти картинки, начинали двигаться, и только потом он начинал различать звуки, голоса, шипение масла на сковородке.
Он видел раскрасневшуюся от жара плиты мать, пекущую оладьи, соседку Настю, молодую женщину с девочкой на руках, сидящую на табуретке: ступни ног женщины закручены вокруг плохо обструганных ножек некрашеной табуретки. Самого себя он не видит, но знает, что сидит напротив Насти на стуле со спинкой и думает о том, сможет ли он закрутить так ноги вокруг ножек стула или нет.
Он пытается это сделать, теряет равновесие и со стуком падает на пол, отчего женщины и девочка на несколько секунд замирают в немом удивлении, а потом девочка, которую зовут Машенька, вдруг начинает громко и горестно плакать, и вместо того, чтобы жалеть и успокаивать его, и помочь подняться, обе женщины кидаются утешать Машу, и пока они это делают, оладьи на сковородке начинают пригорать, мать кидается к плите и бросает лежащему на полу Диме:
– Вставай, я же вижу, что ты не ушибся.
На самом деле Диме больно коленки, но он не жалуется, молча встает и снова садится на стул. А вот на новой картинке они все четверо сидят за столом, пьют чай с оладьями, обмакивая их в Настино варенье, и женщины беседуют между собой так, как разговаривают взрослые при детях, когда считают, что те их не понимают.
Дима и не понимал, и сейчас удивлялся, что вдруг вспомнил этот разговор, так как получалось, что ему было всего три года или чуть больше, судя по Маше, по тому, как она сидела на коленках у мамы, едва достигая головой её подбородка, но потом самостоятельно ела оладьи, причмокивая и громко провозглашая: Вкусно!
Получалось, что Маше было года два, а он знал, что старше её на год, так что он сидел на стуле в кухне, и вся сцена была из того периода жизни, когда они жили в коммуналке; Дима возил оладушкой по тарелке с вареньем, и слушал рассказ матери, предназначенный для Насти.
– Один из ста, – сказала мама и слова эти упали на его стриженную макушку, а после слов упала и ласкающая ладонь матери.
– Один из ста, не знаю, правда это или нет, но так сказал врач, только один процент был за то, что и ребенок выживет и роженица. Но я, когда решилась оставить ребенка, не знала всю правду, не знала, насколько это опасно.
– А знали бы, не решились? – спросила Настя.
Мамина рука замерла, пальцы её перестали ерошить ему волосы, и ему почему-то стало тоскливо и захотелось, чтобы разговор этот, которого он не понимал, но который, он чувствовал, относится к нему, закончился.
– Страшно даже подумать, – сказала мама, и Дима понял, что страх проник в него через кончики пальцев, замерших на его макушке. Он втянул голову в плечи и откинулся в сторону, отстраняясь от маминых рук.
– Ты что, глупыш? – мама наклонилась, удивленно заглянула в глаза. – Всё хорошо! – успокаивающе сказала она ему и повторила для Насти:
– Так страшно, что и думать не хочется.