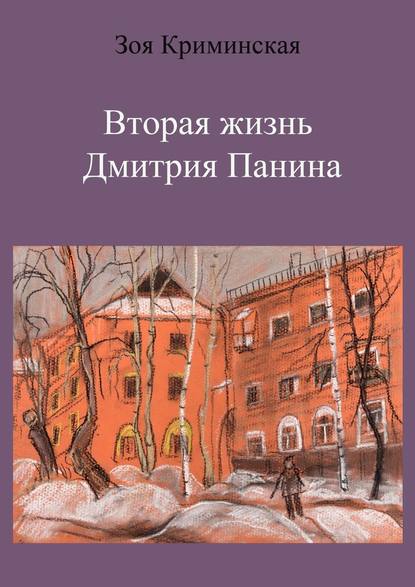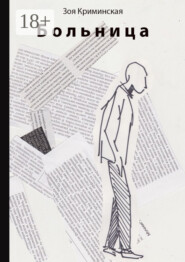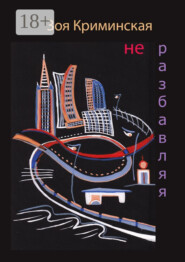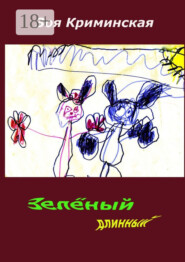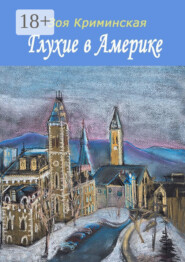По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вторая жизнь Дмитрия Панина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это был мясной нож, им Виолетта разделывала мясо и никогда не позволяла резать хлеб. Дима оглянулся: куска мяса нигде не было. Он повернулся к окну, смутное желание зачем-то открыть его вспомнилось, шевельнулось, и пропало вместе с недавно переполнявшим его предвкушением счастливого полета, и одновременно на него надвигалось ощущение опасности: окно не открывалось, за кухонной дверью, ведущей в коридор, затаилось чудовище, так страшно вскрикнувшее, перед тем, как спрятаться. Оно было там, точило когти, и все пути на свободу были у Димы отрезаны. Чувство безысходности загнанного в ловушку зверя охватило Диму, и он взвыл, как зверь.
Паника охватила его перед неизбежной гибелью от чего-то ужасного.
Перед ним блеснуло, он опустил глаза и обнаружил, что блестит стальное лезвие ножа в руке. И тотчас как молния пронзила его мозг: выход был найден! Выбраться было невозможно, но возможно было умереть раньше, чем чудовище доберется до него. Дима с размаха ударил ножом по своей руке, там где голубели прожилки вен.
Удар был сильный и очень болезненный, такой силы боли Дима не ожидал, выронил нож, и завертелся волчком на месте, заскрежетал зубами, кинулся к крану и сунул кровоточащую руку под струю холодной воды.
Вода пенилась, ярко розовыми каплями стекала по руке в раковину, и боль стала меньше. Дима правой, освободившейся от ножа рукой стал пригоршнями поливать воду себе на голову, приговаривая:
– Дождик, дождик, а я без зонта. Дождик, дождик, а я без зонта.
Звук собственных слов успокаивал, убаюкивал его, от запаха крови кружилась голова, Дима был недалек от обморока, стоял, прислонившись к стене, как автомат поливал голову водой и повторял одно и то же.
Вокруг него образовалась большая лужа, и раковина была вся в крови, а нож он потерял, уронил куда-то и не видел, где он.
Он сползал по стенке, время остановилось, и медленно наползающий обморок обволакивал его, когда отрылись двери, вошли белые люди, он шарахнулся, заслонился руками, с рукавов капали на пол вода и кровь, бежать было некуда, можно было только отступить в угол между раковиной и обеденным столом, и Дима, забившись в угол, с ужасом глядел из-под локтя на вошедших.
Голоса звучали заговаривающие, ласковые, но Дима чувствовал в них фальшь и, когда к нему приближались, отстранялся, и, спасаясь, съеживался в комок и приседал. Места для отступления уже не было, он знал, но всё же оглянулся, увидел дверцу шкафа, подумал, что можно за ней спрятаться, открыл, но там рядами стояли кастрюли, блестели их бока, а пока он оглядывался, на него накинулись, заломили руки, каким-то отвратительным полотенцем перетянули пораненную руку сверху, и сделали укол в другую.
Он вдруг перестал напряженно сопротивляться, тело его обмякло, чувство опасности притупилось: он уже не хотел никуда бежать, а только скорее лечь спать.
– Оставьте меня, оставьте, я устал, – говорил он всё тише и тише, и не слышал успокаивающих ответов, что он теперь-то отдохнет.
Появились какие-то люди в темной одежде, они тоже несли в себе угрозу, угрозу ему, Диме, но первые, белые люди, оказались сильнее, Дима был их добычей, и они затащили его в лифт, спустили до первого этажа, а потом вывели на улицу, прямо под дождь, и он шел и мок под дождем, который к ночи усилился, и руки у него были закручены сзади, бинт, которым перевязали рану на руке, медленно намокал кровью, бросаясь в глаза в слабом свете уличных фонарей темно-бордовым пятном, ему наклонили голову, когда заталкивали в машину, там была лежанка с натянутым брезентом, в этом его не обманули, можно было отдохнуть. Дима лег и отключился.
13
Вова во сне кричал. Никакие уколы не помогали, будоражил всю палату. Кузьмичев пытался его разбудить, пересыпая свои бесплодные попытки отчаянным матом, а Максим и Дима сидели вдвоем на одной кровати, поджав коленки к подбородкам. Максима трясло, его синие глаза наливались слезами сочувствия и страха, и Дима изо всех обнимал его, стараясь унять дрожь. Максим был худющий, жалкий, треугольниками торчали лопатки, каждый день ему ставили капельницы, стараясь уменьшить ломку, а по ночам, когда ему удавалось уснуть, его будили вопли Владимира.
Утром Максим, плача, рассказывал Вове, как он всех пугает своими истошными криками:
– Ну что тебе снится? – допытывался он. – Что такое страшное тебе снится, что ты так кричишь?
Вова молчал, укрывшись с головой одеялом, носом к стенке.
Кузьмичев отрывал всклокоченную голову от подушки, прижимал палец ко рту, советуя Максиму помолчать.
Появлялся Виктор, белый халат, легкие залысины, глаза укрыты очками.
Истории болезней под мышкой.
Начинал он всегда с Володи. Только первые три дня после поступления Виктор направлялся сначала к Диминой койке, а во все последующие дни сразу шел к Вове.
Он садился на стул возле кровати, смотрел на затылок больного, потом в окно, потом оглядывал остальных.
– Было? – кидал он в пространство палаты и все ждали, что ответит Вова.
Если Вова молчал, то встретившись глазами с врачом, кто-то из троих, Дима, Максим или Кузьмичев кивали головой, не произнося ни звука.
Виктор что-то писал в истории, вставал, подходил к окну, смотрел на пыльные кусты за окном.
– Я поменяю лекарство, – говорил он, – я стараюсь, как могу, но ты ведь сам никак мне не помогаешь.
Володя рывком сел на кровать, глаза в красной сетке тяжелых ночей.
– Если бы я мог себе сам помочь, я бы ни одного дня здесь не остался бы. Меня жена боится, ты понимаешь это? Сын в глаза не смотрит.
Он упал на кровать, уставился в потолок, губы его дрожали.
Дима не смотрел на Вову, как не смотрел он в детстве на контуженого соседа, выбегавшего с палкой на улицу и старавшегося избить ею прохожих, и на эпилептика из соседнего подъезда он тоже не смотрел. Отвернулся, когда тот в корчах упал на землю, и девочка, старше Димы, дочка его, с криком мама, мама, бежала к окну.
И Димина мама на крик выбегала, и они вдвоем с его женой держали мужчину, прижимали к грязному серому асфальту, пока он бился, прижимали, чтобы не нанес себе увечье, и Диме мама кричала, чтобы он шел домой, ему здесь не место.
Сейчас он думал, что Кузьмичев, как и он сам, помнит пострадавших от той войны, искалеченных душой, контуженных, опасных для себя и для окружающих, а Максим нет, не помнит, и ему тяжко смотреть, как мучается Владимир. Он не умел убегать, не оборачиваясь, как научились это делать дети военных и послевоенных лет.
14
Однажды после особенно тяжелой ночи, когда Владимир не только кричал, но и, оттолкнув Кузьмичева, бегал по палате, пришлось вызывать санитаров, и они прибинтовали мечущегося к кровати.
Утром он заговорил. Лежал, спеленатый, как мумия, смотрел в потолок и рассказывал:
– Я вижу всегда один и тот же сон, сон-кошмар. «Жара, степь, трава выжжена солнцем до белости, и вдали холмы, а за холмами горы, фиолетовые, синие, розовые. От гор ко мне идет человек, нет не один, двое идут. Старик и мальчик. Идут и идут, оба в белом, и солнце жжет, и я знаю, они идут меня убивать, и лучше всего убежать. Но я чувствую такой ужас, и ноги как прикованы к земле, и убежать я не могу, а они идут и идут, я один, кругом степь, и я вижу их лица, провалившиеся глазницы, и начинаю стрелять. У меня трясутся руки, и пыль вокруг них от пуль серым облаком стоит. Много пыли. Я стреляю, стреляю, стреляю, а они всё ближе и ближе, и совсем рядом, и я тогда понимаю, что мне не уйти, что это призраки убитых мною людей, и они пришли и заберут меня с собой, и им оружия не нужно, они и так меня заберут, и стрелять по ним бесполезно. И меня отчаяние охватывает, дикий животный ужас, а они вдруг начинают удаляться и манить меня за собой, и я иду за ними, иду и плачу и стреляю, и всё иду и иду, и с каждым шагом мне всё страшней и страшней, но повернуть назад я не могу, я иду прямиком в ад и знаю это…»
Вова замолчал, отвернул голову носом к стене, затылком к людям, и опять ушел в свое страшное одиночество. И они услышали слова, глухим эхом отражающиеся от стенки:
– Я всегда издалека стрелял, и лиц тех, кого убивал, если я попадал, никогда не видел. И старика этого, и мальчика я просто на базаре встретил, они торговали чем-то, не помню чем. А через два дня был налет авиации, и мне сказали, что там все погибли. Но не я ведь их убил, почему они ко мне ходят? Почему спать не дают? Каждую ночь приходят и пугают.
В то утро никто из их палаты на завтрак не пошел.
Через две недели Вову отправили на консультацию к профессору в больницу имени Кащенко, и он не вернулся. Профессор оставил его у себя в палате.
– Случай тяжелый, – сказал Виктор. – Там у них возможности больше, может, помогут.
И Панин понял, что врач признал свое поражение.
15
Дима не говорил ничего о Виолетте. В палате от сотоварищей по несчастью невозможно было скрыть, что он женат, и так как Дима на прямо поставленный вопрос привык давать такой же прямой однозначный ответ. Отвечать: а твое какое дело – он не умел, да и не рвался научиться. И когда Кузьмичев спросил его, он ответил:
– Да, я женат, восемь лет.
Второй вопрос, который тут же неизбежно возникал, непосредственно следовал за первым, «а где же она» произнесен вслух не был, сопалатники Димины были больные сверхчувствительные люди и понимали, что можно спросить, а что нет. Но и непроизнесенный вслух вопрос этот возник, повис в воздухе, и раскачивался над Диминой кроватью из стороны в сторону каждый раз, когда к другим приходили жены, матери и даже дети.
Дима же ждал. Он ждал прихода Виолетты и боялся его, готовился, думал, что скажет, как будет смотреть в глаза. Его напрягало постоянное ожидание. Приход жены ставил всё на круги своя, делал его поступок менее безумным, давал возможность что-то решить, не выходя за рамки семьи. Если жена приходит, значит возможны хоть какие-то прежние отношения, ты оказываешься не вычеркнут полностью из прошлой жизни, остается шанс всё уладить, пусть на какой-то другой основе, пусть даже развод, главное, чтобы она пришла.
Вот этого бесплодного, бесконечного, изнуряющего ожидания измученного задерганного человека, которым осознавал себя на тот момент Дима, ожидания прихода к больному мужчине его жены, матери его сына никогда не смог простить Дима Виолетте. Он понимал, что если бы была жива мать…
Впрочем, он иногда думал, что хорошо, что она умерла раньше, чем с ним это приключилось.