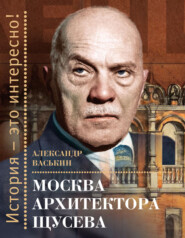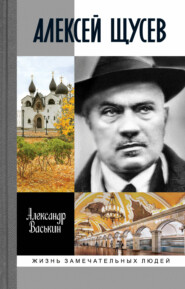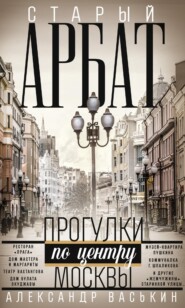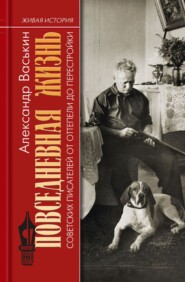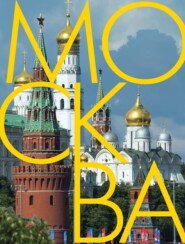По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Охотный Ряд и Моховая. Прогулки под стенами Кремля
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Иван Бажанов, не обладая актерским даром Мочалова, все же сумел произвести впечатление на царского сатрапа, разжалобив не только его, но и царя. Когда Николаю доложили, что от законной жены у актера был еще и ребенок, император расчувствовался. Он не мог допустить, чтобы дочь росла без отца (а еще говорят, что он был жестоким – Николаем Палкиным!). Меры были приняты незамедлительно, Бенкендорф вызвал Петрову и приказал ей разойтись с Мочаловым, рассказывавшим позднее: «Я полюбил одну девушку, которая стала негласной женой моей. И как любила меня она! Она была хороша собой, скромна, умна. И как я был счастлив! Я молился всегда на коленях и благодарил Христа за счастие, посланное мне. Ее насильно оторвали от меня. Последнее расставание наше было при чужих: два квартальных торопили меня и они же на рассвете привели меня к жене моей».
После насильного возвращения к жене Мочалов вновь стал бывать в кофейне (а куда денешься!). Здесь он устраивал импровизированные репетиции новых постановок, нередко декламировал монологи из спектаклей. Внимали этому друзья артиста, среди которых был и Виссарион Белинский. После одного такого вечера критик написал: «Благодаря Мочалову мы только теперь поняли, что в мире один драматический поэт – Шекспир, и что только его пьесы представляют великому актеру достойное его поприще, и что только в созданных им ролях великий актер может быть великим актером».
Ну а в дни, когда спектаклей не было, Мочалов заявлялся в кофейню не один, а «обычно в сопровождении своих адъютантов – здоровенного детины Максина, довольно слабого актера, игравшего в «Гамлете» тень отца, и учителя каллиграфии, любителя-стихотворца и страстного поклонника московского трагика Дьякова. Новички в кофейне глядели на Мочалова во все глаза, даже несчастная слабость к зелену вину не могла заставить его потерять обаяния благородства. К концу вечера он еле держался на ногах, но ни одна пошлая черта не примешивалась к величавому облику трагика. А утром он тихо попивал чаек, стоя у буфета в кофейной».
Мочалов был обидчив, самолюбив и горд, но эти черты, делавшие его трудным в житейском обиходе, помогали ему сохранять независимость в театре. Островский, конечно, должен был не однажды выслушать, если не от самого артиста, то от его добровольной свиты, известный рассказ о встрече Мочалова с директором императорских театров А. М. Гедеоновым. Гедеонов специально приехал из столицы в Москву, чтобы смотреть Мочалова в роли Гамлета. Спектакль не мог состояться, потому что Мочалов переживал нередкую для него полосу запоя, и директор решил ошеломить его, явившись к артисту на квартиру. Он застал Мочалова с приятелем за начатой бутылкой и только было собирался произнести грозный выговор, как Мочалов прервал его: «Вы, Гедеонов! Как же вы смели прийти к Мочалову, когда знали, что он пьет? Вы – директор, видите первый раз в жизни Мочалова, гордость и славу русского театра, не на сцене, в минуту его триумфа, когда он потрясает, живит и леденит кровь тысячей зрителей, когда театр стонет от криков и воплей. А вы пришли смотреть на Мочалова пьяного, в грязи… не тогда, когда он гений, а когда он перестает быть человеком! Стыдно вам, директор Гедеонов! Ступайте вон! Идите скорее вон!» – пишет Владимир Лакшин.
На фоне несчастной семейной жизни сцена была для актера настоящим спасением, в ней пытался он найти отдушину, но для появления перед рампой сперва надо было найти силы после очередного запоя, что удавалось ему с трудом. С годами Мочалов стал еще больше пить, и не только кофе с чаем. В конце концов водка свела его в могилу. Умер он в 1848 году, 47 лет от роду.
В кофейне случались и другие встречи. Году в 1846-м здесь познакомились актер Малого театра Пров Михайлович Садовский (1818–1872) и мелкий чиновник Московского суда Александр Николаевич Островский (1823–1886). Садовский уже был довольно популярен у московской публики, его узнавали на улицах. «Этот артист успевает беспрестанно и часто в самой незначительной роли выказывать природный талант. Москва сделала в нем прекрасное приобретение», – читаем мы в газетных рецензиях того времени.
Садовский много и с успехом играет. В «Короле Лире» он выступает в роли Шута, в «Ревизоре» он блестяще исполняет роль Осипа, о чем с восторгом отзывается Аполлон Григорьев: «Иголочки нельзя подпустить под эту маску – того гляди, коснешься живого тела». В «Женитьбе» он играет Подколесина, в то время как Щепкин – Кочкарева. Дуэт двух замечательных актеров оказался поистине звездным, зрители специально приходили на спектакль, чтобы насладиться игрой своих любимцев. Щепкин и Садовский были к тому же мастерами импровизации. А в сцене Подколесина и Агафьи Тихоновны Садовский так артистически выдерживал паузу, что зал каждый раз взрывался аплодисментами.
Щепкин относился к Садовскому по-отечески, наставлял его. Как-то в кофейне за столиком в ответ на реплику Садовского, что на его спектакле в таком-то ряду сидел некий господин, Щепкин сказал своему молодому коллеге: «Вот когда ты никого не будешь видеть из сидящих в театре, тогда и начнешь хорошо играть!»
В 1848 году журнал «Современник» воздавал актеру должное: «Игра Садовского чрезвычайно проста и натуральна, но вместе с тем до такой степени верна характеру того лица, которое он представляет, что это лицо оживает перед зрителями со всеми своими особенностями и комизмом, какой только из него может извлечь искусный артист».
Бывали, правда, и неудачи, когда Пров Михайлович задумал исполнить главную роль в «Короле Лире». Но не сложилось, публика Малого театра холодновато приняла актера в новой его работе, ей, оказывается, «недоставало пафоса, драматизма, и все исполнение роли короля Лира было монотонно, сухо, вяло и потому безжизненно». А вот одному из немногих современников так не показалось: «В низенькой комнате у Печкина прочел мне Садовский короля Лира; не знаю, как играл эту роль Пров Михайлович, я не видал его в Лире, но читал он эту трагедию превосходно».
Пров Садовский слыл в Москве непревзойденным мастером устного рассказа. Благодарная аудитория всегда ожидала его в «Литературной кофейне», где он рассказывал свои знаменитые истории о Гамлете, о Наполеоне и о мужике под мухой. Его приходили послушать многие московские литераторы. Иван Тургенев отмечал: «У него много воображения и искреннего в игре, интонации и жестах, я почти никогда не встречал подобных по степени совершенства. Нет ничего приятнее, как видеть, что искусство становится природой».
За одним из таких рассказов Садовского и застал Островский. К тому моменту будущее «драматическое светило в русской литературе», как его называли критики, уже сочинило немало сцен из купеческого да мещанского быта. В проекте уже была первая комедия «Несостоятельный должник», впоследствии известная под названием «Свои люди – сочтемся!». Можно смело сказать, что в Охотном ряду актер и драматург нашли друг друга. Дело даже не в том, что их фамилии были похожи, образуя рифму Садовский-Островский, что, согласитесь, не часто встречается в театральной среде. Пров Михайлович стал первым актером Островского, открыв труппе Малого театра его творчество. Всего в первых двадцати восьми постановках пьес Островского Садовский сыграл двадцать девять ролей. А некоторые премьеры он играл в свой бенефис. В частности, пьеса «Бедность не порок» впервые была показана зрителям в январе 1869 года в Малом театре в бенефис Прова Михайловича, а «В чужом пиру похмелье» – в 1856 году также в бенефис.
Тут надо отметить, что кофейно-литературные пары оказывали свое благотворное влияние и на Садовского, выступавшего и в качестве сочинителя. Известно по крайней мере пять его сочинений: «О французской революции», «О Наполеоне на остр. Елены», «Рассказ татарина», «Встреча двух приятелей» и драма «Честь или смерть». Слава богу, литература не увела его с театральной сцены. Достаточно было одного «Колумба Замоскворечья».
В «Литературной кофейне» Островского часто видел его хороший знакомый С. Максимов, писавший о «клубном месте приятельских свиданий» драматурга с молодыми сотрудниками редакции славянофильского журнала Николая Погодина «Москвитянин». В кофейне образовался своего рода кружок, члены которого собирали и записывали устное народное творчество, это были Т. Филиппов, Ап. Григорьев, М. Стахович и П. Якушкин, композитор Вильбоа.
На раннем этапе своего творчества драматург приходил в кофейню приобщиться к простому народу, но не в смысле выпивки, конечно. Александра Николаевича живо интересовал фольклор, народные обычаи, песни, поговорки, пословицы. Вспомним, что названиями многих пьес драматурга служат именно пословицы («Бедность не порок», «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и пр.). Всего этого он вдоволь наслушался в кофейне, где вечерами выступали самодеятельные народные певцы – гитарист Николка Рыжий, певец Климовской, торбанист Алексей и сиделец-песенник из Ярославля Михаил Соболев. Репертуар их был соответствующий – русские народные песни и городские романсы, а еще песни бурлацкие, фабричные, острожные, колыбельные, обрядовые…
Познакомился Островский в кофейне и с еще одним интересным человеком – студентом Тертием Ивановичем Филипповым (1826–1899). Имя у него было редчайшее, так звали в Библии одного из апостолов. Тертий заявлялся всегда с гитарой, хорошо пел, поражая аудиторию глубоким знанием песенного народного творчества. Филиппов, вероятно, станет единственным завсегдатаем кофейни, у которого в дальнейшем сложится карьера не литератора (он живо интересовался историей церкви) или актера, а государственного деятеля. Филиппов займет высокую должность государственного контролера Российской империи, сенатора. Но музыка останется его вторым призванием, помимо госслужбы. В своем министерстве Филиппов создаст хор из чиновников. Он сыграет решающую роль в судьбе Шаляпина. Великий русский певец будет с благодарностью вспоминать о Тертии Ивановиче – «замечательном человеке» – на закате своей карьеры: «Занимая министерский пост государственного контролера, он свои досуги страстно посвящал музыке и хоровому русскому пению. Его домашние вечера в столице славились – певцы считали честью участвовать в них. И эта честь совершенно неожиданно выпала на мою долю. 4 января 1895 года у Т. И. Филиппова состоялся большой вечер. Пели на нем все большие знаменитости. Играл на рояле маленький мальчик, только что приехавший в столицу. Это был Иосиф Гофман, будущая великая знаменитость. Выступала и изумительная сказительница народных русских былин – крестьянка Федосова. И вот между замечательным вундеркиндом и не менее замечательной старухой выступил и я, юный новичок-певец. Я спел арию Сусанина из «Жизни за царя». В публике присутствовала сестра Глинки г-жа Л. И. Шестакова, оказавшая мне после моего выступления самое лестное внимание. Этот вечер сыграл большую роль в моей судьбе. Т. И. Филиппов имел большой вес в столице не только как сановник, но и как серьезный ценитель пения. Выступление мое в его доме произвело известное впечатление, и слух о моих успехах проник в императорский театр. Дирекция предложила мне закрытый дебют, который скоро состоялся».
Среди завсегдатаев кофейни Островский заприметил много чего повидавшего по городам и весям актера Ивана Федоровича Горбунова (1831–1896), выступавшего с сольными устными номерами. Горбунову подражали, у него даже были двойники. Манерой исполнения он походил на Ираклия Андроникова. Островскому он послужил одним из прототипов героев пьесы «Лес». Кроме актерского таланта Горбунов обладал и литературными способностями:
«Знаменитая кофейная Печкина продолжала еще существовать. Я в ней бывал. Постоянными посетителями ее были профессор Рулье, А. И. Дюбюк, П. М. Садовский и многие другие. Темою разговоров и споров была, разумеется, война. Пров Михайлович, патриот до мозга костей, спорил до слез.
– Побьют нас! – сказал Рамазанов (скульптор. – Авт.). Пров Михайлович вскочил, ударил кулаком по столу и с пафосом воскликнул:
– Побьют, но не одолеют.
– Золотыми литерами надо напечатать вашу фразу, – произнес торжественно П. А. Максин. – Побьют, не одолеют. Превосходно сказано. Семен, дай мне рюмку водки и на закуску что-нибудь патриотическое, например малосольный огурец.
– Извольте видеть, Иван Федорович, – сказал Пров Михайлович мне после, – как татары-то рассуждают!..
– Какие татары?
– А Рамазанов-то! Ведь он татарин, хоть и санкт-петербургский, а все-таки татарин… Рамазан!..
Московские купцы, посещавшие кофейную, все группировались около Прова Михайловича и слушали его страстные речи. Я уже не застал кофейную в лучшее ее время, когда она была центром представителей литературы, сцены и других искусств. Она в то время падала, и ее посещали немногие. В это время репертуар моих рассказов значительно расширился. Александр Николаевич поощрял меня и двигал вперед. Я стал постоянным его спутником всюду, куда он ни выезжал. Рассказы мои сделались известными в Москве: о них заговорили. Пров Михайлович, сам превосходный рассказчик, которому я не достоин был разрешить ремень сапога, относился ко мне с величайшею нежностью и вывозил меня, как он выражался, «напоказ».
– Мы завтра, Иван Федорович, будем вас показывать у Боткина».
Иван Горбунов приходил в кофейню в 1854 году, в разгар Крымской войны, став свидетелем угасания ее значения как центра художественной жизни Москвы.
Сам Островский говорил о кофейне так: «Общество здесь делилось на две половины: одна половина постоянно говорила и сыпала остротами, а другая половина слушала и смеялась. Замечательно еще то, что в эту кофейную постоянно ходили одни и те же люди, остроты были постоянно одни и те же, и им постоянно смеялись».
В 1840-х годах в кофейне часто можно было увидеть шахматные поединки между двумя общепризнанными гроссмейстерами, одним из которых был знаменитый профессор Дмитрий Матвеевич Перевощиков (1788–1880), выдающийся русский ученый, астроном и математик, преподававший в Московском университете с 1818 года, а с 1848 по 1851 год исполнявший в нем должность ректора. Это был тот самый Перевощиков, что разбудил в Михаиле Лермонтове интерес к математике в период учебы поэта в Благородном пансионе. Как утверждал один из его студентов, Перевощиков стремился «в первые же уроки проэкзаменовать всех вновь поступивших учеников и сразу отбирать овец от козлищ. Из всего класса обыкновенно лишь весьма немногие попадали в число избранных, т. е. таких, которые признавались достаточно подготовленными и способными к продолжению курса математики в высших двух классах». У Лермонтова имелись все основания войти в число отбираемых Перевощиковым «овец», а не «козлищ», поскольку он серьезно интересовался математикой, в четвертом классе пансиона имея по этой дисциплине высший балл. В дальнейшем, учась в школе гвардейских подпрапорщиков, он часто читал книгу Перевощикова «Ручная математическая энциклопедия».
Но с кем же сражался профессор за шахматной доской? Противником его был не менее подкованный в древней игре восточный человек по имени Кирюша, то ли выходец из Персии, то ли армянин. Кирюша обычно был одет в суконный черный архалук с разрезанными рукавами. Он говорил по-русски с сильным акцентом, что, впрочем, не мешало ему обыгрывать Перевощикова. В таких случаях он поднимал вверх руку (будто готовясь произнести тост) и провозглашал: «Тут без матэматикэ не обойтись!» Нужно ли говорить, что шахматные турниры собирали в кофейне множество болельщиков.
Среди последних был и юный Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883), в 1833 году пятнадцатилетним мальчиком поступивший на словесный факультет Московского университета. Он также ходил в кофейню поиграть в шахматы, увековечив позднее это свое занятие в повести «Несчастная»: «Я с ранних лет пристрастился к шахматам; о теории не имел понятия, а играл недурно. Однажды в кофейной мне пришлось быть свидетелем продолжительной шахматной баталии между двумя игроками, из которых один, белокурый молодой человек лет двадцати пяти, мне показался сильным. Партия кончилась в его пользу; я предложил ему сразиться со мной. Он согласился… и в течение часа разбил меня, шутя, три раза сряду».
А в рассказе «Петр Петрович Каратаев» 1847 года мы и вовсе попадаем в особую атмосферу кофейни:
«Спустя год после моей встречи с Каратаевым случилось мне заехать в Москву. Раз как-то, перед обедом, зашел я в кофейную, находящуюся за Охотным рядом, – оригинальную, московскую кофейную. В бильярдной, сквозь волны дыма, мелькали раскрасневшиеся лица, усы, хохлы, старомодные венгерки и новейшие святославки. Худые старички в скромных сюртуках читали русские газеты. Прислуга резво мелькала с подносами, мягко ступая по зеленым коврикам. Купцы с мучительным напряжением пили чай. Вдруг из бильярдной вышел человек, несколько растрепанный и не совсем твердый на ногах. Он положил руки в карманы, опустил голову и бессмысленно посмотрел кругом.
– Ба, ба, ба! Петр Петрович!.. Как поживаете?
Петр Петрович чуть не бросился ко мне на шею и потащил меня, слегка качаясь, в маленькую особенную комнату.
– Вот здесь, – говорил он, заботливо усаживая меня в кресла, – здесь вам будет хорошо».
А не раз упомянутый современниками профессор биологии Карл Францевич Рулье (1814–1858) писал у Печкина свою знаменитую диссертацию «О геморрое», после успешной защиты которой получил степень доктора медицины. Рулье – основоположник отечественной экологии, создавший российскую научную школу зоологов, ярким представителем которой был знаменитый путешественник и ученый Николай Северцов. Последний вспоминал, что порой студенты Московского университета, «собравшись на лекцию Рулье, не находили его в аудитории и, посоветовавшись друг с другом, шли отыскивать профессора в кофейной Печкина, где находили Карла Францевича за кружкой пива и с трубкой. Рулье объявлял, что так как аудитория в сборе, то нечего идти в университет, и начинал свою очередную лекцию-беседу, всегда живую и талантливую».
Рулье ушел из жизни скоропостижно, в 44 года. Как-то, возвращаясь из кофейни, он пережил удар, умер он мгновенно, прямо напротив генерал-губернаторского дома на Тверской улице. «Все, что есть в Москве уважающего ум, благородство души и знание, собралось у гроба этого знаменитого профессора», – писали в некрологе «Санкт-Петербургские ведомости». Многие ученики Рулье упрочили славу и деяния своего талантливого учителя.
Александр Иванович Герцен (1812–1870), как вспоминал очевидец, всякий раз в кофейне собирал около себя кружок и «начинал обыкновенно расточать целые фейерверки своих оригинальных, по тогдашнему времени, воззрений на науку и политику, сопровождая все это пикантными захлестками». Но чаще всего он появлялся здесь с друзьями – Николаем Огаревым и Николаем Кетчером, и тогда они присаживались за отдельный столик. Им было о чем поспорить за чашечкой ароматного напитка. Хотя бы о Шекспире, все пьесы которого перевел на русский Кетчер. Не все коллеги приняли его интерпретацию, а Сергей Соболевский даже откликнулся эпиграммой:
Вот и он, любитель пира
И знаток шампанских вин, —
Перепёр он нам Шекспира
На язык родных осин.
Николай Христофорович Кетчер (1809–1886) и сам был блестящим острословом, палец в рот не клади. Как-то посетители кофейни стали невольными зрителями словесной дуэли между ним и Ленским. Торчавший в кофейне с утра до вечера Ленский ни с того ни сего вдруг стал петь Кетчеру дифирамбы: какой, мол, великий переводчик. И все это с плохо скрываемой иронией, сравнимой с издевкой. Кетчер (он всегда громко и с пафосом говорил, будто со сцены) немедля парировал афоризмом: «Мне то не похвала, когда невежда хвалит». А Ленский не растерялся и ответил: «Когда ж, скажите мне, вас умные хвалили? Не помню что-то я».
Критик Галахов писал:
«Если справедливы слова Фамусова, что «на всех московских есть особый отпечаток», то об Кетчере (Николае Христофоровиче) следует сказать, что из всех жителей древней столицы он выдавался по преимуществу, был архимосквичом, разумеется, не в том смысле, какой придавал этому слову Фамусов. Только в Москве жилось Кетчеру привольно, только здесь он чувствовал себя как дома. К Петербургу не лежало у него сердце, да и не могло лежать по его темпераменту и душевному складу, капитальная особенность которого состояла в пренебрежении внешнего, формального и в уважении внутреннего, существенного. Этикет, условные приличия, благовидные предлоги (то есть благие только по виду, а не по существу) возмущали Кетчера, потому что напрасно стесняли естественное, свободное проявление жизни в действиях, чувствах и образе мыслей. Чему не учит нас природа, – говаривал он, – тому и не следует приносить ее в жертву. Кетчеру и на мысль не приходило покушение «казаться» не тем, чем он «был» на самом деле. Он всегда и неизменно являлся самим собой, и в этом смысле был вполне наивным субъектом. Притворство, скрытность, желание маскироваться, виляние хвостом и нашим и вашим, находили в нем непримиримого обличителя и преследователя. Правдолюбие, откровенность, доброта – вот те капитальные особенности, которыми он привлекал к себе честных и благомыслящих людей. Ими объясняется его оригинальность, иногда пугавшая тех, кто его не знал, или знал мало. И по внешности Николай Христофорович отличался от других. Он плохо заботился о своем туалете и костюме, как бы желая, чтобы его встречали и провожали не по платью.
Я познакомился с ним вскоре по окончании им курса в медико-хирургической академии. Его плащ, или по-тогдашнему альмавива, не походил на плащ Гарольда (упоминаемый в первой книге Евгения Онегина): верх его был зеленый, а подкладка алая, подобно тому, в каком являлся горный дух волшебному стрелку (в опере Вебера), почему мы и прозвали его асмодеем. Смех его походил на грохот, изумлявший присутствующих, хотя и напрасно: смеяться не грешно над тем, что есть смешно; во всяком случае, он искреннее, следовательно, лучше сдержанного хихиканья или кислой, вялой улыбки. Он говорил своим близким знакомым «ты», а не «вы», потому что первое слово естественно и сердечно: в спорах часто останавливал противника восклицаниями: «Вздор, врешь», минуя околичности и смягчения, в роде: «Извините, это, кажется, неправда». К чему оговорка кажется, когда дело ясно как день, и для чего извиняться в том, в чем нет ни малейшей вины? Мнения свои Кетчер выражал без утайки, громко и точно, не прибегая к ограничениям и уклончивости. Он мог ошибаться, но умышленно искажать то, что ему думалось и что он признавал истиной, он считал великою подлостью, тяжким грехом».
Легенда о архимосквиче Кетчере подпитывалась его гастрономическими пристрастиями, реализуемыми в кофейне. Если другие пили кофе, то он в летний день лакомился мороженым. Половые уже знали, что принести ему после, – кусок ветчины. Александр Герцен объяснял это так: «Чему же вы, господа, удивляетесь? Разве вы не видите, что Николай Христофорович – отличный хозяин: он сначала набьет свой погреб льдом, а потом начинает класть в него съестное».
Как-то Кетчер узнал, что среди посетителей кофейни есть молодой преподаватель истории по фамилии Нежданов. И все бы ничего, но настоящая фамилия его была Жданов, как и его отца – цирюльника. Стыдясь профессии своего папаши, молодой человек взял и переменил себе фамилию на Нежданов. Естественно, что это могло не затронуть чувствительную натуру Кетчера, который при каждой встрече с Неждановым как можно громче спрашивал: «Здравствуй, Жданов! Здоров ли твой отец?» – заставляя его краснеть. В итоге Кетчер чуть было не сжил со свету неблагодарного отщепенца, тот и носу не совал в кофейню.
Был и такой случай. В кофейне разгорелась ссора между театральным музыкантом Щепиным и наглым заезжим офицером-бретером. Дело шло к дуэли. Кетчер, видя несправедливость, вмешался и, буквально взяв обидчика за шкирку, спустил его с лестницы. А ведь он и сам мог пострадать.
В четвертой части своего романа «Былое и думы» Герцен увековечил Кетчера и любимую ими кофейню: «Мне приходится говорить о Кетчере опять, и на этот раз гораздо подробнее. Возвратившись из ссылки, я застал его по-прежнему в Москве. Он, впрочем, до того сросся и сжился с Москвой, что я не могу себе представить Москву без него или его в каком-нибудь другом городе. Как-то он попробовал перебраться в Петербург, но не выдержал шести месяцев, бросил свое место и снова явился на берега Неглинной, в кофейной Бажанова проповедовать вольный образ мыслей офицерам, играющим на бильярде, поучать актеров драматическому искусству, переводить Шекспира и любить до притеснения прежних друзей своих. Правда, теперь у него был и новый круг, то есть круг Белинского, Бакунина; но хотя он их и поучал денно и нощно, но душою и сердцем все же держался нас».