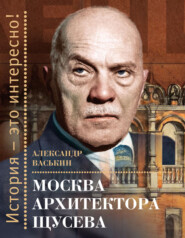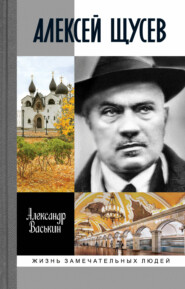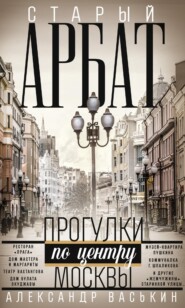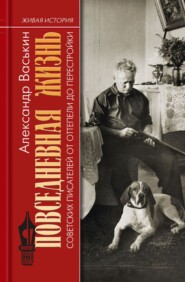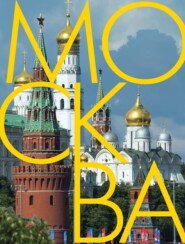По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Охотный Ряд и Моховая. Прогулки под стенами Кремля
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Николаю Кетчеру повезло – в ту пору, когда Москву в начале 1990-х захлестнула волна переименований, улицы в честь его друзей – Герцена и Огарева – исчезли с лица земли, а вот Кетчерская улица в Вишняках осталась!
Что же до Дмитрия Тимофеевича Ленского (1805–1860), соперника Кетчера в словесных дуэлях, то память о нем живет в его произведениях. Один лишь водевиль «Лев Гурыч Синичкин» чего стоит. Этот водевиль как был поставлен впервые в Большом театре, неподалеку от Литературной кофейни, так и идет до сих пор в некоторых российских театрах, пережив даже две экранизации. В кофейне Ленский без умолку острил, порой его юмор опускался гораздо ниже пояса. Но были и приличные шутки. Одному из тех, кто намеревался пойти к цирюльнику подстричься, он сказал: «Не всякому дано остриться!» А когда в его присутствии два студента – Афанасий Фет и Яков Полонский безрезультатно пытались вызвать полового, Ленский мгновенно отреагировал: «Согласитесь, что между двумя студентами бывают пустозвоны!»
Но однажды Ленского поставили на место. Было это так. В кофейне Щепкин стал говорить серьезные слова о необходимости честного и добросовестного отношения к искусству тех, кто его творит. На что Ленский заметил: «Дорогой Михаил Семенович, добросовестность скорей нужна сапожникам, чтобы они не шили сапог из гнилого товара, а художникам необходимо другое: талант!» Старый актер ответил: «Действительно, необходимо и другое, но часто случается, что у художника ни того ни другого не бывает!» Все рассмеялись, кроме Ленского, принявшего, вероятно, слова Щепкина на свой счет. Больше в тот вечер он не острил.
Специально приходил поиграть на бильярд в кофейне солист Большого театра Александр Олимпиевич Бантышев (1804–1860). Катал он шары превосходно, часто играл на деньги, много выигрывал, а затем угощал всех присутствующих счастливчиков за свой счет и шампанским, и хорошей закуской. Но сам спиртного в рот не брал, а вот покушать любил. Но полнота шла ему, способствуя развитию вокального дара, как это нередко бывает у певцов. Бантышев обладал теноровым голосом нежного бархатного тембра и широкого диапазона, за что удостоился звания «московского соловья». А князь Владимир Одоевский отмечал: «В игре Бантышева, как и в голосе его, главное достоинство: простота, непринужденность».
А ведь Бантышев – настоящий русский самородок, самоучка. Нот не знал, всю жизнь разучивал оперные партии на слух. Нигде не учился, служил писцом в Опекунском совете, пока композитор Александр Верстовский не посоветовал ему сменить профессию. Но отпускать Бантышева из писцов начальство не хотело, а он настаивал. И тогда его уволили с отрицательной характеристикой. В своего рода трудовой книжке того времени – аттестате – было написано, что Бантышев поведения «неблагонадежного». А попробуй-ка с такой аттестацией выйди на сцену императорских театров. Лишь вмешательство генерал-губернатора Москвы князя Дмитрия Голицына спасло дело. В 1827 году в Большом театре появился новый солист, быстро завоевавший признание у публики.
А как задушевно исполнял Бантышев русские песни и романсы! После удачной бильярдной партии, бывало, он брал в руки гитару, и тогда все, находящиеся в кофейне, замолкали, даже неугомонный Ленский. И начинался импровизированный концерт, особой популярностью пользовались «На заре ты ее не буди» Варламова (композитор сочинил этот романс по заказу самого певца) и «Соловей» Алябьева. Бантышев неоднократно бисировал.
За пределами кофейни репертуар Бантышева был более серьезным. Он стал одним из первых исполнителей гимна «Боже, царя храни!» Львова. Газета «Молва» писала об этом исполнении: «Вчера, 11 декабря (1833) Большой Петровский театр был свидетелем великолепного и трогательного зрелища, торжества благоговейной любви народа русского к царю русскому… При первом ударе невольное влечение заставило всех зрителей подняться с мест. Глубочайшее безмолвие царствовало всюду, пока Бантышев своим звонким, чистым голосом пел начальное слово. Но когда вслед затем грянул гром полкового оркестра, когда в то же мгновение слилась с ним вся дивная масса поющих голосов, единогласное «Ура», вырвавшееся в одно мгновение из всех уст, потрясло высокие своды огромного здания. Гром рукоплесканий заспорил с громом оркестра… все требовало повторения… Казалось, одна душа трепетала в волнующейся громаде зрителей, то был клич Москвы! Клич России!!!»
Кто-то из завсегдатаев кофейни сочинил даже про нее стихи, это была пародия на балладу Василия Жуковского «Двенадцать спящих дев». До нашего времени дошли лишь маленькие отрывки из пародии:
И прошло много лет,
И кофейни уж нет,
Но в двенадцать часов,
на бильярде гремят шары,
И на лестницу лезет Калмык,
Ленский пьян и румян,
Ленский держит стакан,
Ухмыляется Ленского лик…
Кто был автором этой пародии? Ясно, что не Ленский.
Значительный вклад оставила кофейня в творчестве Алексея Феофилактовича Писемского (1821–1881), сделавшего ее местом действия своего романа «Масоны». Писемский еще студентом бывал здесь чуть ли не ежедневно со своими приятелями по университету. Из романа мы узнаем и о том, кто еще бывал в кофейне, кроме собственно литераторов и актеров, это и «отставной доктор, выгнанный из службы за то, что обыграл на бильярде два кавалерийских полка», и чиновник, который надеется здесь «придать себе более светское воспитание», и франтоватый господин, камер-юнкер, про которого государь Николай I сказал князю Д. Голицыну: «Как тебе не совестно завертывать таких червяков, как в какие-нибудь коконы, в камер-юнкерский мундир!»
Вся эта публика посещала кофейню в надежде хотя каким-нибудь боком приткнуться к культурному обществу, был даже свой частный пристав, состоявший на дружеской ноге с актерами и этой дружбой дороживший. Ну а если есть пристав, то как же обойтись без его подопечных. Карточные шулера также сидели тут, как и ростовщики, присматривавшие среди посетителей кофейни будущие жертвы. Иными словами, гоголевский Хлестаков вполне мог бы похвастать перед внимавшей ему аудиторией, что вот, мол, в Литературную кофейню хожу, и если уж не с Пушкиным на дружеской ноге, то со всем Малым театром точно. И ему бы поверили.
К концу 1850-х годов кипучая деятельность Литературной кофейни сошла на нет. Потух очаг культуры и просвещения в Охотном ряду…
Что читали в Охотном ряду
У торгового люда в Охотном ряду были и свои пристрастия. Особенно любили здесь читать. Конечно, не Пушкина с Чеховым, а бульварную газету «Московский листок», издаваемую Николаем Ивановичем Пастуховым (1831–1911). Очень этот листок был популярным, ведь печатался на бумаге, из которой сподручно было крутить самокрутку. Ни одна другая московская газета, никакие «Русские ведомости» с «Московским телеграфом», не могли конкурировать ни с самим листком, ни с его бумагой. Ведь что нужно охотнорядцу – покурить да последние новости послушать от соседа по лавке. А какие новости в то время интересовали простой народ? Да те же, что и нынче, – желтые, про преступления всякие, грабежи, насилия да убийства.
Печатать «Московский листок» на бумаге для курева Пастухов придумал не из бедности, а из хитрости. Хорошо знавший его Гиляровский рассказывал:
«Это – яркая, можно сказать, во многом неповторимая фигура своего времени: безграмотный редактор на фоне безграмотных читателей, понявших и полюбивших этого человека, умевшего говорить на их языке. Безграмотный редактор приучил читать безграмотную свою газету охотнорядца, лавочника, извозчика, трактирного завсегдатая и обывателя, мужика из глухих деревень. Интересовался Н. И. Пастухов для своего «Листка» главным образом Москвой и Московской губернией. «С меня Москвы хватит», – говорил он. Интересовался также городами, граничащими с ней, особенно фабричными районами. Когда он ездил на любимую им рыбную ловлю, то в деревнях и селах дружил с жителями, каким-то чутьем угадывая способных, и делал их своими корреспондентами.
– Да я малограмотный!
– На что мне твоя грамотность. У меня на то корректора есть. Ольга Михайловна все поправит! Ты только пиши правду, соврешь – беда будет!
И давал в кратких словах наставление, что и как писать.
– Вот ежели убийство или что другое такое крупное, сам в Москву приезжай, разузнавши все обстоятельно, что говорят и что как, а на дорогу и за хлопоты я тебе заплачу!
И получались от новых корреспондентов очень интересные вещи, и почти ни один никогда не соврал. Н. И. Пастухов действительно не жалел денег на такие сообщения и получал сведения вне конкуренции. Для распространения подписки в ближайших городах он посылал своих корреспондентов.
– Разнюхай там, о чем молчат!»
Благодаря своим многочисленным информаторам Пастухов знал о жизни москвичей такие подробности, обнародование которых приковывало внимание даже образованной публики. Для таких новостей Пастухов придумал рубрику «Советы и ответы». На людях солидные купцы листок старались не читать, но все равно, как утро, посылают за газетой. А получив ее, читают те самые советы – нет ли там знакомой (или того хуже – своей) фамилии. Печаталось, например, такое: «В Охотный ряд Илюше Пузатому. Кормите приказчиков побольше, а работать заставляйте поменьше, сам пузо нажрал, небось!» И самое главное, что после такого начинали больше заботиться о приказчиках.
Неудивительно, что тираж «Московского листка» достиг 40 тысяч экземпляров, что было рекордом среди московской прессы. Читали его от корки до корки. Особенно любили охотнорядцы почитать очередной рассказ об ужасных проделках разбойника Чуркина, которые Пастухов печатал в своем листке два раза в неделю. И таким популярным сделался этот персонаж, ну прямо народным героем, что отдельные читатели с Охотного ряда пытались брать с него пример. Встретившись, прежде всего рассказывали друг другу не о ценах на говядину, а о новых приключениях Чуркина. А Пастухов все не унимался – печатает из номера в номер свои россказни, и все тут. Вот что деньги делают! Пришлось вмешаться самому «красному солнышку» – генерал-губернатору Владимиру Андреевичу Долгорукову.
И вот предстал деловой редактор перед светлыми очами всесильного князя, а тот ему и говорит строго: «Ты что это, братец, у меня под носом воров и разбойников разводишь со своим Чуркиным? Прекратить немедленно это безобразие, а то газету закрою!» Если бы еще Чуркин совершал свои подвиги в других губерниях («Не в нашем районе», как говаривал персонаж «Кавказской пленницы»), еще куда ни шло. Но в Первопрестольной это было слишком вызывающе. И пришел день, когда охотнорядцы, открыв «Московский листок», прочитали последний фельетон о Чуркине. На этот раз от рук своих же подельников-бандитов пострадал сам разбойник: привязали его к вершинам двух нагнутых берез, отпустили и разорвали пополам. Больше охотнорядцы ничего с таким усердием не читали.
Пожалуйте в гости!
В середине XIX века Охотный ряд помимо всех своих обязанностей имел и еще одну – распространение визитных карточек, выполнявших роль поздравительных открыток. Пока не изобрели телефон, визитная карточка (помимо письма) служила единственным средством сообщения между москвичами. Хочет, например, барыня с Петровки поздравить с Рождеством свою свояченицу с Покровки. Как ей это сделать? Посылает она лакея с оказией. Тот везет карточку, вручает слуге адресата, что означает еще и приглашение приехать в гости в ответ на поздравление.
«Карточка может затеряться, – писал современник, – это правда, но слуга еще скорее забудет доложить своим господам, что такой-то или такая-то присылали их поздравить с праздником, а ведь это не безделица. Недаром говорится, что от копеечной свечи Москва сгорела. «Да помилуйте, на что это походит? Я сам был у него с визитом, а он даже не прислал меня и поздравить! Да с чего он взял, что может трактовать меня каким-нибудь Кондрашкою?.. Да чем я хуже его?.. Да я в другой раз ему и карточки не пошлю!..» И вот люди, которые были в приятельских отношениях, начинают ссориться между собою, расстаются домами и даже перестают кланяться друг другу».
Карточки были самыми разнообразными – дизайнерское искусство тогда процветало – цветные, тисненные серебром да золотом, со всякими гербами и завитушками, с орнаментами. Кто во что горазд и все, что душа пожелает. Не хватало лишь мелочи – домашнего адреса, считалось, что ни к чему он, ибо карточки предназначались для хороших знакомых, место проживания которых и так известно. А если, допустим, пришел к вам в гости приезжий провинциал и дал свою карточку, ожидая последующего ответного визита, но адрес сообщить забыл? Вот тут и побегай по всем гостиницам, в поисках доброго человека. А он тем временем вещички свои собрал и восвояси убрался, укоряя москвичей в снобизме и высокомерии.
Обычно таких карточек москвичи рассылали десятки, по спискам, дабы перед праздниками никого не обидеть, не забыть. Порой, чтобы доставить визитку, приходилось ехать на другой конец Москвы, делать большой крюк, а ведь надо еще вернуться обратно. И вот разносчики визитных карточек приноровились встречаться в Охотном ряду и обмениваться карточками по спискам перед большими праздниками. Действительно, зачем куда-то ехать? Не лучше ли собраться в одном месте и поменяться друг с другом открытками. И удобнее, и быстрее. Только вот как не ошибиться, фамилий много, важно не перепутать. Иногда случались и казусы: «Разумеется, это не всегда бывает без ошибок. Иногда вам отдадут карточку какого-нибудь барина, с которым вы вовсе не знакомы, или заставят вас самих поздравить с праздником человека, с которым вы не хотели бы и встретиться. Я помню одну из этих ошибок, которая имела весьма грустные последствия. Тому назад лет тридцать жили в Москве две сестры, одна замужняя, другая вдова. Вдова, которую я назову Анной Ивановной Смельской, занемогла на Святой неделе и умерла на Фоминой. Спустя почти год после этого, в первый день Светлого праздника, сестра ее отправила, по обыкновению, лакея развозить визитные билетцы. По ошибке горничной девушки слуге отданы были билеты, которые остались после умершей сестры, то есть Анны Ивановны Смельской. И вот покойница принялась разъезжать по Москве и делать визиты всем прежним своим знакомым. Это бы еще ничего, подивились бы этой ошибке, да и только, но, к несчастию, этим дело не кончилось: у покойной Смельской была задушевная приятельница, княгиня Д***. Когда-то во время дружеского разговора Смельская сказала княгине, что если умрет прежде ее, то непременно к ней явится за несколько дней до собственной своей смерти. Представьте же себе ужас бедной княгини, когда ей в первый день праздника подали билет с именем умершей ее приятельницы. Это до того поразило ее воображение, что она упала в обморок, занемогла; с ней сделалась воспалительная горячка, и она точно так же, как Смельская, умерла на Фоминой неделе, повторяя беспрестанно: «Ах, Анета, зачем ты прислала так рано за мною? Ведь мне еще хотелось пожить, мой друг!» – рассказывал Михаил Загоскин.
Не только торговля…
Большой популярностью в Охотном ряду пользовался Белый генерал Михаил Скобелев, необычайно прославившийся после своих подвигов в Русско-турецкую войну 1877–1878 годов и в Туркестане. Как пишет Александр Амфитеатров, «в Охотном ряду торговцы перед ним на колени становились». Про Скобелева говорили в Москве разное, якобы он намеревался совершить государственный переворот и стать диктатором. Но надежды охотнорядцев не сбылись. Генерал ушел из жизни не на поле брани, а в гостиничном номере в объятиях некоей красавицы, получившей прозвище Белая Могила. На памятник своему кумиру на Тверской площади скидывались всем Охотным рядом.
Мясники-охотнорядцы в основной своей массе были настроены весьма консервативно, не скрывая своих черносотенных политических воззрений, под стать пословице «Охотнорядцы – молодцы: что купцы, то и мальцы». Более всего раздражал их красный цвет и соответствующие флаги, что, согласитесь, странно, ибо фартуки мясников обычно были забрызганы пятнами крови. Когда в конце 1870-х годов участились столкновения между московской полицией и студентами университета, мясники с Охотного ряда активно и живо приняли сторону полиции, не всегда справлявшейся с бунтующей молодежью.
Первая такая демонстрация пришлась на 3 апреля 1878 года и осталась в истории как «охотнорядское побоище», участники которой были побиты при равнодушии полиции торговцами Охотного ряда. Газеты написали лишь об «уличных беспорядках», расследованием которых занялся мировой суд. Николай Страхов в письме к Льву Толстому 9 апреля 1878 года назвал произошедшее «ужасным».
«Казалось бы, – писал Николай Телешов, – между двумя такими соседями, как «чрево Москвы» и университет, не могло быть никаких взаимоотношений. Однако отношения существовали, и весьма странные и печальные. Университет есть университет – рассадник просвещения, и не нуждается ни в какой дополнительной характеристике. Там – студенты, горячая молодежь, российская «соль земли», как их прежде нередко называли, с широкими запросами, с новыми взглядами, с непокорной волей, с протестами по адресу реакционных распоряжений власти. А по соседству, в Охотном ряду, безграмотные туподумы, здоровенные физически и ничтожные морально, воображали себя пламенными патриотами. Но их преданность была вовсе не родине, а только официальному самодержавию и торжествующему полицейскому режиму. Полиции они были нужны как голос народа, ибо, по писанию: «глас народа – глас Божий…»
Охотнорядцы, не в пример полиции, не стеснялись в средствах и могли даже покалечить попавшегося им под руку студента-очкарика, а вместе с ним и пытавшегося защитить его преподавателя. Арсенал имеющихся у своеобразных дружинников средств наказания был зловещим – на поясе каждого мясника помещался набор ножей разной длины и формы. В своем праведном гневе расходились охотнорядцы так, что порой их «карательные акции» пол названием «Бей студентов!», продолжавшиеся и день, и два, приходилось усмирять той же полиции. Власть снисходительно, сквозь пальцы смотрела на их выходки, ведь они были опорой режима, пускай и в отдельно взятой Москве.
Охотнорядцев оправдывал Достоевский. 18 апреля 1878 года он писал об «охотнорядском избиении», объясняя его как «разрешение старинного недоразумения между народом и обществом». Достоевский полагал, что молодежь должна искать путь к душе простого народа до тех пор, пока не поймет, что нельзя пытаться делать ему добро, презирая «все его обычаи и его основы», предлагая ему лекарства, «на его взгляд, дикие и бессмысленные».
Известный своими правыми взглядами публицист Михаил Катков, редактор «Московских ведомостей», пошел еще дальше в своей статье от 4 апреля 1878 года: «По собранным нами сведениям, вчерашняя уличная демонстрация отнюдь не была делом студентов нашего университета, как можно было бы заключать из того, что прискорбное столкновение произошло близ его зданий… Говорят, в этой толпе молодых людей, собранных известного сорта агитаторами… Московские улицы были удивлены необычною процессией… сшибавшею, как говорят очевидцы, шапки с проходящих… Все мы знаем настроение наших народных масс. …Распространяют слух, будто полиция натравила народные толпы на этих людей. Но неужели вы думаете, что наши народные массы будут равнодушны при демонстрациях подобного рода, как вчерашняя? Попробуйте крикнуть среди народной толпы что-нибудь такое, что покажется ей мятежным, и вы убедитесь, что она не нуждается в возбуждениях и что полиция понадобится только для того, чтобы спасти вас, как это и было во вчерашней свалке, причем, как всегда в подобных случаях бывает, пришлось, быть может, пострадать и невинным. Не оскорбляйте же народа, не вызывайте его. Мало ли бывало попыток возмущать наши народные массы, а чем кончались они? Если вы хотите жить в мире с русским народом, не издевайтесь над его верованиями и не будьте бессознательным орудием врагов нашего отечества. Какой мог быть честный повод к возмутительной истории, происходившей в прошлом году в Петербурге, пред Казанским собором, в великую и критическую для России минуту пред объявлением войны, – истории, о которой писали во враждебных нам иностранных органах прежде, чем она совершилась? Не были ли ее актеры жалкою игрушкой в руках врагов их народа? И теперь, скажите, время ли чинить подобные демонстрации, когда народ наш только что вышел из тяжкой борьбы и готовится, быть может, к новой, которая должна решить судьбы его? Для кого теперь нужно выставить русский народ исполненным разлагающих элементов и расслабленным? Кому в пользу попытаться смутить и парализовать наше правительство в его теперешних счетах с нашими противниками?»
Похоже, что «святилищу науки» – Московскому университету – нашли сильный противовес в виде Охотного ряда. И это оказалось весьма удобно и сподручно: чуть что, чуть какая буча – проще и быстрее всего настучать по голове, чем разбираться в причинах недовольства. Не зря говорят в народе, что, мол, против лома нет приема.
А слово «охотнорядец» стало нарицательным с тех пор и пережило сам Охотный ряд, став олицетворением презрительного отношения к погромщикам и ксенофобам. Чехов сказал как-то: «В России больше охотнорядских мясников, чем мяса».
Пройдет много лет, и в 1930 году поэт Николай Асеев нос к носу столкнется здесь с типичным охотнорядцем: «Я шел в один из первых посмертных дней Маяковского по бывшему еще в целости Охотному ряду. Шел еще не в себе, с затуманившимися мыслями. Думал о нем, так как ни о чем ином нельзя было думать. И вдруг навстречу мне, именно по Охотному ряду, возник типичный охотнорядец, рослый, матерый, с красной рожей, пьяный в дым, не державшийся на ногах прочно, с распаленными остановившимися глазами. Он шел, как будто прямо устремляясь на меня, как будто зная меня, выкрикивая страшные ругательства, прослаивая их какими-то фразами, смысл которых начал прояснять и направленность этих ругательств. «А! Застрелился, а?! А две тыщи фининспектору оставил передать! А? Да дай мне эти две тыщи, какое бы я кадило раздул, а?! Вот так его и растак! Две тысячи фининспектору!» Речь шла о предсмертной записке Маяковского. Это было страшно. Как будто вся старая, слежалая подпочва Москвы поднялась на дыбы и пошла навстречу, ругая и грозясь, жалуясь и обижаясь. Он шел прямо на меня, как будто найдя именно меня здесь для того, чтобы обрушить лавину ругани и пьяной обиды. Пошлость, не оспаривая его у жизни, оспаривала у смерти. Но живая, взволнованная Москва, чуждая мелким литературным спорам, стала в очередь к его гробу, никем не организованная в эту очередь, стихийно, сама собой признав необычность этой жизни и этой смерти. И живая, взволнованная Москва заполняла улицы по пути к крематорию. И живая, взволнованная Москва не поверила его смерти. Не верит и до сих пор».
С годами охотнорядский дух тухлого мяса и крови никуда не делся, а даже наоборот, приобрел вполне реальную силу иного рода. Евгений Евтушенко в 1957 году прогремел стихотворением «Охотнорядец»:
Он пил и пил один, лабазник.
Он травник в рюмку подливал
и вилкой, хмурый и лобастый,
колечко лука поддевал.
Он гоготал, кухарку лапал,
под юбку вязаную лез,
и сапоги играли лаком,
Что же до Дмитрия Тимофеевича Ленского (1805–1860), соперника Кетчера в словесных дуэлях, то память о нем живет в его произведениях. Один лишь водевиль «Лев Гурыч Синичкин» чего стоит. Этот водевиль как был поставлен впервые в Большом театре, неподалеку от Литературной кофейни, так и идет до сих пор в некоторых российских театрах, пережив даже две экранизации. В кофейне Ленский без умолку острил, порой его юмор опускался гораздо ниже пояса. Но были и приличные шутки. Одному из тех, кто намеревался пойти к цирюльнику подстричься, он сказал: «Не всякому дано остриться!» А когда в его присутствии два студента – Афанасий Фет и Яков Полонский безрезультатно пытались вызвать полового, Ленский мгновенно отреагировал: «Согласитесь, что между двумя студентами бывают пустозвоны!»
Но однажды Ленского поставили на место. Было это так. В кофейне Щепкин стал говорить серьезные слова о необходимости честного и добросовестного отношения к искусству тех, кто его творит. На что Ленский заметил: «Дорогой Михаил Семенович, добросовестность скорей нужна сапожникам, чтобы они не шили сапог из гнилого товара, а художникам необходимо другое: талант!» Старый актер ответил: «Действительно, необходимо и другое, но часто случается, что у художника ни того ни другого не бывает!» Все рассмеялись, кроме Ленского, принявшего, вероятно, слова Щепкина на свой счет. Больше в тот вечер он не острил.
Специально приходил поиграть на бильярд в кофейне солист Большого театра Александр Олимпиевич Бантышев (1804–1860). Катал он шары превосходно, часто играл на деньги, много выигрывал, а затем угощал всех присутствующих счастливчиков за свой счет и шампанским, и хорошей закуской. Но сам спиртного в рот не брал, а вот покушать любил. Но полнота шла ему, способствуя развитию вокального дара, как это нередко бывает у певцов. Бантышев обладал теноровым голосом нежного бархатного тембра и широкого диапазона, за что удостоился звания «московского соловья». А князь Владимир Одоевский отмечал: «В игре Бантышева, как и в голосе его, главное достоинство: простота, непринужденность».
А ведь Бантышев – настоящий русский самородок, самоучка. Нот не знал, всю жизнь разучивал оперные партии на слух. Нигде не учился, служил писцом в Опекунском совете, пока композитор Александр Верстовский не посоветовал ему сменить профессию. Но отпускать Бантышева из писцов начальство не хотело, а он настаивал. И тогда его уволили с отрицательной характеристикой. В своего рода трудовой книжке того времени – аттестате – было написано, что Бантышев поведения «неблагонадежного». А попробуй-ка с такой аттестацией выйди на сцену императорских театров. Лишь вмешательство генерал-губернатора Москвы князя Дмитрия Голицына спасло дело. В 1827 году в Большом театре появился новый солист, быстро завоевавший признание у публики.
А как задушевно исполнял Бантышев русские песни и романсы! После удачной бильярдной партии, бывало, он брал в руки гитару, и тогда все, находящиеся в кофейне, замолкали, даже неугомонный Ленский. И начинался импровизированный концерт, особой популярностью пользовались «На заре ты ее не буди» Варламова (композитор сочинил этот романс по заказу самого певца) и «Соловей» Алябьева. Бантышев неоднократно бисировал.
За пределами кофейни репертуар Бантышева был более серьезным. Он стал одним из первых исполнителей гимна «Боже, царя храни!» Львова. Газета «Молва» писала об этом исполнении: «Вчера, 11 декабря (1833) Большой Петровский театр был свидетелем великолепного и трогательного зрелища, торжества благоговейной любви народа русского к царю русскому… При первом ударе невольное влечение заставило всех зрителей подняться с мест. Глубочайшее безмолвие царствовало всюду, пока Бантышев своим звонким, чистым голосом пел начальное слово. Но когда вслед затем грянул гром полкового оркестра, когда в то же мгновение слилась с ним вся дивная масса поющих голосов, единогласное «Ура», вырвавшееся в одно мгновение из всех уст, потрясло высокие своды огромного здания. Гром рукоплесканий заспорил с громом оркестра… все требовало повторения… Казалось, одна душа трепетала в волнующейся громаде зрителей, то был клич Москвы! Клич России!!!»
Кто-то из завсегдатаев кофейни сочинил даже про нее стихи, это была пародия на балладу Василия Жуковского «Двенадцать спящих дев». До нашего времени дошли лишь маленькие отрывки из пародии:
И прошло много лет,
И кофейни уж нет,
Но в двенадцать часов,
на бильярде гремят шары,
И на лестницу лезет Калмык,
Ленский пьян и румян,
Ленский держит стакан,
Ухмыляется Ленского лик…
Кто был автором этой пародии? Ясно, что не Ленский.
Значительный вклад оставила кофейня в творчестве Алексея Феофилактовича Писемского (1821–1881), сделавшего ее местом действия своего романа «Масоны». Писемский еще студентом бывал здесь чуть ли не ежедневно со своими приятелями по университету. Из романа мы узнаем и о том, кто еще бывал в кофейне, кроме собственно литераторов и актеров, это и «отставной доктор, выгнанный из службы за то, что обыграл на бильярде два кавалерийских полка», и чиновник, который надеется здесь «придать себе более светское воспитание», и франтоватый господин, камер-юнкер, про которого государь Николай I сказал князю Д. Голицыну: «Как тебе не совестно завертывать таких червяков, как в какие-нибудь коконы, в камер-юнкерский мундир!»
Вся эта публика посещала кофейню в надежде хотя каким-нибудь боком приткнуться к культурному обществу, был даже свой частный пристав, состоявший на дружеской ноге с актерами и этой дружбой дороживший. Ну а если есть пристав, то как же обойтись без его подопечных. Карточные шулера также сидели тут, как и ростовщики, присматривавшие среди посетителей кофейни будущие жертвы. Иными словами, гоголевский Хлестаков вполне мог бы похвастать перед внимавшей ему аудиторией, что вот, мол, в Литературную кофейню хожу, и если уж не с Пушкиным на дружеской ноге, то со всем Малым театром точно. И ему бы поверили.
К концу 1850-х годов кипучая деятельность Литературной кофейни сошла на нет. Потух очаг культуры и просвещения в Охотном ряду…
Что читали в Охотном ряду
У торгового люда в Охотном ряду были и свои пристрастия. Особенно любили здесь читать. Конечно, не Пушкина с Чеховым, а бульварную газету «Московский листок», издаваемую Николаем Ивановичем Пастуховым (1831–1911). Очень этот листок был популярным, ведь печатался на бумаге, из которой сподручно было крутить самокрутку. Ни одна другая московская газета, никакие «Русские ведомости» с «Московским телеграфом», не могли конкурировать ни с самим листком, ни с его бумагой. Ведь что нужно охотнорядцу – покурить да последние новости послушать от соседа по лавке. А какие новости в то время интересовали простой народ? Да те же, что и нынче, – желтые, про преступления всякие, грабежи, насилия да убийства.
Печатать «Московский листок» на бумаге для курева Пастухов придумал не из бедности, а из хитрости. Хорошо знавший его Гиляровский рассказывал:
«Это – яркая, можно сказать, во многом неповторимая фигура своего времени: безграмотный редактор на фоне безграмотных читателей, понявших и полюбивших этого человека, умевшего говорить на их языке. Безграмотный редактор приучил читать безграмотную свою газету охотнорядца, лавочника, извозчика, трактирного завсегдатая и обывателя, мужика из глухих деревень. Интересовался Н. И. Пастухов для своего «Листка» главным образом Москвой и Московской губернией. «С меня Москвы хватит», – говорил он. Интересовался также городами, граничащими с ней, особенно фабричными районами. Когда он ездил на любимую им рыбную ловлю, то в деревнях и селах дружил с жителями, каким-то чутьем угадывая способных, и делал их своими корреспондентами.
– Да я малограмотный!
– На что мне твоя грамотность. У меня на то корректора есть. Ольга Михайловна все поправит! Ты только пиши правду, соврешь – беда будет!
И давал в кратких словах наставление, что и как писать.
– Вот ежели убийство или что другое такое крупное, сам в Москву приезжай, разузнавши все обстоятельно, что говорят и что как, а на дорогу и за хлопоты я тебе заплачу!
И получались от новых корреспондентов очень интересные вещи, и почти ни один никогда не соврал. Н. И. Пастухов действительно не жалел денег на такие сообщения и получал сведения вне конкуренции. Для распространения подписки в ближайших городах он посылал своих корреспондентов.
– Разнюхай там, о чем молчат!»
Благодаря своим многочисленным информаторам Пастухов знал о жизни москвичей такие подробности, обнародование которых приковывало внимание даже образованной публики. Для таких новостей Пастухов придумал рубрику «Советы и ответы». На людях солидные купцы листок старались не читать, но все равно, как утро, посылают за газетой. А получив ее, читают те самые советы – нет ли там знакомой (или того хуже – своей) фамилии. Печаталось, например, такое: «В Охотный ряд Илюше Пузатому. Кормите приказчиков побольше, а работать заставляйте поменьше, сам пузо нажрал, небось!» И самое главное, что после такого начинали больше заботиться о приказчиках.
Неудивительно, что тираж «Московского листка» достиг 40 тысяч экземпляров, что было рекордом среди московской прессы. Читали его от корки до корки. Особенно любили охотнорядцы почитать очередной рассказ об ужасных проделках разбойника Чуркина, которые Пастухов печатал в своем листке два раза в неделю. И таким популярным сделался этот персонаж, ну прямо народным героем, что отдельные читатели с Охотного ряда пытались брать с него пример. Встретившись, прежде всего рассказывали друг другу не о ценах на говядину, а о новых приключениях Чуркина. А Пастухов все не унимался – печатает из номера в номер свои россказни, и все тут. Вот что деньги делают! Пришлось вмешаться самому «красному солнышку» – генерал-губернатору Владимиру Андреевичу Долгорукову.
И вот предстал деловой редактор перед светлыми очами всесильного князя, а тот ему и говорит строго: «Ты что это, братец, у меня под носом воров и разбойников разводишь со своим Чуркиным? Прекратить немедленно это безобразие, а то газету закрою!» Если бы еще Чуркин совершал свои подвиги в других губерниях («Не в нашем районе», как говаривал персонаж «Кавказской пленницы»), еще куда ни шло. Но в Первопрестольной это было слишком вызывающе. И пришел день, когда охотнорядцы, открыв «Московский листок», прочитали последний фельетон о Чуркине. На этот раз от рук своих же подельников-бандитов пострадал сам разбойник: привязали его к вершинам двух нагнутых берез, отпустили и разорвали пополам. Больше охотнорядцы ничего с таким усердием не читали.
Пожалуйте в гости!
В середине XIX века Охотный ряд помимо всех своих обязанностей имел и еще одну – распространение визитных карточек, выполнявших роль поздравительных открыток. Пока не изобрели телефон, визитная карточка (помимо письма) служила единственным средством сообщения между москвичами. Хочет, например, барыня с Петровки поздравить с Рождеством свою свояченицу с Покровки. Как ей это сделать? Посылает она лакея с оказией. Тот везет карточку, вручает слуге адресата, что означает еще и приглашение приехать в гости в ответ на поздравление.
«Карточка может затеряться, – писал современник, – это правда, но слуга еще скорее забудет доложить своим господам, что такой-то или такая-то присылали их поздравить с праздником, а ведь это не безделица. Недаром говорится, что от копеечной свечи Москва сгорела. «Да помилуйте, на что это походит? Я сам был у него с визитом, а он даже не прислал меня и поздравить! Да с чего он взял, что может трактовать меня каким-нибудь Кондрашкою?.. Да чем я хуже его?.. Да я в другой раз ему и карточки не пошлю!..» И вот люди, которые были в приятельских отношениях, начинают ссориться между собою, расстаются домами и даже перестают кланяться друг другу».
Карточки были самыми разнообразными – дизайнерское искусство тогда процветало – цветные, тисненные серебром да золотом, со всякими гербами и завитушками, с орнаментами. Кто во что горазд и все, что душа пожелает. Не хватало лишь мелочи – домашнего адреса, считалось, что ни к чему он, ибо карточки предназначались для хороших знакомых, место проживания которых и так известно. А если, допустим, пришел к вам в гости приезжий провинциал и дал свою карточку, ожидая последующего ответного визита, но адрес сообщить забыл? Вот тут и побегай по всем гостиницам, в поисках доброго человека. А он тем временем вещички свои собрал и восвояси убрался, укоряя москвичей в снобизме и высокомерии.
Обычно таких карточек москвичи рассылали десятки, по спискам, дабы перед праздниками никого не обидеть, не забыть. Порой, чтобы доставить визитку, приходилось ехать на другой конец Москвы, делать большой крюк, а ведь надо еще вернуться обратно. И вот разносчики визитных карточек приноровились встречаться в Охотном ряду и обмениваться карточками по спискам перед большими праздниками. Действительно, зачем куда-то ехать? Не лучше ли собраться в одном месте и поменяться друг с другом открытками. И удобнее, и быстрее. Только вот как не ошибиться, фамилий много, важно не перепутать. Иногда случались и казусы: «Разумеется, это не всегда бывает без ошибок. Иногда вам отдадут карточку какого-нибудь барина, с которым вы вовсе не знакомы, или заставят вас самих поздравить с праздником человека, с которым вы не хотели бы и встретиться. Я помню одну из этих ошибок, которая имела весьма грустные последствия. Тому назад лет тридцать жили в Москве две сестры, одна замужняя, другая вдова. Вдова, которую я назову Анной Ивановной Смельской, занемогла на Святой неделе и умерла на Фоминой. Спустя почти год после этого, в первый день Светлого праздника, сестра ее отправила, по обыкновению, лакея развозить визитные билетцы. По ошибке горничной девушки слуге отданы были билеты, которые остались после умершей сестры, то есть Анны Ивановны Смельской. И вот покойница принялась разъезжать по Москве и делать визиты всем прежним своим знакомым. Это бы еще ничего, подивились бы этой ошибке, да и только, но, к несчастию, этим дело не кончилось: у покойной Смельской была задушевная приятельница, княгиня Д***. Когда-то во время дружеского разговора Смельская сказала княгине, что если умрет прежде ее, то непременно к ней явится за несколько дней до собственной своей смерти. Представьте же себе ужас бедной княгини, когда ей в первый день праздника подали билет с именем умершей ее приятельницы. Это до того поразило ее воображение, что она упала в обморок, занемогла; с ней сделалась воспалительная горячка, и она точно так же, как Смельская, умерла на Фоминой неделе, повторяя беспрестанно: «Ах, Анета, зачем ты прислала так рано за мною? Ведь мне еще хотелось пожить, мой друг!» – рассказывал Михаил Загоскин.
Не только торговля…
Большой популярностью в Охотном ряду пользовался Белый генерал Михаил Скобелев, необычайно прославившийся после своих подвигов в Русско-турецкую войну 1877–1878 годов и в Туркестане. Как пишет Александр Амфитеатров, «в Охотном ряду торговцы перед ним на колени становились». Про Скобелева говорили в Москве разное, якобы он намеревался совершить государственный переворот и стать диктатором. Но надежды охотнорядцев не сбылись. Генерал ушел из жизни не на поле брани, а в гостиничном номере в объятиях некоей красавицы, получившей прозвище Белая Могила. На памятник своему кумиру на Тверской площади скидывались всем Охотным рядом.
Мясники-охотнорядцы в основной своей массе были настроены весьма консервативно, не скрывая своих черносотенных политических воззрений, под стать пословице «Охотнорядцы – молодцы: что купцы, то и мальцы». Более всего раздражал их красный цвет и соответствующие флаги, что, согласитесь, странно, ибо фартуки мясников обычно были забрызганы пятнами крови. Когда в конце 1870-х годов участились столкновения между московской полицией и студентами университета, мясники с Охотного ряда активно и живо приняли сторону полиции, не всегда справлявшейся с бунтующей молодежью.
Первая такая демонстрация пришлась на 3 апреля 1878 года и осталась в истории как «охотнорядское побоище», участники которой были побиты при равнодушии полиции торговцами Охотного ряда. Газеты написали лишь об «уличных беспорядках», расследованием которых занялся мировой суд. Николай Страхов в письме к Льву Толстому 9 апреля 1878 года назвал произошедшее «ужасным».
«Казалось бы, – писал Николай Телешов, – между двумя такими соседями, как «чрево Москвы» и университет, не могло быть никаких взаимоотношений. Однако отношения существовали, и весьма странные и печальные. Университет есть университет – рассадник просвещения, и не нуждается ни в какой дополнительной характеристике. Там – студенты, горячая молодежь, российская «соль земли», как их прежде нередко называли, с широкими запросами, с новыми взглядами, с непокорной волей, с протестами по адресу реакционных распоряжений власти. А по соседству, в Охотном ряду, безграмотные туподумы, здоровенные физически и ничтожные морально, воображали себя пламенными патриотами. Но их преданность была вовсе не родине, а только официальному самодержавию и торжествующему полицейскому режиму. Полиции они были нужны как голос народа, ибо, по писанию: «глас народа – глас Божий…»
Охотнорядцы, не в пример полиции, не стеснялись в средствах и могли даже покалечить попавшегося им под руку студента-очкарика, а вместе с ним и пытавшегося защитить его преподавателя. Арсенал имеющихся у своеобразных дружинников средств наказания был зловещим – на поясе каждого мясника помещался набор ножей разной длины и формы. В своем праведном гневе расходились охотнорядцы так, что порой их «карательные акции» пол названием «Бей студентов!», продолжавшиеся и день, и два, приходилось усмирять той же полиции. Власть снисходительно, сквозь пальцы смотрела на их выходки, ведь они были опорой режима, пускай и в отдельно взятой Москве.
Охотнорядцев оправдывал Достоевский. 18 апреля 1878 года он писал об «охотнорядском избиении», объясняя его как «разрешение старинного недоразумения между народом и обществом». Достоевский полагал, что молодежь должна искать путь к душе простого народа до тех пор, пока не поймет, что нельзя пытаться делать ему добро, презирая «все его обычаи и его основы», предлагая ему лекарства, «на его взгляд, дикие и бессмысленные».
Известный своими правыми взглядами публицист Михаил Катков, редактор «Московских ведомостей», пошел еще дальше в своей статье от 4 апреля 1878 года: «По собранным нами сведениям, вчерашняя уличная демонстрация отнюдь не была делом студентов нашего университета, как можно было бы заключать из того, что прискорбное столкновение произошло близ его зданий… Говорят, в этой толпе молодых людей, собранных известного сорта агитаторами… Московские улицы были удивлены необычною процессией… сшибавшею, как говорят очевидцы, шапки с проходящих… Все мы знаем настроение наших народных масс. …Распространяют слух, будто полиция натравила народные толпы на этих людей. Но неужели вы думаете, что наши народные массы будут равнодушны при демонстрациях подобного рода, как вчерашняя? Попробуйте крикнуть среди народной толпы что-нибудь такое, что покажется ей мятежным, и вы убедитесь, что она не нуждается в возбуждениях и что полиция понадобится только для того, чтобы спасти вас, как это и было во вчерашней свалке, причем, как всегда в подобных случаях бывает, пришлось, быть может, пострадать и невинным. Не оскорбляйте же народа, не вызывайте его. Мало ли бывало попыток возмущать наши народные массы, а чем кончались они? Если вы хотите жить в мире с русским народом, не издевайтесь над его верованиями и не будьте бессознательным орудием врагов нашего отечества. Какой мог быть честный повод к возмутительной истории, происходившей в прошлом году в Петербурге, пред Казанским собором, в великую и критическую для России минуту пред объявлением войны, – истории, о которой писали во враждебных нам иностранных органах прежде, чем она совершилась? Не были ли ее актеры жалкою игрушкой в руках врагов их народа? И теперь, скажите, время ли чинить подобные демонстрации, когда народ наш только что вышел из тяжкой борьбы и готовится, быть может, к новой, которая должна решить судьбы его? Для кого теперь нужно выставить русский народ исполненным разлагающих элементов и расслабленным? Кому в пользу попытаться смутить и парализовать наше правительство в его теперешних счетах с нашими противниками?»
Похоже, что «святилищу науки» – Московскому университету – нашли сильный противовес в виде Охотного ряда. И это оказалось весьма удобно и сподручно: чуть что, чуть какая буча – проще и быстрее всего настучать по голове, чем разбираться в причинах недовольства. Не зря говорят в народе, что, мол, против лома нет приема.
А слово «охотнорядец» стало нарицательным с тех пор и пережило сам Охотный ряд, став олицетворением презрительного отношения к погромщикам и ксенофобам. Чехов сказал как-то: «В России больше охотнорядских мясников, чем мяса».
Пройдет много лет, и в 1930 году поэт Николай Асеев нос к носу столкнется здесь с типичным охотнорядцем: «Я шел в один из первых посмертных дней Маяковского по бывшему еще в целости Охотному ряду. Шел еще не в себе, с затуманившимися мыслями. Думал о нем, так как ни о чем ином нельзя было думать. И вдруг навстречу мне, именно по Охотному ряду, возник типичный охотнорядец, рослый, матерый, с красной рожей, пьяный в дым, не державшийся на ногах прочно, с распаленными остановившимися глазами. Он шел, как будто прямо устремляясь на меня, как будто зная меня, выкрикивая страшные ругательства, прослаивая их какими-то фразами, смысл которых начал прояснять и направленность этих ругательств. «А! Застрелился, а?! А две тыщи фининспектору оставил передать! А? Да дай мне эти две тыщи, какое бы я кадило раздул, а?! Вот так его и растак! Две тысячи фининспектору!» Речь шла о предсмертной записке Маяковского. Это было страшно. Как будто вся старая, слежалая подпочва Москвы поднялась на дыбы и пошла навстречу, ругая и грозясь, жалуясь и обижаясь. Он шел прямо на меня, как будто найдя именно меня здесь для того, чтобы обрушить лавину ругани и пьяной обиды. Пошлость, не оспаривая его у жизни, оспаривала у смерти. Но живая, взволнованная Москва, чуждая мелким литературным спорам, стала в очередь к его гробу, никем не организованная в эту очередь, стихийно, сама собой признав необычность этой жизни и этой смерти. И живая, взволнованная Москва заполняла улицы по пути к крематорию. И живая, взволнованная Москва не поверила его смерти. Не верит и до сих пор».
С годами охотнорядский дух тухлого мяса и крови никуда не делся, а даже наоборот, приобрел вполне реальную силу иного рода. Евгений Евтушенко в 1957 году прогремел стихотворением «Охотнорядец»:
Он пил и пил один, лабазник.
Он травник в рюмку подливал
и вилкой, хмурый и лобастый,
колечко лука поддевал.
Он гоготал, кухарку лапал,
под юбку вязаную лез,
и сапоги играли лаком,