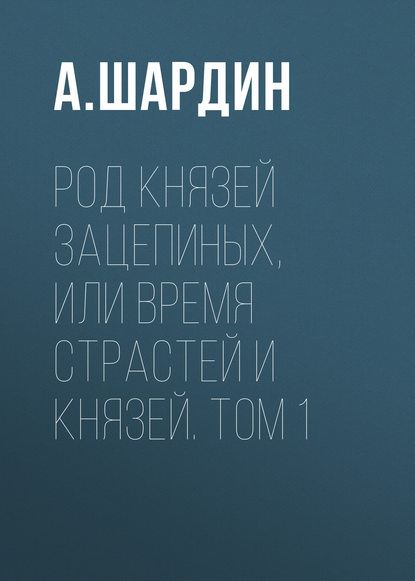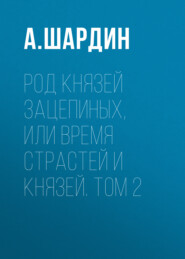По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Род князей Зацепиных, или Время страстей и князей. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Благодарны вашей княжеской светлости. А в том месяце у нас опять новинка. И еще какая! У-у какая!
– Ну-ну! После поговорим, после…
Ермил Карпыч исчез.
Князь Андрей Васильевич провожал его глазами. Когда видно было, что он прошел уже три или четыре комнаты и что слова не могут быть ему слышны, он обратился к дяде и, кивая головой вслед ушедшему, с улыбкой сказал:
– Кулак же, однако, отчаянный кулак!
– Разумеется, кулак! Да чем же ты хочешь, чтобы он и был? И если подумаешь, то, пожалуй, скажешь, что он совершенно прав. В самом деле: разорись он, не будь у него денег, кто его знать захочет? Никто и не вспомнит о каком-то Ермиле Карпыче! Первый подьячий его за шиворот возьмет – и в будку. А теперь он человек почтенный, уважаемый. Сам генерал-прокурор ему руку жмет, а Бироны, – разумеется, кроме герцога, – Левенвольды, Менгдены, – да он у них, после жида Липмана, первый человек. Ему не только кланяются и уважают, но даже мирволят во всем. Например, знают, что он раскольник, сектатор, и еще какой сектатор – изувер, беспоповец, даже более, – знают, что его секта одна из самых вредных, однако никто его не трогает, никто не привязывается. А отчего? Оттого, что у него есть деньги, есть капитал, и большой капитал. Все знают, что с помощью этого капитала он может все купить и все продать. Для многих это весьма важно. Кроме того, знают, что при случае могут у него перехватить, а иногда и просто поживиться. А это, ты сам знаешь, очень любит наш приказный люд, да и не только приказные, а все, которые любят пожить, а жить-то не из чего! Из наших светил власти и управления, гражданских, военных и придворных, я знаю только двоих, которых нельзя соблазнить даже хорошей взяткой, это себя и Остермана, да и то потому, что мы богаты!
– А Остерман богат?
– Да, ему еще Петр подарил хорошее имение, а при управлении Меншикова он получил другое. Главное же, по жене своей, Стрешневой, он очень богат. Но Черкасский богаче нас обоих вместе, а пусть ему предложат хорошую взятку, ручаюсь, что возьмет; да еще как возьмет-то – горячую!
– Что это значит?
– Значит то, что наши приказные, наше крапивное семя, как их называют, делят взятки на два рода: одни спокойные, а другие горячие, которые жгутся, то есть за которые можно отвечать. Я уверен, что Черкасский не откажется даже от горячей взятки, хоть он и трус. Ну а понятно, что тот, кто хочет взять, должен льнуть к тому, у кого есть что взять. Вот все и льнут к Ермилу Карпычу, все и теребят его на все лады. А наш Карпыч не дурак. Он себе и своему капиталу цену знает. Он знает, во-первых, что капитал следует держать твердо, а то расплывется и не увидишь; а во-вторых, что капитал должен расти. Он знает, что с ростом капитала растет и его сила, увеличивается его значение; стало быть, он должен стараться, чтобы капитал этот рос больше и скорее. Все дело в том, что с капиталом и только с капиталом связана вся его жизнь. Поневоле он должен держать этот капитал именно в кулаке и драть с живого и мертвого, что только может содрать. Недаром ими, такими Ермилами Карпычами, придумана поговорка: «Деньги не Бог, а полбога есть». Предание о золотом тельце становится ясным до осязательности в народе, у которого было только одно преемственное наследство – капитал.
– Так, дядюшка, но все же подумайте. Во всем должна быть мера, должен быть предел. Неужели тот, кто во время общего голода получил бы откуда-нибудь хлеб, должен был бы всех ограбить?
– Само собой разумеется, друг, что тот, кто во время общего голода один обладал бы источниками питания и этих источников у него нельзя было бы никакими способами отнять, тот стал бы царем всего мира, да еще каким царем, самым самовластным, самым деспотичным. Но твой пример не идет к делу. Ермил Карпыч не один, у которого есть деньги. Если бы нам было удобно вызвать желающих дать нам деньги на более льготных условиях, нашлось бы много охотников. Но дело в том, что мы предпочитаем взять их у него. Его скромность, предоставление полной свободы оборачиваться как мы хотим, только платили бы ему рост, удобство расчета не одними деньгами, но и всем, что только может дать нам наше хозяйство, наконец, возможность получения других услуг заставляют нас предпочитать его другим. Он это знает и, разумеется, этим пользуется. Пользоваться нуждой – это свойство капитала, его качество. Не заключая в себе ничего, на что сила его могла бы опираться, кроме количественного значения, капитал должен стремиться расти во что бы то ни стало. Отсюда ясно, что он должен быть абсолютным эгоизмом, абсолютным бессердечием. Это именно и есть характер капитала, его основное свойство, отличающее его от других элементов общественности рода и труда!
– Я вас не совсем понимаю, дядюшка. Хотите ли вы сказать, что капиталист всегда бессердечнее, жестче человека родового или живущего своим трудом? Против этого можно указать на многие пожертвования. Наконец, ведь и родовые люди тоже часто обладают большими капиталами.
– Я хочу сказать, что общественное положение человека обусловливает его действия, которыми определяются потом и его свойства. Человек, положение которого и его значение в обществе определяются исключительно количеством принадлежащего ему капитала, не может не стремиться наживать капитал всеми способами, хотя бы эти способы шли прямо вразрез его человечности. Надобно тебе сказать, что в молодости я много читал Локка и увлекался им. Вот человек истинно гениальный! Человек, который, по моему мнению, первый подвинул вперед научные исследования древних, то есть восстановил науку в ее истинном значении; вызвал ее на свет из того схоластического мрака, в котором она находилась в течение средних веков. Одним словом, первый и пока, к сожалению, единственный ученый, который, в противоречие царствующей доселе схоластической болтовне, принял в основание каждого из своих рассуждений математическую точность. Высоко стоит его имя в области науки и знания, но, могу сказать, что доселе он не понят и не оценен. Бэкон, которого возносят английские критики, по-моему, далеко ниже его, ниже настолько, насколько отвлеченные рассуждения ниже действительного раскрытия практической истины. Вдумываясь в труды Локка, как философа и экономиста, труды, в которых он касается всех жизненных вопросов общественного устройства и, можно сказать, раскрывает тайны самой их сущности в накоплениях труда, образующих капитал, и в выражении этого капитала в денежном обращении, вдумываясь в его мысли по этим столь существенным вопросам жизни и потом сравнивая его выводы с общественным устройством европейских государств, нельзя не прийти к такому заключению, что общественное устройство в сущности своего учреждения представляет три основные элемента своего практического осуществления: род, капитал и труд. Основание всему, разумеется, составляет труд. Но в вознаграждении за труд являются два взаимно противоположные свойства, обусловливаемые отчасти сущностью самого труда, отчасти тем отношением к обществу, в котором исполнение его происходило. Одно – вознаграждение чисто материальное, исходящее из взаимного обмена, как услуга за услугу; другое – основанное на той силе общественного уважения и благодарности, которые определяются принесением самопожертвования на пользу общую. Если часть этого общего уважения, заслуженной почести и общественного значения может переноситься человеком на своих наследников, то в обществе образуется начало рода и является родовое значение, имевшее столь громадное влияние на средневековую жизнь; если ничего из заслуженного он передать не может, то становится преобладающим капитал. Это исходит из того естественного чувства, пожалуй, слабости человеческой, по которой люди своего глупого, беспутного сына любят более, чем величайших гениев чужих. Ты мне не сын, а только племянник, сын моего брата, которого я не видал около сорока лет, тем не менее я желаю, чтобы все принадлежащее мне досталось скорее тебе, чем, например, Остерману, или Монтескье, или хотя тому же Локку. А ведь ты не можешь обидеться, если до тех пор, пока ты себя ничем не заявил, целый мир признает их умнее, деятельнее и полезнее тебя. Так как права, исходящие из нравственного уважения и общественного значения, бывают всегда выше исключительно материальных, тем более что они непременно совпадают с материальным вознаграждением, то общее стремление направляется преимущественно к приобретению этих родовых прав; когда же таких прав нет, то, разумеется, к материальному вознаграждению…
– И в том и в другом случае подавляют труд; так ли, дядюшка? – улыбнувшись, сказал племянник.
– Да! Подавляют труд потому, что принимают на себя обязанность определять размер его вознаграждения. Но дело в том, что подавляют совершенно противоположным образом. Родовое начало – из права вознаграждать труд создает фавор, о котором я с тобой как-то рассуждал; а капитал заставляет просто всех умирать с голоду. Правильность общественного устройства заключается в том равновесии, которое требованиями одного элемента общественности уничтожало бы недостатки другого, то есть чтобы род не допускал капитала давить труд; капитал, с своей стороны, помогал бы труду стоять в соответственном значении против рода, не допуская ни его презрения, ни его благодеяний, а только единственно правильное вознаграждение; а труд чтобы ограничивал их обоих и устранял возможность фавора. Но это задача, равносильная знаменитой задаче сфинкса; над нею сотни веков бьются все законодатели, экономисты и философы всех стран в мире!
– Вот что, дядюшка, – сказал с улыбкой племянник. – Простите за нескромный вопрос! Слушая вас и стараясь, по мере моего малого разума и недостатка образования, усвоить ваши наставления и советы, запомнить ваши мнения и соображения, – я всегда изумляюсь, почему вы не стоите во главе нашего управления? Все ценят вас, начиная с государыни; все отдают справедливость вашему уму, знанию, опытности, дают вам полный почет и, как вы мне говорили, не обходят наградами, а между тем во главе дел стоят два иностранца: один хоть деловой, а другой – просто сын случая. Я думаю, они сами, иностранцы эти, с удовольствием захотели бы прикрыться вашим именем…
– Э, мой друг! За кого же ты меня считаешь, что я захочу их разные шахер-махеры прикрывать своим именем? Но все это не то! Прежде всего: дела – это не моя стихия! Я не хочу никаких дел. Ты скажешь, что это злоупотребление своим положением. Да, злоупотребление в пользу эгоизма; злоупотребление, к которому всего чаще приводит родовое начало, к которому пришел и я, потому что, нужно сказать правду, я эгоист до кончика моих ногтей и думаю, что прежде всего – всякий для себя. Чтобы ты меня знал, а таиться от тебя мне нет надобности, я тебе скажу, что я то, что французы называют вивёр, эпикуреец в превосходной степени, и думаю, что жить стоит только для наслаждения. Фланер и парижский петимер смолоду, я остался фланером целую мою жизнь. Моя специальность – удовольствия. Я живу, готов и других учить жить собственно для того, чтобы наслаждаться. Я не отвергаю стремлений других людей к делу, к добру, к пользе, не отвергаю ни честолюбия, ни стремлений к власти, ни даже желаний наживы. Не отвергаю, например, твоего стремления возвысить и доставить политическое значение нашему роду. Буду счастлив видеть князей Зацепиных действительно первенствующими и, насколько могу, буду всеми мерами тебе содействовать. Но сам я… да за один день заботы и работ Остермана я не возьму трех Зацепинских княжеств! Я фланер и не хочу ничем более быть, как только фланером. Впрочем, не стану говорить о том, в какой степени я мог бы иметь влияние на дела в качестве ветреного и временного поклонника всего изящного; но знаешь ли ты, что я был женат?
– Вы, дядюшка?
– Да, я! Что ж тут удивительного? Я был женат на княжне, такой же поклоннице фланерства и удовольствий, как и я сам, к сожалению, только слабенькой и хворенькой. Она была не красавица, но милая, веселая, общительная. Вместе с ней мы хотели составить общий культ поклонения комусу, богу смеха и удовольствий; к сожалению, она недолго прожила. Через полтора года после свадьбы ее не стало. Разумеется, брак наш был тайный, потому что, с начала царствования дома Романовых, царевны явно никогда не сближали царствующий дом с его подданными. Тем не менее мы очень любили друг друга, и главная часть моего состояния, начиная с этого дома, принадлежит мне, благодаря ее любви и ее заботам обо мне!
– А моя почтенная тетушка была из дома Романовых?
– Она была родная сестра царствующей императрицы, пятая дочь царя Иоанна Алексеевича, Парасковья Ивановна[9 - Парасковья Ивановна была в тайном браке за генерал-аншефом графом Иваном Ильичом Дмитриевым-Мамоновым. Автор извиняется в романической вольности, что соединил ее с вымышленным лицом князя Зацепина.]. После ее смерти мне пришлось делиться по земле именно этого дома с Екатериной Ивановной, герцогиней Мекленбургской, другой сестрой государыни, матерью нынешней принцессы: Петр Великий все это место, от самого Летнего сада, отдал своим дочерям и племянницам. Половина его поэтому и принадлежала царевнам Екатерине и Парасковье Ивановнам, а другая – царевнам Елизавете и Анне Петровнам. Последняя, уезжая в Голштинию, уступила свое место сестре, и та выстроила здесь свой Зимний дворец, в котором живет и теперь. Дворец Екатерины Ивановны после смерти императрица отдала графу Апраксину, наследнику графа Федора Матвеевича, генерал-адмирала при Петре Великом, который, умирая бездетным, свой дом на Неве завещал Петру Второму, так как видел необходимость расширить здания Зимнего дворца, а места для такого расширения не было. Императрица, решившись воспользоваться этим завещанием, не захотела остаться у наследников Апраксина как бы в долгу, тем более что смерть Петра Второго скорей уничтожала силу завещания, чем передавала ей права на завещанное имущество. А часть земли, принадлежавшая Парасковье Ивановне, за исключением участка, проданного ею еще прежде своего замужества, вместе с московским ее домом, ее волостями и вотчинами, всего более семи тысяч душ, согласно ее посмертной воле была отдана мне. Дело в том, что совокупность условий моего воспитания и жизни сделали меня лентяем не лентяем, а человеком неделовым; я и не берусь за то, к чему не гожусь. Но постой, ты еще молод; а вот будешь постарше, мы и тебя введем в наш кружок анахоретов, которые наслаждение предпочитают всему. Впрочем, ты не думай, чтобы этот кружок состоял только из таких лентяев, как я, – далеко нет! Между нами есть люди, известные своею неутомимостью в деле. Между ними и мною та разница, что они посвящают себя удовольствиям между делом, а я посвящаю себя делу между удовольствиями.
– Как же вы посоветуете, дядюшка, мне посвящать себя этим удовольствиям? – смеясь, спросил племянник.
– Э, друг мой, как тебе будет угодно! Мы враги всякого насилия и никак не доктринеры. Говорим свое мнение, выясняем взгляд, а никак не полагаем, что фанатизм и изуверство могут совпадать с разумом, образованием и свободой. Одним словом, правило аристократизма и благородства соблюдается нами вполне: живи и давай жить!.. Но перейдем же к делу; теперь у тебя деньги есть… Какой же костюм тебе назначен для кадрили?
– Султана Саладина!
– А принцессе Бирон?
– Попавшейся к нему в плен грузинской княжны!
– Недурно! Тебе – белая чалма, украшенная бриллиантами и страусовым пером; зеленая бархатная, шитая золотом куртка, красные широкие шаровары и осыпанное драгоценными камнями оружие. Ей – фиолетовый вышитый жемчугом спензерь, или как там называется эта грузинская одежда; белая с золотом по газу чадра и синие шаровары. Императрица сама назначила вам роли?
– Сама. А главное, что визави мне будет английский король рыцарь Ричард Львиное Сердце с швейцарской пастушкой. Императрица выбрала для этих ролей сына герцога, принца Петра, и Анюту Скавронскую. С нами же в кадрили будут: молодой Лопухин, Иван Степанович; молодой Остерман, Федор; Куракин и Стрешнев; а из девиц: Сонечка Миних, Оленька Белосельская и еще, право, не помню кто. Все в своих характерных костюмах, по назначению самой государыни. Съезжаться для репетиций велено каждый день в Летнем дворце.
– А карусель?
– Я, в костюме Монгомери, побеждая всех, должен упасть с лошади перед взмахом креста Петра-пустынника, которого будет представлять Карлуша Бирон, в серой рясе, подпоясанный веревкой и с нашитым на плече красным крестом.
– А ты выучился падать с лошади?
– Еще как! Поднимая ее на дыбы! Надеюсь выполнить роль к общему удовольствию.
Но выполнять роль ему не пришлось. В минуту самого рассуждения о предстоящей кадрили и карусели торопливо вбежал камердинер князя Андрея Дмитриевича и, видимо сдерживая себя от неприличной одышки, стоя в почтительной позе, доложил ему, что его светлость герцог и его сиятельство граф Левенвольд разом прислали нарочных просить его пожаловать сию минуту в Зимний дворец; государыне очень дурно.
– Они оба убедительно просят, ваше сиятельство, поспешить.
– Что такое? Что случилось? Карету скорей!
И оба князя встали.
– Знаешь, друг, я бы тебе советовал подождать дома моего возвращения. Бог знает, может быть, что-нибудь и нужно будет!
Андрей Дмитриевич торопливо оправил свой костюм и уехал, а Андрей Васильевич ушел к себе и написал к кому-то записку, чтобы его не ждали.
X
Шуты
Утром пятого октября тысяча семьсот сорокового года государыня императрица Анна Иоанновна ступила с постели на ковер левой ногой. Новокшенова, ее сказочница и попрошайка, с утра забравшаяся в спальню императрицы и лежавшая до пробуждения государыни на ковре как сурок, держа в руках ее туфли, подала было ей туфлю с правой ноги, но, заметив, что туфля не та, переменила и начала нескончаемый рассказ о том, как она смолоду тоже раз как-то стала с левой ноги, и мать ее начала бранить: дескать, верно, неудаче быть, верно, кофе сбежит или молоко скиснет, не то кошка жаркое унесет.
– А я себе сижу да и думаю, – говорила Новокшенова, – мне-то какая же беда? За кофеем-то уж как-нибудь посмотрю, а коли молоко скиснет или кошка жаркое унесет, так это не моя беда, а мамкина! Разве вот сарафан свой новенький запачкаю, – а сарафанчик у меня был такой хорошенький, розовый, с желтыми и зелененькими цветочками, таково красиво выходило, – так разве его… Так как же запачкать? Я и надевать-то его вовсе не думала, да и незачем, ни праздник, ни что… к тому же мы с соседками за грибами идти собирались, так зачем же тут новый сарафан? А собирались за грибами мы, Палашка Гусева да Анютка Дылева…
– Перестань болтать, надоела! – сказала государыня, снимая ночную кофту и при помощи камер-юнгферы надевая батистовый, с английскими прошивками пеньюар, обшитый брюссельскими кружевами, в то время как другая камер-юнгфера приготовляла в серебряном умывальнике воду для умыванья и расставляла на умывальном столике, по заведенному порядку: мыло, зубные порошки, одеколон, померанцевую воду и другие принадлежности умывания.
– Кто ждет в приемной? – спросила государыня.
– Его высокопревосходительство кабинет-министр Алексей Петрович Бестужев, его высокородие бригадир Петр Васильевич Измайлов и его превосходительство Иван Иванович Неплюев да еще два генерала, – отвечала камер-юнгфера.
А Новокшенова все это время болтала:
– Ну какая беда случиться может, как грибы буду собирать? Медведей в нашей стороне нет; лихих людей тоже не слышно, да и от села близко; опять же я не одна, нас десять девиц собралось! Ну сами, милостивая государыня, посудите, какая же беда выйти может? Дома еще все, знаете, не то, так другое случиться может, а в лесу? Рази дождь пойдет? Так и тут у меня большая хустка (платок) была, да такая плотная, что твоя кожа! Прикроюсь, бывало, и грибы ли, ягоды ли прикрою да и иду себе, и горюшка мало! Ну, думаю, какая же беда будет? А в это время к соседу-то Новокшенову сын приехал, офицер из какого-то казылбашского или, как его, не по-нашему зовут, какого-то мурманского… или вот дай бог память… так и вертится… как-то… да, астраханского полка… Нам, девкам, очень хотелось на офицера посмотреть, мы и собрались зайти к священнику, будто отдохнуть, а из окон-то отца Василия…
– Перестань болтать, – повторила государыня Новокшеновой, – надоела! Скажи, что, кроме Бестужева, я никого не приму! – прибавила она, обращаясь к камер-юнгфере.
Камер-юнгфера вышла передать приказание; другая камер-юнгфера стала подавать государыне умываться, а Новокшенова, несмотря на двукратное приказание государыни, все болтала:
– Ну-ну! После поговорим, после…
Ермил Карпыч исчез.
Князь Андрей Васильевич провожал его глазами. Когда видно было, что он прошел уже три или четыре комнаты и что слова не могут быть ему слышны, он обратился к дяде и, кивая головой вслед ушедшему, с улыбкой сказал:
– Кулак же, однако, отчаянный кулак!
– Разумеется, кулак! Да чем же ты хочешь, чтобы он и был? И если подумаешь, то, пожалуй, скажешь, что он совершенно прав. В самом деле: разорись он, не будь у него денег, кто его знать захочет? Никто и не вспомнит о каком-то Ермиле Карпыче! Первый подьячий его за шиворот возьмет – и в будку. А теперь он человек почтенный, уважаемый. Сам генерал-прокурор ему руку жмет, а Бироны, – разумеется, кроме герцога, – Левенвольды, Менгдены, – да он у них, после жида Липмана, первый человек. Ему не только кланяются и уважают, но даже мирволят во всем. Например, знают, что он раскольник, сектатор, и еще какой сектатор – изувер, беспоповец, даже более, – знают, что его секта одна из самых вредных, однако никто его не трогает, никто не привязывается. А отчего? Оттого, что у него есть деньги, есть капитал, и большой капитал. Все знают, что с помощью этого капитала он может все купить и все продать. Для многих это весьма важно. Кроме того, знают, что при случае могут у него перехватить, а иногда и просто поживиться. А это, ты сам знаешь, очень любит наш приказный люд, да и не только приказные, а все, которые любят пожить, а жить-то не из чего! Из наших светил власти и управления, гражданских, военных и придворных, я знаю только двоих, которых нельзя соблазнить даже хорошей взяткой, это себя и Остермана, да и то потому, что мы богаты!
– А Остерман богат?
– Да, ему еще Петр подарил хорошее имение, а при управлении Меншикова он получил другое. Главное же, по жене своей, Стрешневой, он очень богат. Но Черкасский богаче нас обоих вместе, а пусть ему предложат хорошую взятку, ручаюсь, что возьмет; да еще как возьмет-то – горячую!
– Что это значит?
– Значит то, что наши приказные, наше крапивное семя, как их называют, делят взятки на два рода: одни спокойные, а другие горячие, которые жгутся, то есть за которые можно отвечать. Я уверен, что Черкасский не откажется даже от горячей взятки, хоть он и трус. Ну а понятно, что тот, кто хочет взять, должен льнуть к тому, у кого есть что взять. Вот все и льнут к Ермилу Карпычу, все и теребят его на все лады. А наш Карпыч не дурак. Он себе и своему капиталу цену знает. Он знает, во-первых, что капитал следует держать твердо, а то расплывется и не увидишь; а во-вторых, что капитал должен расти. Он знает, что с ростом капитала растет и его сила, увеличивается его значение; стало быть, он должен стараться, чтобы капитал этот рос больше и скорее. Все дело в том, что с капиталом и только с капиталом связана вся его жизнь. Поневоле он должен держать этот капитал именно в кулаке и драть с живого и мертвого, что только может содрать. Недаром ими, такими Ермилами Карпычами, придумана поговорка: «Деньги не Бог, а полбога есть». Предание о золотом тельце становится ясным до осязательности в народе, у которого было только одно преемственное наследство – капитал.
– Так, дядюшка, но все же подумайте. Во всем должна быть мера, должен быть предел. Неужели тот, кто во время общего голода получил бы откуда-нибудь хлеб, должен был бы всех ограбить?
– Само собой разумеется, друг, что тот, кто во время общего голода один обладал бы источниками питания и этих источников у него нельзя было бы никакими способами отнять, тот стал бы царем всего мира, да еще каким царем, самым самовластным, самым деспотичным. Но твой пример не идет к делу. Ермил Карпыч не один, у которого есть деньги. Если бы нам было удобно вызвать желающих дать нам деньги на более льготных условиях, нашлось бы много охотников. Но дело в том, что мы предпочитаем взять их у него. Его скромность, предоставление полной свободы оборачиваться как мы хотим, только платили бы ему рост, удобство расчета не одними деньгами, но и всем, что только может дать нам наше хозяйство, наконец, возможность получения других услуг заставляют нас предпочитать его другим. Он это знает и, разумеется, этим пользуется. Пользоваться нуждой – это свойство капитала, его качество. Не заключая в себе ничего, на что сила его могла бы опираться, кроме количественного значения, капитал должен стремиться расти во что бы то ни стало. Отсюда ясно, что он должен быть абсолютным эгоизмом, абсолютным бессердечием. Это именно и есть характер капитала, его основное свойство, отличающее его от других элементов общественности рода и труда!
– Я вас не совсем понимаю, дядюшка. Хотите ли вы сказать, что капиталист всегда бессердечнее, жестче человека родового или живущего своим трудом? Против этого можно указать на многие пожертвования. Наконец, ведь и родовые люди тоже часто обладают большими капиталами.
– Я хочу сказать, что общественное положение человека обусловливает его действия, которыми определяются потом и его свойства. Человек, положение которого и его значение в обществе определяются исключительно количеством принадлежащего ему капитала, не может не стремиться наживать капитал всеми способами, хотя бы эти способы шли прямо вразрез его человечности. Надобно тебе сказать, что в молодости я много читал Локка и увлекался им. Вот человек истинно гениальный! Человек, который, по моему мнению, первый подвинул вперед научные исследования древних, то есть восстановил науку в ее истинном значении; вызвал ее на свет из того схоластического мрака, в котором она находилась в течение средних веков. Одним словом, первый и пока, к сожалению, единственный ученый, который, в противоречие царствующей доселе схоластической болтовне, принял в основание каждого из своих рассуждений математическую точность. Высоко стоит его имя в области науки и знания, но, могу сказать, что доселе он не понят и не оценен. Бэкон, которого возносят английские критики, по-моему, далеко ниже его, ниже настолько, насколько отвлеченные рассуждения ниже действительного раскрытия практической истины. Вдумываясь в труды Локка, как философа и экономиста, труды, в которых он касается всех жизненных вопросов общественного устройства и, можно сказать, раскрывает тайны самой их сущности в накоплениях труда, образующих капитал, и в выражении этого капитала в денежном обращении, вдумываясь в его мысли по этим столь существенным вопросам жизни и потом сравнивая его выводы с общественным устройством европейских государств, нельзя не прийти к такому заключению, что общественное устройство в сущности своего учреждения представляет три основные элемента своего практического осуществления: род, капитал и труд. Основание всему, разумеется, составляет труд. Но в вознаграждении за труд являются два взаимно противоположные свойства, обусловливаемые отчасти сущностью самого труда, отчасти тем отношением к обществу, в котором исполнение его происходило. Одно – вознаграждение чисто материальное, исходящее из взаимного обмена, как услуга за услугу; другое – основанное на той силе общественного уважения и благодарности, которые определяются принесением самопожертвования на пользу общую. Если часть этого общего уважения, заслуженной почести и общественного значения может переноситься человеком на своих наследников, то в обществе образуется начало рода и является родовое значение, имевшее столь громадное влияние на средневековую жизнь; если ничего из заслуженного он передать не может, то становится преобладающим капитал. Это исходит из того естественного чувства, пожалуй, слабости человеческой, по которой люди своего глупого, беспутного сына любят более, чем величайших гениев чужих. Ты мне не сын, а только племянник, сын моего брата, которого я не видал около сорока лет, тем не менее я желаю, чтобы все принадлежащее мне досталось скорее тебе, чем, например, Остерману, или Монтескье, или хотя тому же Локку. А ведь ты не можешь обидеться, если до тех пор, пока ты себя ничем не заявил, целый мир признает их умнее, деятельнее и полезнее тебя. Так как права, исходящие из нравственного уважения и общественного значения, бывают всегда выше исключительно материальных, тем более что они непременно совпадают с материальным вознаграждением, то общее стремление направляется преимущественно к приобретению этих родовых прав; когда же таких прав нет, то, разумеется, к материальному вознаграждению…
– И в том и в другом случае подавляют труд; так ли, дядюшка? – улыбнувшись, сказал племянник.
– Да! Подавляют труд потому, что принимают на себя обязанность определять размер его вознаграждения. Но дело в том, что подавляют совершенно противоположным образом. Родовое начало – из права вознаграждать труд создает фавор, о котором я с тобой как-то рассуждал; а капитал заставляет просто всех умирать с голоду. Правильность общественного устройства заключается в том равновесии, которое требованиями одного элемента общественности уничтожало бы недостатки другого, то есть чтобы род не допускал капитала давить труд; капитал, с своей стороны, помогал бы труду стоять в соответственном значении против рода, не допуская ни его презрения, ни его благодеяний, а только единственно правильное вознаграждение; а труд чтобы ограничивал их обоих и устранял возможность фавора. Но это задача, равносильная знаменитой задаче сфинкса; над нею сотни веков бьются все законодатели, экономисты и философы всех стран в мире!
– Вот что, дядюшка, – сказал с улыбкой племянник. – Простите за нескромный вопрос! Слушая вас и стараясь, по мере моего малого разума и недостатка образования, усвоить ваши наставления и советы, запомнить ваши мнения и соображения, – я всегда изумляюсь, почему вы не стоите во главе нашего управления? Все ценят вас, начиная с государыни; все отдают справедливость вашему уму, знанию, опытности, дают вам полный почет и, как вы мне говорили, не обходят наградами, а между тем во главе дел стоят два иностранца: один хоть деловой, а другой – просто сын случая. Я думаю, они сами, иностранцы эти, с удовольствием захотели бы прикрыться вашим именем…
– Э, мой друг! За кого же ты меня считаешь, что я захочу их разные шахер-махеры прикрывать своим именем? Но все это не то! Прежде всего: дела – это не моя стихия! Я не хочу никаких дел. Ты скажешь, что это злоупотребление своим положением. Да, злоупотребление в пользу эгоизма; злоупотребление, к которому всего чаще приводит родовое начало, к которому пришел и я, потому что, нужно сказать правду, я эгоист до кончика моих ногтей и думаю, что прежде всего – всякий для себя. Чтобы ты меня знал, а таиться от тебя мне нет надобности, я тебе скажу, что я то, что французы называют вивёр, эпикуреец в превосходной степени, и думаю, что жить стоит только для наслаждения. Фланер и парижский петимер смолоду, я остался фланером целую мою жизнь. Моя специальность – удовольствия. Я живу, готов и других учить жить собственно для того, чтобы наслаждаться. Я не отвергаю стремлений других людей к делу, к добру, к пользе, не отвергаю ни честолюбия, ни стремлений к власти, ни даже желаний наживы. Не отвергаю, например, твоего стремления возвысить и доставить политическое значение нашему роду. Буду счастлив видеть князей Зацепиных действительно первенствующими и, насколько могу, буду всеми мерами тебе содействовать. Но сам я… да за один день заботы и работ Остермана я не возьму трех Зацепинских княжеств! Я фланер и не хочу ничем более быть, как только фланером. Впрочем, не стану говорить о том, в какой степени я мог бы иметь влияние на дела в качестве ветреного и временного поклонника всего изящного; но знаешь ли ты, что я был женат?
– Вы, дядюшка?
– Да, я! Что ж тут удивительного? Я был женат на княжне, такой же поклоннице фланерства и удовольствий, как и я сам, к сожалению, только слабенькой и хворенькой. Она была не красавица, но милая, веселая, общительная. Вместе с ней мы хотели составить общий культ поклонения комусу, богу смеха и удовольствий; к сожалению, она недолго прожила. Через полтора года после свадьбы ее не стало. Разумеется, брак наш был тайный, потому что, с начала царствования дома Романовых, царевны явно никогда не сближали царствующий дом с его подданными. Тем не менее мы очень любили друг друга, и главная часть моего состояния, начиная с этого дома, принадлежит мне, благодаря ее любви и ее заботам обо мне!
– А моя почтенная тетушка была из дома Романовых?
– Она была родная сестра царствующей императрицы, пятая дочь царя Иоанна Алексеевича, Парасковья Ивановна[9 - Парасковья Ивановна была в тайном браке за генерал-аншефом графом Иваном Ильичом Дмитриевым-Мамоновым. Автор извиняется в романической вольности, что соединил ее с вымышленным лицом князя Зацепина.]. После ее смерти мне пришлось делиться по земле именно этого дома с Екатериной Ивановной, герцогиней Мекленбургской, другой сестрой государыни, матерью нынешней принцессы: Петр Великий все это место, от самого Летнего сада, отдал своим дочерям и племянницам. Половина его поэтому и принадлежала царевнам Екатерине и Парасковье Ивановнам, а другая – царевнам Елизавете и Анне Петровнам. Последняя, уезжая в Голштинию, уступила свое место сестре, и та выстроила здесь свой Зимний дворец, в котором живет и теперь. Дворец Екатерины Ивановны после смерти императрица отдала графу Апраксину, наследнику графа Федора Матвеевича, генерал-адмирала при Петре Великом, который, умирая бездетным, свой дом на Неве завещал Петру Второму, так как видел необходимость расширить здания Зимнего дворца, а места для такого расширения не было. Императрица, решившись воспользоваться этим завещанием, не захотела остаться у наследников Апраксина как бы в долгу, тем более что смерть Петра Второго скорей уничтожала силу завещания, чем передавала ей права на завещанное имущество. А часть земли, принадлежавшая Парасковье Ивановне, за исключением участка, проданного ею еще прежде своего замужества, вместе с московским ее домом, ее волостями и вотчинами, всего более семи тысяч душ, согласно ее посмертной воле была отдана мне. Дело в том, что совокупность условий моего воспитания и жизни сделали меня лентяем не лентяем, а человеком неделовым; я и не берусь за то, к чему не гожусь. Но постой, ты еще молод; а вот будешь постарше, мы и тебя введем в наш кружок анахоретов, которые наслаждение предпочитают всему. Впрочем, ты не думай, чтобы этот кружок состоял только из таких лентяев, как я, – далеко нет! Между нами есть люди, известные своею неутомимостью в деле. Между ними и мною та разница, что они посвящают себя удовольствиям между делом, а я посвящаю себя делу между удовольствиями.
– Как же вы посоветуете, дядюшка, мне посвящать себя этим удовольствиям? – смеясь, спросил племянник.
– Э, друг мой, как тебе будет угодно! Мы враги всякого насилия и никак не доктринеры. Говорим свое мнение, выясняем взгляд, а никак не полагаем, что фанатизм и изуверство могут совпадать с разумом, образованием и свободой. Одним словом, правило аристократизма и благородства соблюдается нами вполне: живи и давай жить!.. Но перейдем же к делу; теперь у тебя деньги есть… Какой же костюм тебе назначен для кадрили?
– Султана Саладина!
– А принцессе Бирон?
– Попавшейся к нему в плен грузинской княжны!
– Недурно! Тебе – белая чалма, украшенная бриллиантами и страусовым пером; зеленая бархатная, шитая золотом куртка, красные широкие шаровары и осыпанное драгоценными камнями оружие. Ей – фиолетовый вышитый жемчугом спензерь, или как там называется эта грузинская одежда; белая с золотом по газу чадра и синие шаровары. Императрица сама назначила вам роли?
– Сама. А главное, что визави мне будет английский король рыцарь Ричард Львиное Сердце с швейцарской пастушкой. Императрица выбрала для этих ролей сына герцога, принца Петра, и Анюту Скавронскую. С нами же в кадрили будут: молодой Лопухин, Иван Степанович; молодой Остерман, Федор; Куракин и Стрешнев; а из девиц: Сонечка Миних, Оленька Белосельская и еще, право, не помню кто. Все в своих характерных костюмах, по назначению самой государыни. Съезжаться для репетиций велено каждый день в Летнем дворце.
– А карусель?
– Я, в костюме Монгомери, побеждая всех, должен упасть с лошади перед взмахом креста Петра-пустынника, которого будет представлять Карлуша Бирон, в серой рясе, подпоясанный веревкой и с нашитым на плече красным крестом.
– А ты выучился падать с лошади?
– Еще как! Поднимая ее на дыбы! Надеюсь выполнить роль к общему удовольствию.
Но выполнять роль ему не пришлось. В минуту самого рассуждения о предстоящей кадрили и карусели торопливо вбежал камердинер князя Андрея Дмитриевича и, видимо сдерживая себя от неприличной одышки, стоя в почтительной позе, доложил ему, что его светлость герцог и его сиятельство граф Левенвольд разом прислали нарочных просить его пожаловать сию минуту в Зимний дворец; государыне очень дурно.
– Они оба убедительно просят, ваше сиятельство, поспешить.
– Что такое? Что случилось? Карету скорей!
И оба князя встали.
– Знаешь, друг, я бы тебе советовал подождать дома моего возвращения. Бог знает, может быть, что-нибудь и нужно будет!
Андрей Дмитриевич торопливо оправил свой костюм и уехал, а Андрей Васильевич ушел к себе и написал к кому-то записку, чтобы его не ждали.
X
Шуты
Утром пятого октября тысяча семьсот сорокового года государыня императрица Анна Иоанновна ступила с постели на ковер левой ногой. Новокшенова, ее сказочница и попрошайка, с утра забравшаяся в спальню императрицы и лежавшая до пробуждения государыни на ковре как сурок, держа в руках ее туфли, подала было ей туфлю с правой ноги, но, заметив, что туфля не та, переменила и начала нескончаемый рассказ о том, как она смолоду тоже раз как-то стала с левой ноги, и мать ее начала бранить: дескать, верно, неудаче быть, верно, кофе сбежит или молоко скиснет, не то кошка жаркое унесет.
– А я себе сижу да и думаю, – говорила Новокшенова, – мне-то какая же беда? За кофеем-то уж как-нибудь посмотрю, а коли молоко скиснет или кошка жаркое унесет, так это не моя беда, а мамкина! Разве вот сарафан свой новенький запачкаю, – а сарафанчик у меня был такой хорошенький, розовый, с желтыми и зелененькими цветочками, таково красиво выходило, – так разве его… Так как же запачкать? Я и надевать-то его вовсе не думала, да и незачем, ни праздник, ни что… к тому же мы с соседками за грибами идти собирались, так зачем же тут новый сарафан? А собирались за грибами мы, Палашка Гусева да Анютка Дылева…
– Перестань болтать, надоела! – сказала государыня, снимая ночную кофту и при помощи камер-юнгферы надевая батистовый, с английскими прошивками пеньюар, обшитый брюссельскими кружевами, в то время как другая камер-юнгфера приготовляла в серебряном умывальнике воду для умыванья и расставляла на умывальном столике, по заведенному порядку: мыло, зубные порошки, одеколон, померанцевую воду и другие принадлежности умывания.
– Кто ждет в приемной? – спросила государыня.
– Его высокопревосходительство кабинет-министр Алексей Петрович Бестужев, его высокородие бригадир Петр Васильевич Измайлов и его превосходительство Иван Иванович Неплюев да еще два генерала, – отвечала камер-юнгфера.
А Новокшенова все это время болтала:
– Ну какая беда случиться может, как грибы буду собирать? Медведей в нашей стороне нет; лихих людей тоже не слышно, да и от села близко; опять же я не одна, нас десять девиц собралось! Ну сами, милостивая государыня, посудите, какая же беда выйти может? Дома еще все, знаете, не то, так другое случиться может, а в лесу? Рази дождь пойдет? Так и тут у меня большая хустка (платок) была, да такая плотная, что твоя кожа! Прикроюсь, бывало, и грибы ли, ягоды ли прикрою да и иду себе, и горюшка мало! Ну, думаю, какая же беда будет? А в это время к соседу-то Новокшенову сын приехал, офицер из какого-то казылбашского или, как его, не по-нашему зовут, какого-то мурманского… или вот дай бог память… так и вертится… как-то… да, астраханского полка… Нам, девкам, очень хотелось на офицера посмотреть, мы и собрались зайти к священнику, будто отдохнуть, а из окон-то отца Василия…
– Перестань болтать, – повторила государыня Новокшеновой, – надоела! Скажи, что, кроме Бестужева, я никого не приму! – прибавила она, обращаясь к камер-юнгфере.
Камер-юнгфера вышла передать приказание; другая камер-юнгфера стала подавать государыне умываться, а Новокшенова, несмотря на двукратное приказание государыни, все болтала: