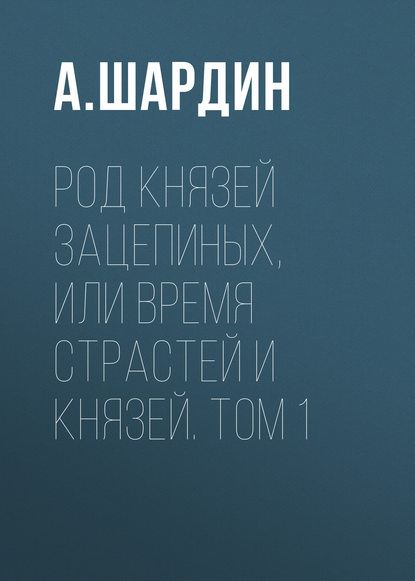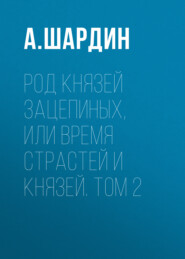По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Род князей Зацепиных, или Время страстей и князей. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот только как вошли мы в березняк-то, – под самый Курск подходил, – грибов такое множество, что страх! Я иду да собираю. Думаю, какая же беда-то будет: вот и часу не ходим, а уж корзинка-то, почитай, полная; ну и девицы разошлись по роще-то, собирают, изредка аукнемся. Только вот это вышла я на прогалинку, тут камень еще такой большой лежит, а около камня малинник, так перед самым малинником масленики, целое гнездо, да такое большое… Я обрадовалась, нишкну, и давай собирать, думаю, другие-то придут с березовиками, а я принесу маслеников, хоть бы и всегда такая беда приходила. Я к тому говорю, всемилостивейшая моя государыня, что вот приметы-то как врут! Ну какая беда?..
– А такая тебе беда будет, что я до обеда заставлю тебя в ступе воду толочь; говорят – надоела, так убирайся!
– Власть ваша, всемилостивейшая государыня, мне хоть голову снять прикажите, словечка не скажу, коли вашей милости нежелательно; а без беды все же не обошлось… Собираю я это масленики, думаю, на зависть всем, да еще как на зависть-то! Думаю я все это, да сама не заметила, в малиннике-то прикурнула да там и заснула. Во сне вижу, будто кругом меня не то масленики, все белые грибы растут, только собираюсь будто я поднять один гриб, а он будто выскочил и прямо в губы уколол; я проснулась, а прямо надо мной, нагнувшись, стоит мужчина и меня целует. Это и был Новокшенов, приезжий из полка офицер, ставший скоро моим женихом, а потом и мужем. Вот беда какая вышла, что я и не думала. А все от того, что с левой ноги с постели встала…
Императрица приказала ее вытолкать; а она все еще рассказывала.
– И ведь как это вышло, – говорила она. – Собрался он купаться. Пошел на реку да и заблудился, и вдруг видит… – Но она была уже за дверью.
«Как сумасшедшая, – сказала государыня про себя, – болтает без умолку! Иногда это очень забавно».
Вошли еще две камер-юнгферы с различными принадлежностями туалета. Дежурная фрейлина подала ей проект обеденного меню.
– От гофмаршала, ваше величество, – сказала фрейлина, приседая по форме.
– Здравствуйте, – сказала государыня фрейлине и взглянула на меню.
– Ну что это, все дичь да дичь, надоело! – сказала она. – Напишите гофмаршалу, что на жаркое я желаю молодых домашних уток. Теперь утки должны быть хороши и дешевы! – заметила императрица, будто цена уток могла иметь какое-нибудь значение в ее бюджете. – Приготовить по-курляндски, с каштанами!
– Фрейлина поклонилась.
– Да постойте! Кто же у меня будет обедать? Скажите, что, кроме всегдашних, я прошу пригласить старика Ивана Юрьевича Трубецкого. Он нонче по старости редко из Москвы приезжает, а я люблю его видеть. Он всегда меня ужасно смешит, когда рассердится. Сегодня я напущу на него Новокшенову разговаривать и от души посмеюсь, когда он сердиться и заикаться начнет.
Фрейлина присела опять и вышла, а государыня прошла в уборную, где ее ждал парикмахер, и велела чесать косу.
Уходя, парикмахер заметил, что государыня сегодня, должно быть, не в духе: «Изволили быть очень нетерпеливы, когда я ей голову убирал».
– Левой ножкой с постели ступить изволила, – начала было рассказывать Новокшенова, услышав сделанное парикмахером замечание. – Примета несомненная! Вот и я тоже раз, мне тогда только что подарили новенький, хорошенький сарафанчик, и так это он мне нравился, только вот…
Но парикмахер ее не слушал и ушел.
Государыня вышла в кабинет и приказала позвать Бестужева.
Бестужев вошел, раскланялся как истинный придворный и принес государыне поздравление с добрым утром и светлым осенним днем.
– Благодарю, Алексей! – сказала государыня. – Так ты говоришь – погода хороша. Я очень рада! Проедусь после обеда. А то вот дня три, как я никуда не выезжала, все от этих дождей. Ну что ты мне принес?
– С шведским делом, ваше величество! Брат извещает о получении десяти тысяч ефимков и надеется, что он употребит их с пользой. Швеция просто дурит, государыня! Партия шляп, которая все время бредила войной, пока войска вашего величества были в Турции, теперь для поддержания идеи о войне в народе вздумала распространять слухи, что Россия от этой победоносной войны так ослабела, что едва ли в силах защищать даже Петербург.
– Что же Андрей Иванович об этом думает?
– Андрей Иванович полагает в ответ на их слухи усилить отряд под Выборгом тремя или четырьмя полками.
– Да! Но не вызовем ли мы этим в шведах озлобление? Ты знаешь, Алексей, я не люблю войны! Я думаю, что решаться на войну можно только в совершенной крайности. Но я также не боюсь войны, и где честь России требует… Оставь мне это дело, я его просмотрю. Потом, скажи, есть у вас донесение о Татищеве? Что сделано для раскрытия всех производимых им непорядков?
– Как же, ваше величество, объяснение его препровождено в особую комиссию для расследования.
– Хорошо! Когда комиссия рассмотрит, представить мне. Я не держу тебя больше. Признаюсь, сегодня я что-то сама не своя. И не знаю, право, что со мною делается. Прощай!
Бестужев откланялся.
К обеду собрались в Летнем дворце свои, как говорила государыня. Герцог и герцогиня Бирон, дети их: Петр, Карл и Гедвига, или Елизавета, как звали дочь Бирона по-русски; дежурные: фрейлина и камергер, приглашаемые всегда, когда обед происходил в комнатах императрицы, а не герцога. В этот день дежурными были фрейлина Шишкина и камергер курляндский барон Симолин. К этим своим особо был приглашен старый фельдмаршал князь Иван Юрьевич Трубецкой, последний русский боярин, высокий и седой старик.
За креслом императрицы стояла ее любимая дурка Ксюшка; в углу столовой, на скамеечках, подле маленького столика лепились два шута: один – старик Балакирев, другой с знаменитым именем, сделанный шутом по настоянию Бирона для унижения русских знатных родов. Под тем предлогом, что он будто бы, служа при французском посольстве, изменил православию и за такой поступок подлежал пытке и страшной казни сожжения живым, Бирон предложил ему на выбор или подвергнуться тому и другому, или принять вакантное место шута императрицы с обеспеченным содержанием, наградами и всеми последствиями занятия этого места.
– Между русскими дураками так трудно найти сколько-нибудь образованных, которые могли бы иногда и тонкие шутки говорить, и на иностранных языках, что я готов просить императрицу о снисхождении к вашему преступлению, если вы примете предлагаемую вам должность, – сказал ему Бирон по-немецки.
Бедняк не решился отвечать и просил два дня сроку подумать.
Бирон дал ему эти два дня, но велел его водить каждый день в застенок Тайной канцелярии посмотреть, как пытали там казака, пойманного в распространении слухов, что император Петр II жив.
Взглянув на то, как ломают кости, вывертывают руки, поджаривают ноги на жаровне, он не выдержал и двух часов и объявил Бирону, что он просит высокой милости его светлости и принимает предложенную должность. Это был князь Михаил Алексеевич Голицын, родной внук знаменитого, некогда могучего и славного князя, оберегателя посольских дел и государственных печатей, руководителя политики России и фаворита царевны-правительницы Софьи Василья Васильевича Голицына, прозванного иностранцами великим Голицыным.
Дорого обошлось спасение своей жизни князю Михаилу Алексеевичу. Он выкупил ее не только полным нравственным унижением, но и обязанностью переносить телесные истязания.
В тот же день, в который он изъявил согласие на принятие должности шута, он был одет в шутовской наряд: куртку, правая половина которой была из красного бархата, а левая из желтой крашенины; панталоны из небольших разноцветных шелковых треугольников ярких и контрастных цветов, сапоги: один красный, другой желтый, с колокольчиками, и высокий полосатый дурацкий колпак с погремушками; и в тот же день за произнесение какой-то непонравившейся шутки или за то, что он на вызов шутки не отвечал тем же, он, по приказанию Бирона, был жестоко высечен.
– Взялся за гуж, не говори, что не дюж! – сказал Балакирев, когда князя вели на расправу, и точно – согласился быть шутом, так и будь шут. В тот же или на другой день два других шута императрицы, Лакоста и Педрилло, привязались к нему за что-то и больно-таки, при самой государыне, избили. Государыня очень смеялась, что дурак сердится. Ведь они шутят!
Тяжко отозвалась пятидесятилетнему князю и устроенная зимой в том году для увеселения государыни его свадьба в ледяном доме, сооруженном Волынским. Шутовской маскарад, составлявший свадебный поезд князя, которого насильно обвенчали на смешной, сердитой и страстной тридцатилетней девице из проходимок, не мог не усиливать его нравственных страданий. Но эти нравственные страдания усугубились физическими, когда, мучимый холодом, замерзая в своем ледяном приюте, он невольно для спасения своей жизни должен был прижимать крепко к своей груди свою шутовскую подругу, которая, со страстностью перезрелой девы, хотела пользоваться правами его жены. Рождение сына от этого брака было новым мучением его княжеской гордости. Он боялся повторения сцен, бывших перед тем с шутом Педриллой, когда он представлял будто бы новорожденную свинку.
Впрочем, теперь он уже привык ко всему. Никакое оскорбление его не выводило из себя. Шуток, которые не нравятся, не говорит; когда хотят, чтобы он болтал, – не молчит; перед товарищами гордость свою княжескую смирил и съежился. Сидят они с Балакиревым вдвоем на скамеечках и, как собачонки, ждут подачек.
В стороне от шутов, в углу, стояли две говорильни государыни. Одна – известная уже читателю Новокшенова; другая – выписанная ей на смену, на случай ее смерти, княжна Вяземская. Они обе разом что-то рассказывали друг другу вполголоса.
Императрица вошла под руку с своим любимцем маленьким Карлушей Бироном. За нею шел герцог с семейством и дежурная фрейлина. Камергер и Трубецкой уже дожидались в столовой.
– А, князь, – сказала императрица, увидав Трубецкого, который ей почтительно поклонился.
– Я-я-я счастлив м-м-милостию вашего в-в-величества!
Трубецкой заикался, и сильно заикался, особливо когда бывал чем рассержен или сконфужен.
– Поди-ка сюда, моя красавица, – сказала государыня Новокшеновой, садясь за стол, – стань за стулом у его сиятельства фельдмаршала, расскажи ему твою войну с маслениками да порасспроси, в чем тут была твоя вина, в чем твоя ошибка!
Новокшенова начала свой рассказ скороговоркой, что вот она с матушкой жила в деревне, только раз утром она и ступила с кровати с левой ноги. Мать и говорит ей: «Марфушка, нехорошо, беда какая-нибудь будет…»
В это время Трубецкой хотел ее о чем-то спросить, заикнулся и начал: «Д-д-д…»
Новокшенова, боясь, чтобы ее не перебили, начала чаще и громче: «Или молоко скиснет, а не то, не приведи бог…»
Трубецкой заторопился тоже высказать свой вопрос, и заиканье усилилось, так что одно время только и слышны были болтовня тараторки, а со стороны фельдмаршала «д-д-д». Государыня рассмеялась. Шуты, заметив, что это доставляет ей удовольствие, стали передразнивать: Балакирев – Новокшенову, а Голицын – Трубецкого. «Та-та-та-та», – кричал Балакирев голосом Новокшеновой. «Д-д-д-д», – передразнивал князя Голицын. А дурка затянула какую-то песню, что-то вроде:
Красота твоя Анна,
Что от Бога тебе данна…
Вяземской стало скучно стоять в углу одной и ни с кем не говорить. Она подошла к Новокшеновой и начала, тоже не прерывая речи и не слушая, что говорят.
– Со мной тоже было, – говорила Вяземская и тоже без перерыва и скороговоркой. – Матушка у меня строгая, любила порядок. Только вот раз и говорит: «К нам твой дедушка, мой отец, едет». Я обрадовалась.
– А такая тебе беда будет, что я до обеда заставлю тебя в ступе воду толочь; говорят – надоела, так убирайся!
– Власть ваша, всемилостивейшая государыня, мне хоть голову снять прикажите, словечка не скажу, коли вашей милости нежелательно; а без беды все же не обошлось… Собираю я это масленики, думаю, на зависть всем, да еще как на зависть-то! Думаю я все это, да сама не заметила, в малиннике-то прикурнула да там и заснула. Во сне вижу, будто кругом меня не то масленики, все белые грибы растут, только собираюсь будто я поднять один гриб, а он будто выскочил и прямо в губы уколол; я проснулась, а прямо надо мной, нагнувшись, стоит мужчина и меня целует. Это и был Новокшенов, приезжий из полка офицер, ставший скоро моим женихом, а потом и мужем. Вот беда какая вышла, что я и не думала. А все от того, что с левой ноги с постели встала…
Императрица приказала ее вытолкать; а она все еще рассказывала.
– И ведь как это вышло, – говорила она. – Собрался он купаться. Пошел на реку да и заблудился, и вдруг видит… – Но она была уже за дверью.
«Как сумасшедшая, – сказала государыня про себя, – болтает без умолку! Иногда это очень забавно».
Вошли еще две камер-юнгферы с различными принадлежностями туалета. Дежурная фрейлина подала ей проект обеденного меню.
– От гофмаршала, ваше величество, – сказала фрейлина, приседая по форме.
– Здравствуйте, – сказала государыня фрейлине и взглянула на меню.
– Ну что это, все дичь да дичь, надоело! – сказала она. – Напишите гофмаршалу, что на жаркое я желаю молодых домашних уток. Теперь утки должны быть хороши и дешевы! – заметила императрица, будто цена уток могла иметь какое-нибудь значение в ее бюджете. – Приготовить по-курляндски, с каштанами!
– Фрейлина поклонилась.
– Да постойте! Кто же у меня будет обедать? Скажите, что, кроме всегдашних, я прошу пригласить старика Ивана Юрьевича Трубецкого. Он нонче по старости редко из Москвы приезжает, а я люблю его видеть. Он всегда меня ужасно смешит, когда рассердится. Сегодня я напущу на него Новокшенову разговаривать и от души посмеюсь, когда он сердиться и заикаться начнет.
Фрейлина присела опять и вышла, а государыня прошла в уборную, где ее ждал парикмахер, и велела чесать косу.
Уходя, парикмахер заметил, что государыня сегодня, должно быть, не в духе: «Изволили быть очень нетерпеливы, когда я ей голову убирал».
– Левой ножкой с постели ступить изволила, – начала было рассказывать Новокшенова, услышав сделанное парикмахером замечание. – Примета несомненная! Вот и я тоже раз, мне тогда только что подарили новенький, хорошенький сарафанчик, и так это он мне нравился, только вот…
Но парикмахер ее не слушал и ушел.
Государыня вышла в кабинет и приказала позвать Бестужева.
Бестужев вошел, раскланялся как истинный придворный и принес государыне поздравление с добрым утром и светлым осенним днем.
– Благодарю, Алексей! – сказала государыня. – Так ты говоришь – погода хороша. Я очень рада! Проедусь после обеда. А то вот дня три, как я никуда не выезжала, все от этих дождей. Ну что ты мне принес?
– С шведским делом, ваше величество! Брат извещает о получении десяти тысяч ефимков и надеется, что он употребит их с пользой. Швеция просто дурит, государыня! Партия шляп, которая все время бредила войной, пока войска вашего величества были в Турции, теперь для поддержания идеи о войне в народе вздумала распространять слухи, что Россия от этой победоносной войны так ослабела, что едва ли в силах защищать даже Петербург.
– Что же Андрей Иванович об этом думает?
– Андрей Иванович полагает в ответ на их слухи усилить отряд под Выборгом тремя или четырьмя полками.
– Да! Но не вызовем ли мы этим в шведах озлобление? Ты знаешь, Алексей, я не люблю войны! Я думаю, что решаться на войну можно только в совершенной крайности. Но я также не боюсь войны, и где честь России требует… Оставь мне это дело, я его просмотрю. Потом, скажи, есть у вас донесение о Татищеве? Что сделано для раскрытия всех производимых им непорядков?
– Как же, ваше величество, объяснение его препровождено в особую комиссию для расследования.
– Хорошо! Когда комиссия рассмотрит, представить мне. Я не держу тебя больше. Признаюсь, сегодня я что-то сама не своя. И не знаю, право, что со мною делается. Прощай!
Бестужев откланялся.
К обеду собрались в Летнем дворце свои, как говорила государыня. Герцог и герцогиня Бирон, дети их: Петр, Карл и Гедвига, или Елизавета, как звали дочь Бирона по-русски; дежурные: фрейлина и камергер, приглашаемые всегда, когда обед происходил в комнатах императрицы, а не герцога. В этот день дежурными были фрейлина Шишкина и камергер курляндский барон Симолин. К этим своим особо был приглашен старый фельдмаршал князь Иван Юрьевич Трубецкой, последний русский боярин, высокий и седой старик.
За креслом императрицы стояла ее любимая дурка Ксюшка; в углу столовой, на скамеечках, подле маленького столика лепились два шута: один – старик Балакирев, другой с знаменитым именем, сделанный шутом по настоянию Бирона для унижения русских знатных родов. Под тем предлогом, что он будто бы, служа при французском посольстве, изменил православию и за такой поступок подлежал пытке и страшной казни сожжения живым, Бирон предложил ему на выбор или подвергнуться тому и другому, или принять вакантное место шута императрицы с обеспеченным содержанием, наградами и всеми последствиями занятия этого места.
– Между русскими дураками так трудно найти сколько-нибудь образованных, которые могли бы иногда и тонкие шутки говорить, и на иностранных языках, что я готов просить императрицу о снисхождении к вашему преступлению, если вы примете предлагаемую вам должность, – сказал ему Бирон по-немецки.
Бедняк не решился отвечать и просил два дня сроку подумать.
Бирон дал ему эти два дня, но велел его водить каждый день в застенок Тайной канцелярии посмотреть, как пытали там казака, пойманного в распространении слухов, что император Петр II жив.
Взглянув на то, как ломают кости, вывертывают руки, поджаривают ноги на жаровне, он не выдержал и двух часов и объявил Бирону, что он просит высокой милости его светлости и принимает предложенную должность. Это был князь Михаил Алексеевич Голицын, родной внук знаменитого, некогда могучего и славного князя, оберегателя посольских дел и государственных печатей, руководителя политики России и фаворита царевны-правительницы Софьи Василья Васильевича Голицына, прозванного иностранцами великим Голицыным.
Дорого обошлось спасение своей жизни князю Михаилу Алексеевичу. Он выкупил ее не только полным нравственным унижением, но и обязанностью переносить телесные истязания.
В тот же день, в который он изъявил согласие на принятие должности шута, он был одет в шутовской наряд: куртку, правая половина которой была из красного бархата, а левая из желтой крашенины; панталоны из небольших разноцветных шелковых треугольников ярких и контрастных цветов, сапоги: один красный, другой желтый, с колокольчиками, и высокий полосатый дурацкий колпак с погремушками; и в тот же день за произнесение какой-то непонравившейся шутки или за то, что он на вызов шутки не отвечал тем же, он, по приказанию Бирона, был жестоко высечен.
– Взялся за гуж, не говори, что не дюж! – сказал Балакирев, когда князя вели на расправу, и точно – согласился быть шутом, так и будь шут. В тот же или на другой день два других шута императрицы, Лакоста и Педрилло, привязались к нему за что-то и больно-таки, при самой государыне, избили. Государыня очень смеялась, что дурак сердится. Ведь они шутят!
Тяжко отозвалась пятидесятилетнему князю и устроенная зимой в том году для увеселения государыни его свадьба в ледяном доме, сооруженном Волынским. Шутовской маскарад, составлявший свадебный поезд князя, которого насильно обвенчали на смешной, сердитой и страстной тридцатилетней девице из проходимок, не мог не усиливать его нравственных страданий. Но эти нравственные страдания усугубились физическими, когда, мучимый холодом, замерзая в своем ледяном приюте, он невольно для спасения своей жизни должен был прижимать крепко к своей груди свою шутовскую подругу, которая, со страстностью перезрелой девы, хотела пользоваться правами его жены. Рождение сына от этого брака было новым мучением его княжеской гордости. Он боялся повторения сцен, бывших перед тем с шутом Педриллой, когда он представлял будто бы новорожденную свинку.
Впрочем, теперь он уже привык ко всему. Никакое оскорбление его не выводило из себя. Шуток, которые не нравятся, не говорит; когда хотят, чтобы он болтал, – не молчит; перед товарищами гордость свою княжескую смирил и съежился. Сидят они с Балакиревым вдвоем на скамеечках и, как собачонки, ждут подачек.
В стороне от шутов, в углу, стояли две говорильни государыни. Одна – известная уже читателю Новокшенова; другая – выписанная ей на смену, на случай ее смерти, княжна Вяземская. Они обе разом что-то рассказывали друг другу вполголоса.
Императрица вошла под руку с своим любимцем маленьким Карлушей Бироном. За нею шел герцог с семейством и дежурная фрейлина. Камергер и Трубецкой уже дожидались в столовой.
– А, князь, – сказала императрица, увидав Трубецкого, который ей почтительно поклонился.
– Я-я-я счастлив м-м-милостию вашего в-в-величества!
Трубецкой заикался, и сильно заикался, особливо когда бывал чем рассержен или сконфужен.
– Поди-ка сюда, моя красавица, – сказала государыня Новокшеновой, садясь за стол, – стань за стулом у его сиятельства фельдмаршала, расскажи ему твою войну с маслениками да порасспроси, в чем тут была твоя вина, в чем твоя ошибка!
Новокшенова начала свой рассказ скороговоркой, что вот она с матушкой жила в деревне, только раз утром она и ступила с кровати с левой ноги. Мать и говорит ей: «Марфушка, нехорошо, беда какая-нибудь будет…»
В это время Трубецкой хотел ее о чем-то спросить, заикнулся и начал: «Д-д-д…»
Новокшенова, боясь, чтобы ее не перебили, начала чаще и громче: «Или молоко скиснет, а не то, не приведи бог…»
Трубецкой заторопился тоже высказать свой вопрос, и заиканье усилилось, так что одно время только и слышны были болтовня тараторки, а со стороны фельдмаршала «д-д-д». Государыня рассмеялась. Шуты, заметив, что это доставляет ей удовольствие, стали передразнивать: Балакирев – Новокшенову, а Голицын – Трубецкого. «Та-та-та-та», – кричал Балакирев голосом Новокшеновой. «Д-д-д-д», – передразнивал князя Голицын. А дурка затянула какую-то песню, что-то вроде:
Красота твоя Анна,
Что от Бога тебе данна…
Вяземской стало скучно стоять в углу одной и ни с кем не говорить. Она подошла к Новокшеновой и начала, тоже не прерывая речи и не слушая, что говорят.
– Со мной тоже было, – говорила Вяземская и тоже без перерыва и скороговоркой. – Матушка у меня строгая, любила порядок. Только вот раз и говорит: «К нам твой дедушка, мой отец, едет». Я обрадовалась.