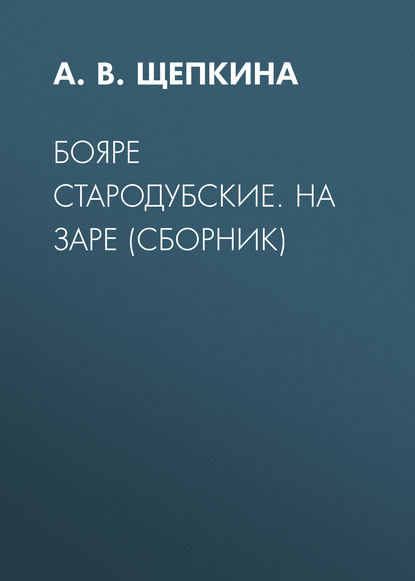По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Бояре Стародубские. На заре (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
О жизни Анны, о первых впечатлениях ее по приезде в Петербург можно вернее узнать из писем ее к отцу и к сестре, которым она писала обо всем, причем она успела усвоить себе несколько шероховатый и спутанный стиль того времени, непохожий на ее привычный разговорный язык, и употребляла французские слова на русский лад, как делали все в те времена.
«Ноябрь, 1751-го г.
О том, что я милостиво была принята государынею при своем ей представлении, я уже вам писала, и в каком я тогда находилась в смущении! Но при всем том то был для меня наиприятнейший день в моей жизни. С того времени как я во дворце, на службе, нахожусь, я во всех увеселениях принимаю участие и все видеть случай имею, а также и танцевать на балах все разноманерные танцы. Недавно был бал по случаю бракосочетания князя Т. в доме родителей его. Зала была превеликая, наполненная множеством людей обоего пола. Между ними все были люди роскошно одетые, наблюдали они всю благопристойность, приличную кондуиту. Веселились все до самого утра, причем окружена я была наилюбезными услужливостями танцоров моих.
Прошу вас отписать мне о себе и о своем здоровье. Будь здоров, отец, и не пропускай случая сберегать себя для твоей наипокорнейшей дочери, Анны».
В другом письме, к сестре, находится описание маскарадов того времени.
«Дорогая сестра Ольга!
Спасибо тебе за письма, из коих ведаю о твоем и об отце здоровье. Желаю тебе здоровья и благословения Божия. Ты не пишешь мне ничего о том, назначена ли твоя свадьба, или вы почему-либо умедляете ее? Думаю о тебе и жалею, что ты во всех веселостях принять участие не можешь.
На днях имела я случай видеть, когда по желанию государыни лейб-гвардии штаб- и обер-офицеры трактованы были обеденным столом. Накрыты были столы, представляя собою фигуру наподобие короны. При обеденном кушанье, с пушечной пальбой, пили бокалы за здоровье государыни, и потом, с пальбою же из пушек, пили за здоровье гвардии штаб- и обер-офицеров. Вместе с ними за столом сидела государыня, так как она именуется полков лейб-гвардии полковником. На государыне было при торжестве этом великолепное белое платье с серебряными позументами, а на голове была диадема из бриллиантов.
Еще недавно была свадьба графа Г – а, и по обвенчании был устроен богатый вечерний трактамент; вечером была иллюминация из разноцветных огней, и в середине иллюминации поставлена была большая картина; а на улицах фигурами расставлены были плошки. После ужина начался бал. Если бы ты слышала музыку и пение при дворе, – как поют итальянцы! На балу же пел итальянец же, буфон, разные с шутками смешные песни. Бал кончился около пяти часов пополуночи. Видела я также при дворе бывший недавно метаморфоз, т. е. маскарад, где все дамы были в мужском платье, а кавалеры были одеты в женских костюмах, и всех забавляло такое переодеванье.
На Новый год я получила в подарок от государыни богатое ожерелье, и если бы ты видела, как оно мне хорошо, и сама я в зеркало на него засматриваюсь. О замужестве я пока не помышляю, а желаю пожить и повеселиться, сколько милостию Божиею дозволено будет. Обо мне ведай, что я жива и здорова.
Сестра твоя Анна».
Нельзя сказать, чтобы Ольгу радовали такие письма. Она боялась да и предвидела, что Анна закружится и растеряется в веселье и привыкнет только шутить со всеми. Соображения Ольги оправдывались на деле. В каждом новом письме Анна сообщала ей новые планы и надежды; после каждого бала передавала она, как влюблен в нее такой-то граф или такой-то князь, – и позднее она же сообщала о женитьбе их на других невестах, сетуя, что они были предпочтены ей за большое богатство и знатность. Ольга начинала понимать, что Анной будут только играть, не предлагая ей руки и сватаясь к другим; она собиралась даже писать ей, чтобы предостеречь ее. Но в ближайшем письме Анна снова сообщала, что теперь дело, кажется, затевается серьезное, что ее любят и она не могла бы найти партии лучше. Правда, все стараются отклонить от нее и увлечь этого богатого искателя, но она намерена употребить все усилия, чтобы достичь цели, потому уж, что чувствовала большое расположение к этой особе. Таковы были планы Анны, она не придавала никакого значения предостережениям и советам сестры держать себя серьезней и дальше от искателей, не предлагавших руки; самоуверенность и честолюбие ослепили ее. Она еще раз писала сестре, что все шло хорошо, а службой ее были довольны и к ней были благосклонны.
«Еще ожидает нас новое удовольствие, – писала она дальше, – с Нового года государыня приказала выписать в Петербург русских актеров, всю труппу Волкова из Ярославля, о которой много похвал до нас доходит.
Хотя кроме итальянской комедии и певцов, находившихся при дворе, давались и представления на русском языке, но играли до этого времени в русских пьесах кадеты, воспитанники Шляхетского корпуса, очень молодые люди, исполнявшие также и женские роли. Представления эти шли довольно удачно, государыня поощряла их и устраивала эти представления во дворце. Но что до труппы Волкова, – писала Анна, – то она настолько игру их превосходит, по сравнению очевидцев, что дает гораздо большее удовольствие. Особенно хвалят видевшие труппу Волкова прошлого лета в Ярославле, – актера Нарыкова и некоего молодого Яковлева, один голос которого зачаровать может слушающих. Притом актеры эти – люди образованные и многие языки изучили.
Государыня пожелала, чтобы труппа их дала несколько представлений при дворе для поощрения ее. Государыня любит искусство и поощрять старается всех, кто к оному склонность имеет. Нередко беседует она с членами де сиене-Академии и оказывает всякое им покровительство».
Весь Петербург не менее Анны толковал о приезде русской труппы Волкова, который уже вошел в известность тем, что был учредителем первого возникшего в России частного театра. При дворе уже давались русские пьесы, и в этом году игралась пьеса Сумарокова «Хорев», доставившая автору ее известность в русском обществе, выдвинувшая его как талантливого и первого писателя того времени.
Ожидая новую труппу, новых празднеств по этому случаю, Анна занялась придумываньем себе новых нарядов. Наряды были и у всех на первом плане, в них наиболее проявлялось начало развития вкуса, они считались внешним проявлением образования. Сама императрица Елизавета любила роскошные костюмы во французском вкусе и любила носить светлые, дорогие ткани. Гардероб ее отличался необыкновенным количеством платьев и других принадлежностей туалета.
Анна радовалась, что с приездом труппы Волкова для императрицы также явится новое развлечение, что было очень нужно в последнее время. Известно было, что на государыню находила по временам тоска; она задумывалась, и часто заставали ее в слезах, когда она оставалась в своих апартаментах. Ее озабочивали все неблагоприятно сложившиеся обстоятельства по управлению государством, и окружавшие ее партии при дворе, и затруднения в отношениях к другим государствам Европы, стремившимся извлечь пользу из сил России, воспользоваться союзом с ней для личных выгод, ничего не предоставляя ей в вознаграждение потерь, которые она могла претерпеть. Это были трудные задачи, вызывавшие уныние и слезы императрицы. Могла ли она вполне верить окружающим и опираться на них в своих заботах? Еще недавно она должна была удалить от себя одного из старых преданных ей людей, старинного доктора Лестока, знавшего ее еще в юные лета, преданно служившего ей при вступлении на престол. Он был обвинен в том, что поддался подкупу французского двора и выдавал всю тайную политику России; и после долгого ареста и следствия был он удален в Вологду. Долго не соглашалась Елизавета на это, несмотря на все убеждения канцлера графа Бестужева; но все доказательства были налицо. В руках враждовавшего с Лестоком канцлера были его перехваченные письма… Императрица уступила по чувству справедливости: человек, так долго обманывавший ее доверие, должен быть наконец наказан! Лесток был удален. Но могла ли императрица верить остальным лицам вокруг себя, не могла ли подозревать даже и канцлера, о котором также ходили слухи о сношениях его с прусским и австрийским дворами ради своих личных выгод? А война, которую ей представляли как необходимость? Все это тяготело над нею и озабочивало за будущее России. Тем более старались развлечь ее все окружающие, отвлекая ее внимание от самих себя. Но, приходя на дежурство, Анна видела часто императрицу грустною и больною, и, подавая ей чистый платок по ее приказанию, она уносила другой, отданный ей императрицею и смоченный слезами. Не смея выразить свое участие в недоумении, почему так тяжело жилось государыне, Анна молча уносила платок, в свою очередь роняя на него несколько слез, от мягкого и теплого молодого сердца. Императрицу оставляют одну по ее требованию. Анна, притаясь, стоит у ее двери, не понимая, что совершается вокруг нее; она неопытна и несведуща в окружающей ее жизни. Несколько дней проходят во дворце тихо и однообразно.
Но вот настал день празднества на половине его высочества Петра Федоровича, племянника и будущего наследника императрицы Елизаветы, – день празднества по случаю его рождения. Все готовятся к празднеству. Государыня присутствует на вечере и при ужине. После ужина начинаются танцы и государыня танцует. Ей лучше, она поздоровела; наследник внимательно следит за нею, – она ласково опять разговаривает с ним и с женою наследника, молодою еще Екатериною. Мрачные мысли и предчувствия рассеялись, и недоверие исчезло, – опять светло и ясно все окружающее. Анна присутствует на этом вечере и танцует изредка. В середине бала императрица делает ей знак подойти к ней и посылает ее отыскать веер, оставленный ею на окне в одной из зал. Анна порхнула по паркету легкой своей и плавной походкой, она отыскивала веер, обтянутый голубым атласом, с нарисованными на нем розами и опушенный лебяжьим пухом. Комнаты полны посетителей, везде теснота; Анна спешит пройти пустым коридором с веером в руке. Но в коридоре она наталкивается на одного старого графа, который не пропускает спокойно молоденьких фрейлин. Старик загораживает ей дорогу, – она притиснута к стене и получает громкий поцелуй! Первым порывом ее было желание опрокинуть, оттолкнув, некрепкого на ногах старца, но, опомнясь от такого порыва, Анна приседает к земле и быстро ускользает из-под руки старика, втиснув в эту руку веер императрицы. Она бежит вперед и, стоя в дверях залы, говорит ему громко: «Граф! У вас остался веер императрицы, ее величество требует свой веер и будет недовольна!» Граф спешит с веером; она скользит впереди него, подходя к императрице и указывая на графа.
«Граф отнял у меня веер, прижав меня к стене», – тихо говорит она, наклоняясь перед императрицею.
Императрица, смеясь, приняла от графа веер, слегка погрозив ему пальцем. Но тут же сидят старая графиня, ее дочери и невестка; они все смотрят на графа не очень милостиво. Граф обернулся было к Анне с упреком, но ее уже нет; она танцует с кавалером в белом кафтане, расшитом золотом; длинный шлейф ее бледно-голубого платья из тяжелого глазета быстро вьется вокруг нее, ее грациозная головка с маленьким розаном на завязанных вверху волосах мелькает между напудренными головами пожилых зрителей, толпой собравшихся по краям залы. Сделав несколько туров вальса, кавалер опустил на стул Анну, немного уставшую, на другом конце залы. А возле нее является другой старик, он медленно подвигается к ней на тонких, подгибающихся ногах, но все блестит на нем: шитье кафтана, звезды на груди и черные глаза, сохранившие жизнь на пожелтевшем, с морщинками лице. Но глаза живут, они кажутся еще чернее в сравнении с белою пудрою парика его и смотрят на Анну вкрадчиво и лукаво. «Боже мой, от них нет нигде спасенья!» – говорит про себя Анна. Но, к счастью, к ней подходит другой танцор, он увлекает ее в вальсе, а старик остается на месте, сердито топнув ногою вслед улетающей паре. Танцы продолжаются до света, императрица весела, она смеется и шутит, возвращаясь домой, в свою половину дворца. Она входит в свою опочивальню и, усталая, спешит освободиться от стесняющего ее наряда. Анна не уходит, исполняя ее приказания. Наконец она отпущена и спешит к себе; у ней весело на душе, она повеселилась, чувствует здоровую, естественную усталость и уснет крепко и спокойно.
Следующая неделя проходит тише, при дворе толкуют о короле прусском, канцлер часто просит аудиенции у императрицы. Она встречает его с серьезным лицом, и хотя, находясь у двери, Анна не слышит их разговора, но слышит голоса их; ей кажется, будто канцлер возражает и убеждает, по тону голоса императрицы слышно, что она недовольна и отвечает отрицательно. Канцлер выходит озабоченный. Государыня зовет Анну, чтобы докончить свой туалет, но ничем не остается довольна. День проходит без особенного оживленья.
На другой день, выходя на прогулку с другими фрейлинами, Анна видит канцлера, который вышел от великой княгини Екатерины; замечают, что граф Бестужев часто посещает и подолгу остается у ней в последнее время.
Анна также знает это, но она никому не передает своих замечаний намеренно, хотя часто еще способна проболтаться по привычному простодушию, если ее спрашивают о чем-либо. Фрейлины жалуются на однообразие этого дня, привыкнув к шумному веселью; в этой тишине чудится приближенье чего-то тревожного; все говорят о возможности войны.
Между тем Анна давно не получает вестей из дому, она начинает тревожиться и часто раздумывает о свадьбе сестры. «Ее роман застыл», – думает она; но и собственный роман начинает тревожить ее. Не слишком ли рано уверила она сестру, что дело идет на лад? Молодой танцор в богатом кафтане, расшитом золотом, только раз протанцевал с нею на балу у его высочества! А как много танцевал с другими, к ней подходил только поболтать, обращался он с нею свободнее и развязнее, чем с другими, – к добру ли это? После таких мыслей погода показалась Анне невыносимо дурна, прогулка же утомительна, и она пожелала вернуться во дворец, в свою комнату. В ее комнате, на полке с книгами, всегда был в запасе какой-нибудь французский роман, она брала читать его в такие минуты, когда ее томили сомнения насчет светлого будущего, которое она себе сочинила. Часто она читала рассеянно, не помня прочитанного, и начинала перечитывать ту же страницу сызнова, а мысли работали в стороне, перед ней проносились сцены бала. «Долго ли придется мне жить при дворе? – думает она. – И останется ли он в Петербурге, может быть, он уедет в армию? Неужели русские примут участие в войне?» В первый раз появилась у Анны охота читать газеты, чтобы знать, не грозят ли войной России, и не придется ли ей расстаться со своим поклонником. Но она узнает обо всем этом из общих толков, а чтенье газет выдаст, пожалуй, ее особенное участие к этому вопросу, когда наступит ее дежурство, она услышит все толки об этом вопросе! Остановясь на этом решении, она снова принимается читать роман и мало-помалу увлекается чтением; она находит особенное удовольствие в чтении французских книг. Французский язык и французские книги увлекают всех в Петербурге и при дворе, как и французские костюмы и убранство комнат в парижском вкусе. Дворец блистал французскими обоями, тяжелыми штофными занавесями, выписанными из Лиона, откуда выписывали и все дорогие материи для платьев. И частные лица, живущие в Петербурге, старались подражать роскоши придворной жизни и щедро рассыпали казну свою; и не одно состояние взлетало на воздух, а владельцы его отправлялись в дальние губернии, в свои вотчины, «чтоб экономию соблюдать и дела исправить». В начале царствования Елизаветы выходили указы от двора, которыми приказывалось «давать балы и маскарады тем из знатных лиц, которыми они в прошлом году не давались», но теперь уже не нужны были такие поощрения; маскарады, балы и ужины не прекращались и давались одни за другими то в том, то в другом знатном доме вельмож, и вина лились без конца: за один ужин выпивалось до 500 бутылок французских вин. Пить много давно вошло в обычай; обычай этот унаследован был от предков. Но при такой жизни все нуждались в деньгах и старались добывать их, не пренебрегая и не брезгая никакими путями. При вечном веселье и роскоши и сотни тысяч доходу не казались достаточными средствами. С европейским образованием привились и слабости европейского общества того времени; слепая страсть к роскоши и наслаждениям проникала в русское общество скорее других сторон цивилизации. Анне исстари еще приходилось все это по вкусу: и роскошь, и веселье, и поклонники, расшитые золотом!
«А где он? И что у него на уме?» – спрашивала она себя не один раз в день; но ей скоро пришлось узнать эту загадку.
Через несколько дней назначен был спектакль при дворе; давалась итальянская опера и потом пьеса Мольера. Спектаклей этих Анна ждала всегда как любимейшего праздника, они составляли высшее и самое утонченное наслаждение того века, среди пиров и кутежей.
Вечер спектакля наступил, собрались все, получившие приглашение от двора, кому разосланы были билеты, и зала спектакля мало-помалу наполнилась дамами в пышных придворных туалетах, блестящих шелковых платьях, с ожерельями из драгоценных каменьев; не менее богаты были костюмы кавалеров и мундиры гвардейцев. Шла пьеса Мольера. Анна, коротко освоившаяся с французским языком, наслаждалась, внимательно вслушиваясь в каждое слово длинных монологов и любуясь костюмами на сцене: высокими прическами молодых людей, игравших женские роли, и искусством, с которым они справлялись с длинными шлейфами своих платьев. Анна сидела в самом дальнем ряду кресел; пьеса уже подходила к концу и часто прерывалась сдержанным смехом и легкими аплодисментами публики в то время, когда кто-то занял место подле Анны и смело поставил ногу свою на ее атласный башмачок на высоком каблуке. Быстро обернув голову, Анна очутилась лицом к лицу со своим поклонником и танцором; она смотрела на него напряженным взглядом и с невольным немым вопросом, выражавшимся в этом взгляде. В блестящем золотом кафтане, расчесанный, раздушенный, поклонник ее был прекрасней, чем когда-либо, он смотрел на нее смело, открыто и не опуская глаз перед ее значительным взором.
– Вы хотите мне сообщить что-нибудь? – спросила, наконец, Анна простодушно и искренно, наклоняясь к нему, чтобы услышать то, что он собирался сказать ей, но в то же время с предчувствием чего-то недоброго и неиспытанного.
– Выйдите со мной из залы по окончании спектакля, когда начнется суматоха разъезда, мы выйдем на площадку лестницы, и я объясню то, что давно храню на сердце, – тихо проговорил «золотой» поклонник.
– Отчего же вы не скажете мне этого здесь и теперь же? – спросила, удивясь словам его, Анна.
Он пожал плечами, будто смеясь ее ответу.
– Выйдем сейчас, и я сообщу все теперь же.
– Нет, после… – пообещала Анна.
Кавалер ее оставался рядом с нею, он согласился ждать; но в лице его проглянуло выражение, такое странное и деспотическое, взгляд его был так резок, что присутствие человека, которого она так желала встретить, делалось ей жутко и неприятно. В смущении она уже не следила за пьесой, в ушах ее раздавались только аплодисменты.
– Встаньте скорее, пойдем за мною, – настойчиво просил ее «золотой» поклонник, вставая и останавливаясь взглянуть, идет ли она за ним?
Анна на минуту крепко сжала лоб свой одной рукою, закрыв глаза и стараясь понять в эту минуту, на что ей следовало решиться: пойти и узнать, что все это значило, – мелькнуло у нее в голове. Она встала и смело последовала за знакомым ей кавалером, он шел вперед, взглядом продолжая манить ее за собою. Она прошла незаметно сквозь толпу прислуги до выходной двери на лестницу дворца. Прислуга толпилась и проходила, не обращая на них внимания; спутник Анны крепко сжал ее руку, готовясь отворить другою рукою дверь, ведущую на лестницу; но она сильным порывом отвела его от двери.
– Говорите сейчас, что вы хотели сказать мне?.. – проговорила она, стараясь говорить спокойно.
– Увезти тебя хочу я! Идем же скорей!
– Увезти… Но куда же?.. – спрашивала Анна, едва скрывая испуг свой под притворным равнодушием.
– Не время расспрашивать, мы знаем давно, что мы любим друг друга, – говорил он, снова увлекая ее к двери, и она чувствовала, что он осилит и увлечет ее.
– Погодите минуту, моя шаль осталась там, – проговорила она, принимая намеренно тот же интимный тон, с которым он к ней относился, и, быстро высвободив руку, улыбаясь и давая ему знак стоять здесь и ждать ее, она в минуту вбежала снова в залу спектакля. Особенное счастье покровительствовало ей: она столкнулась почти у самой двери в залу с той самой статс-дамой, которая в первый раз представляла ее императрице.
– Прошу вас! Ради бога, – просила Анна с умоляющим жестом, – прошу вас: подойдите сюда на минуту.
– Что тут случилось? – спрашивала статс-дама, невольно следуя за нею сквозь толпу прислуги.
– Вот, вот он! – говорила ей Анна, указывая на растерявшегося поклонника. – Вот тот человек, который сделал мне сейчас предложение увезти меня! Он предложил это мне, фрейлине государыни и дочери заслуженного, честного человека! Будьте свидетельницею такого оскорбления! – докончила она, заливаясь слезами, между тем как ее поклонник, не оправдываясь, скользнул в дверь и исчез, спускаясь с лестницы.
– Успокойся, моя милая! Успокойся, опомнись! – говорила почтенная статс-дама, с участием взяв за руку Анну. – Бог защитил тебя, избавил от беды, а сердиться нечего! Молодой человек выпил где-нибудь через край, он известный шалун, и ему намоют голову по просьбе моей! А ты успокойся и оправься.
Анна пришла в себя настолько, что оправила волосы и вытерла слезы, чтоб вернуться в залу спектакля вместе со статс-дамой, своей избавительницей. Она выбрала самое дальнее место от двери, в ряду других фрейлин. Занавес уже поднимался вновь, перед началом итальянской оперы. Дивная музыка и увлекательные голоса целительно подействовали на Анну, хотя она все еще дрожала от испуга, а гнев истерически сжимал ей горло; она боялась снова расплакаться. Но, слушая пение, она успокоилась постепенно: совесть ее была спокойна, гордость была удовлетворена, – оскорбивший ее человек сам бежал в испуге. Ошибка ее была в любопытстве, с которым она последовала за ним. Тем лучше, что объяснилось теперь, какого рода чувство питал он к ней, – и роман окончен в самом начале; но она была сильно потрясена, и страстное пение итальянских певцов вызывало слезы на глазах ее; она скрывала их, вытирая одну за другою незаметно ни для кого. После спектакля она скрылась из залы, не желая участвовать в танцах и присутствовать при ужине, последовавшем за танцами. Удалясь в свою комнату, Анна под влияньем страха осмотрела все углы ее со свечою в руках и тогда только успокоилась, когда убедилась, что она одна. Усталая, ложась в постель, она взяла книгу, чтоб отвлечь мысли от всего с ней случившегося; но не могла сосредоточить внимания на книге. Она потушила свечу, но сон не приходил. С открытыми глазами ненапряженными нервами она лежала в постели с бессильно брошенными руками и бледным лицом. Ее богатый наряд, небрежно брошенный, лежал на соседнем стуле; на окне при слабом свете ночи блистали зеленые камни ее богатого ожерелья; а сама Анна, без всяких нарядов, похожа была на бабочку, сломившую свои блестящие крылышки; и никогда еще она не страдала так, как страдала теперь от вынесенного разочарования и оскорбленного чувства. И никогда еще, казалось ей, ночь не тянулась так долго до рассвета, когда ей удалось наконец забыться хотя некрепким сном. Проснувшись утром, она чувствовала себя несколько спокойнее.
Вчерашнее приключение не имело никаких последствий, и принявшая ее под свое покровительство статс-дама снова ее успокаивала. На дежурстве государыня ласково принимала ее услуги. Только сама Анна не могла забыть этого приключенья; оно заставило ее передумать о многом и изменило ее в короткое время. Она смотрела на все серьезней и холодно встречала ухаживанье новых поклонников на балах. Собственное положение ее при дворе, казалось ей, немного обещало, а будущее было неопределенно. Жалуясь на судьбу, она откровенно написала обо всем сестре Ольге, но от нее не было ответа, и не было писем от отца. Все это наполняло Анну тревогой за них и за себя.
Глава VII
Однообразно и тихо проходила зима на киевском хуторе сержанта Харитонова, невелика была семья его: он, Ольга и Афимья Тимофеевна проводили время втроем. Снег засыпал дороги, и редко навещали их даже ближайшие соседи. Сержант занимался хозяйством с помощью Ольги. Но с отъездом Анны не было уже прежнего одушевления в доме. Между сестрами слышался, бывало, веселый говор в их комнате, раздавались и песни, теперь в комнате их царствовала тишина. По утрам Ольга занята была шитьем в светлице Афимьи Тимофеевны; в светлице собирались все прислужницы, все так называвшиеся сенные девушки и под руководством Афимьи Тимофеевны составляли большую швейную. Во многих домах можно было найти тогда такие швейные, в которых толпа горничных занималась шитьем в пяльцах; они вышивали золотом и шелком, плели кружево и ткали ковры и доставляли значительный доход хозяину. Такую швейную завела и Афимья Тимофеевна и в эту зиму приготовляла запас белья в приданое для обеих дочерей сержанта. Анна, уезжая, просила сестру сшить все необходимое для приданого под ее собственным присмотром. Ольгу развлекало это занятие, она менее скучала, глядя на толпу молодых девушек, и спасала их иногда от излишней горячности Афимьи Тимофеевны. Ольга охотно слушала их песни и сокращала им часы работы; песни эти наводили тоску на самого разумного человека, по словам Афимьи Тимофеевны, но Ольге по душе приходилась их тихая грусть. Ольга невольно начинала задумываться к концу зимы, несмотря на всю свою твердость и терпение! Она не могла объяснить себе поведение Сильвестра, который ни разу не дал о себе вести и ни разу не навестил их зимою; он не исполнил обещания навестить их на Рождество. Правда, они должны были тщательно скрывать свою помолвку, и она условилась с ним не переписываться, чтоб кто-нибудь не перехватил писем их. Но Сильвестр имел случай передать свое письмо в верные руки, когда посылали за чем-нибудь в Киев людей с хутора; ни разу Сильвестр не позволил себе ни даже короткой записки к Ольге и не писал и к сержанту; он присылал им поклоны и благодарил за память о нем через посланных из хутора, передавая все на словах. Осторожность Сильвестра заходила дальше, чем было нужно, и начинала тяготить Ольгу. А Сильвестру? Ему легко было не получать о ней известий? Уж не было ли это нарочно наложенное на нее испытание? Во всяком случае ей открывалась новая черта в характере Сильвестра: это была черта отшельника, не привыкшего к свободной жизни, привыкшего приносить сурово в жертву свои чувства и чувства других, близких ему лиц. Голова Ольги постоянно работала над этою мыслию, и сами собою являлись и дальнейшие выводы; он приучил себя к лишениям, и ему не трудно отказать себе во всем. И может быть, он найдет причину отказаться от любви их и от данного ей слова! Когда в первый раз мысль эта пришла ей в голову – она обдала ее холодом. Но мало-помалу она свыклась с этой мыслию, она сама приобретала привычку отречения от личных желаний и радостей, хотя борьба шла не без страданий и начинала проявляться в наружности Ольги.