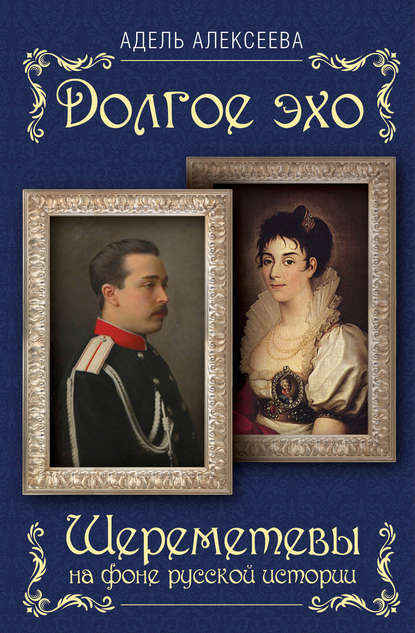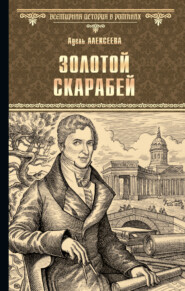По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Долгое эхо. Шереметевы на фоне русской истории
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В Риме Шереметева уже называли генералом, а за дипломатические речи – дипломатом. В Ватикане он делится давней мечтой – посетить остров Мальту. Папский нунций доносит: «Это довольно странное желание… Кто разгадает, какие мысли у этого человека? Похвалы его католической вере сомнительны».
И все же путь на Мальту его великому посольству открыт. В рыцарском замке Ла-Валетты Шереметеву был оказан торжественный прием – впервые человек из северной страны явился на сей остров, лежащий посреди Средиземного моря. «Роль сего острова в будущих войнах с турками, – говорил Петр, – зело велика».
Секретарь Шереметева Курбатов зарисовывал и записывал все о том путешествии: каков прием, какова крепость, стены ее. Записал он и слова магистра рыцарского ордена: «От сего знамени, висящего на хоругвях наших, враги Креста Господня и всего христианского мира впадают в страх и ударяются в бегство». Удачей стал визит на Мальту… Правда, на обратном пути корабль попал в «морской рокош» – поднялась буря великая, и с трудом удалось выбраться… А потом все стихло, море стало – как укрощенный зверь. Славно думалось, должно быть, в той тиши о новом ордене иоаннитов, или госпитальеров, который получил Шереметев. Заветы избранного ордена были близки православию, мыслям Дмитрия Ростовского о милосердии, о помощи бедным, больным и раненым…
Весьма успешным оказалось великое посольство Шереметева. Как только он вернулся в Москву – явился к государю, и опять у них состоялся разговор. Царь даже называл своего сподвижника почетным словом «боярд».
– Входи, входи, Борис Петрович! Отчет твой прочитал. Ха-ха-ха, да ты галант, генерал! Комплименты оказывал королям и дамам… Что скажешь?
– Думаю, теперь число сторонников наших, государь, прибавилось. Глядеть на нас будут с бо?льшим почтением… А я…
– Похвально! Зело благодарен тебе, Борис Петрович!
– Дипломатия – достойное занятие, – заметил Шереметев, намекая на то, что хорошо бы ему теперь служить по дипломатической части.
Петр хлопнул рукой по столу и отрезал:
– Дипломатия кончилась! Карл XII ведет себя дерзко! Воевать с ним станем!
Шереметев с трудом сохранил непроницаемое лицо:
– С Карлом? Да он же первый вояка в Европе, а мы… у нас нет ничего…
– Ничего? Прикажу – и все будет! Так и знай!
– Кабы не осрамиться…
– Не бывать тому! А тебе, Борис Петрович, быть генералом. Набирай конницу, пехоту. Михаил, сын твой, пусть командует артиллерией… Дворянских сынков – в дело! Вскорости наступать будем!
Шереметев с осторожностью заметил, мол, дворянские сынки воевать не научены, ленивы. Ополчение готовить надобно… Обмундирование худое, лошадей мало, рано воевать!
Только слово царское – как удар молота, как гром небес.
Новый XVIII век начался с войны, с единоборства молодого горячего Петра с еще более молодым Карлом XII, который захватил уже многие прибалтийские земли.
Первая встреча с царевичем
Новгород… То были первые, начальные месяцы войны со шведом. Выпала неделя затишья. Полки расквартированы по новгородским домишкам. Сам Шереметев стоял в Кремле. Как раз тогда Петр велел Меншикову привезти в Новгород Алексея, дабы приучался к воинскому делу.
Борис Петрович бродил по новгородским улочкам, любовался уютными, разбросанными всюду церквушками, ездил к Юрьеву монастырю, поражавшему суровостью и величием, конечно, бывал в Софийском соборе.
Всё напоминало здесь о древних русичах, возвышало душу. Славно дышалось. А в Софии Святой подолгу стоял возле иконы Петра и Павла. Всплывали картины Византии, родного Киева. Там учился он вместе с Даниилом Туптало (отец его Савва был из запорожских казаков), там был знаком с Иоанном Кроковским, ставшим митрополитом. Вместе учились они, вместе постигали заветы апостолов Петра и Павла. Шереметев обещал поклониться в Риме святым Петру и Павлу – и исполнил обещание… В Новгороде, глядя на одухотворенные, мужественные лица апостолов, на их одежды в синих и оливковых тонах, Шереметев набирался сил, каялся в прегрешениях, возносил хвалу Господу… В молитве не забывал и своего государя – царь годился ему в сыновья, однако уж признавали его великим: подобно богу Марсу, сдвигал российскую колесницу…
Раз, молясь в Новгородской Софии, Борис Петрович увидал высокого бледного отрока, лицо которого дышало необыкновенной страстностью, отрешенностью. Пригляделся – оказалось, царевич, только что прибыл. Вместе они вышли, остановились во дворе, под липами, долго говорили. С того дня – видно, чем-то расположил его к себе Шереметев – наследник то и дело наведывался в его штаб. Государь звал сына на передовую, понюхать пороху, но, не увидав старания, дал волю Борису Петровичу: мол, поучи мальца хоть какому делу.
Шереметев посылал царевича к Михаилу, к пушкам его и мортирам, но тот охотнее шел в конюшню, на псарню, а более всего его тянула охота. Хотя царь не любил и даже запрещал охоту, в один ясный осенний день отправились они все же на зайцев. Какая то была охота: через час-два зайцы словно ошалели от гона, преследуемые собаками, они кружили по полянам, уже не прячась в лесу… Как заливались гончие! Охотничий рог то и дело разрывал осеннюю тишину – стояла музыка, сладкая боярскому сердцу! Настреляли зайцев множество, Алексей голову терял от счастья. Однако, когда увидал связки убитых зайцев в руках егерей, капающую кровь, содрогнулся при виде смертельной добычи и более не глядел в ту сторону… Жалостлив, богобоязнен царевич…
Вечером возле костра как-то пустились в воспоминания о Москве, и отрок признался:
– Ежели бы знали вы, Борис Петрович, какая веселая жизнь в Кремле Московском! Там новую карлицу теперь привезли, такая она забавница, так всякому зверю подражать умеет!.. А в карты мы с ней, в дурачка да в акулину, до самой ночи играем… Какие мои учители? – отвечал он на вопрос Шереметева. – У меня один учитель Никифор Вяземский, да только я его не боюсь: ежели трудный урок задаст, так я его тут же на базар посылаю.
– На базар – учителя? Алексей Петрович, да ведь батюшка-то ваш где только не учился… И в Голландии, и в Германии, и у плотников, и у моряков… Денно и нощно трудится, чтобы наилучшего полководца Карла шведского разбить.
– А что хорошего – воевать-то? – отвечал Алексей.
– Побойся Бога, Алексей Петрович, кто ж войны хочет? Я тоже не люблю ее, да что поделаешь? Вон как Карла вознесся… Из-под Нарвы прогнал нас да еще и медаль велел отлить: на одной стороне царь наш возле пушки греется, а на другой – бежит от Нарвы, и шапка с головы валится.
– Вправду? Шапка… с головы валится? – захохотал отрок.
Шереметев нахмурился, а царевич замкнулся, побледнел. Эти переходы в лице его часты были и неожиданны. Как-то встретился – взъерошенный, угрюмый – и стал рассказывать про сон свой, про матушку, которая явилась к нему ночью:
– Где-то теперь моя матушка горемычная?.. Что делает в монастыре? Люблю я ее, Борис Петрович, а нынче во сне видал… Такая ласковая, гладит меня по волосам, прижимает, приговаривает: друг ты мой сердешный… А сама – ну прямо как Богоматерь Владимирская. – Тут он понизил голос до шепота: – И говорит: «Нету прощения твоему батюшке, не будет ни на том, ни на этом свете…» И так все это въяве, будто и не сон. К чему бы сие?..
Искренен царевич, мать любит, трудно его неокрепшей душе понять, за что сослана она в монастырь. Сокрушался тогда Шереметев, оттого что нет меж отцом и сыном лада, оттого что воспитатели отрока – бабки да няньки да карлицы, а отец всё в деле, у него главное – дочь Россия. Не раз в Новгороде звал Петр сына с собой на редуты, учил заряжать мортиры.
– Зажигай, – кричит, – Алёшка, пали в цель!
Тот зажигал фитиль, но ни разу не попал в цель.
– Ну-ка, – снова увлекал царь своими замыслами, – подумай, Алёшка, мыслимо ли фузею приспособить, чтобы она и для рукопашного боя годилась? Чтоб и порохом стреляла, и штык имела, а?..
Царевич глядел молча, отрешенно. Гибкий, как лоза, ростом он уже тогда тянулся за отцом, однако, кроме зайцев да лошадей, к которым приохотился, да еще к монашествующим, ни к чему не проявлял желания. И часто просился:
– Батюшка, отпустите к Борису Петровичу, у него конь новый, ногайский.
– Ногайский? – рассеянно повторял Петр и, махнув рукой, уходил.
Возле лошадей царевич и вправду воскресал, а когда садился на коня и скакал по новгородским просторам, то лицо его розовело, глаза сверкали отвагой и даже делался он подобен отцу…
Как-то – это было уже позднее – стояли близ монастыря. Много погибло тогда солдат в русской армии, и Петр распорядился разместить раненых в монастыре, велел превратить монастырь в госпиталь. Монахи пришли с челобитной, стали жаловаться.
Разгневанный Петр прогнал их, тогда они поклонились «большому царевичу», и тот заступился за них перед отцом. Петр чуть не поколотил сына, кричал: «Упрямство наших дурней не знает границ, а ты потакаешь им?! Лечить солдат надобно, а они?.. Не по-божески монахи ведут себя!»
Удивило выражение, застывшее в ту мину ту на лице Алексея, – смесь неколебимого упрямства и неприязни к отцу…
Таких встреч-разговоров с наследником у фельдмаршала набралось за годы немало. Уж не будет ли то поставлено ему в вину ныне, когда привезли сбежавшего за границу царевича?
Блудный сын под арестом
1718 год.
На Воздвиженке снова объявился Владимир Петрович Шереметев. И с ходу выпалил:
– В Петербург послано повеление Меншикову составить список лиц, с которыми часто виделся наследник!.. Царевич Алексей Петрович показал на Кикина, мол, тот уговаривал его бежать за границу!..
– Кикин, Александр Васильевич? – Граф покачал головой: – Значит, судьба его решена. А какого таланта человек, каким доверием пользовался у государя! Был дворецким, денщиком, камергером у Петра, учился с ним вместе на корабельных верфях, стал адмиралтейцем, всеми домашними делами ведал, и вот… Впрочем, однажды он уже провинился: вместе с Апраксиным, Головкиным, Меншиковым оказался замешан в государственных хищениях. И Петр бы казнил его, но умилостивила Екатерина: Кикина прилюдно высекли. Этого-то «дедушка», видно, не забыл, не оттого ли и принял сторону царевича?
– Насолить, значит, вздумал государю, – медленно проговорил Владимир Петрович.
И все же путь на Мальту его великому посольству открыт. В рыцарском замке Ла-Валетты Шереметеву был оказан торжественный прием – впервые человек из северной страны явился на сей остров, лежащий посреди Средиземного моря. «Роль сего острова в будущих войнах с турками, – говорил Петр, – зело велика».
Секретарь Шереметева Курбатов зарисовывал и записывал все о том путешествии: каков прием, какова крепость, стены ее. Записал он и слова магистра рыцарского ордена: «От сего знамени, висящего на хоругвях наших, враги Креста Господня и всего христианского мира впадают в страх и ударяются в бегство». Удачей стал визит на Мальту… Правда, на обратном пути корабль попал в «морской рокош» – поднялась буря великая, и с трудом удалось выбраться… А потом все стихло, море стало – как укрощенный зверь. Славно думалось, должно быть, в той тиши о новом ордене иоаннитов, или госпитальеров, который получил Шереметев. Заветы избранного ордена были близки православию, мыслям Дмитрия Ростовского о милосердии, о помощи бедным, больным и раненым…
Весьма успешным оказалось великое посольство Шереметева. Как только он вернулся в Москву – явился к государю, и опять у них состоялся разговор. Царь даже называл своего сподвижника почетным словом «боярд».
– Входи, входи, Борис Петрович! Отчет твой прочитал. Ха-ха-ха, да ты галант, генерал! Комплименты оказывал королям и дамам… Что скажешь?
– Думаю, теперь число сторонников наших, государь, прибавилось. Глядеть на нас будут с бо?льшим почтением… А я…
– Похвально! Зело благодарен тебе, Борис Петрович!
– Дипломатия – достойное занятие, – заметил Шереметев, намекая на то, что хорошо бы ему теперь служить по дипломатической части.
Петр хлопнул рукой по столу и отрезал:
– Дипломатия кончилась! Карл XII ведет себя дерзко! Воевать с ним станем!
Шереметев с трудом сохранил непроницаемое лицо:
– С Карлом? Да он же первый вояка в Европе, а мы… у нас нет ничего…
– Ничего? Прикажу – и все будет! Так и знай!
– Кабы не осрамиться…
– Не бывать тому! А тебе, Борис Петрович, быть генералом. Набирай конницу, пехоту. Михаил, сын твой, пусть командует артиллерией… Дворянских сынков – в дело! Вскорости наступать будем!
Шереметев с осторожностью заметил, мол, дворянские сынки воевать не научены, ленивы. Ополчение готовить надобно… Обмундирование худое, лошадей мало, рано воевать!
Только слово царское – как удар молота, как гром небес.
Новый XVIII век начался с войны, с единоборства молодого горячего Петра с еще более молодым Карлом XII, который захватил уже многие прибалтийские земли.
Первая встреча с царевичем
Новгород… То были первые, начальные месяцы войны со шведом. Выпала неделя затишья. Полки расквартированы по новгородским домишкам. Сам Шереметев стоял в Кремле. Как раз тогда Петр велел Меншикову привезти в Новгород Алексея, дабы приучался к воинскому делу.
Борис Петрович бродил по новгородским улочкам, любовался уютными, разбросанными всюду церквушками, ездил к Юрьеву монастырю, поражавшему суровостью и величием, конечно, бывал в Софийском соборе.
Всё напоминало здесь о древних русичах, возвышало душу. Славно дышалось. А в Софии Святой подолгу стоял возле иконы Петра и Павла. Всплывали картины Византии, родного Киева. Там учился он вместе с Даниилом Туптало (отец его Савва был из запорожских казаков), там был знаком с Иоанном Кроковским, ставшим митрополитом. Вместе учились они, вместе постигали заветы апостолов Петра и Павла. Шереметев обещал поклониться в Риме святым Петру и Павлу – и исполнил обещание… В Новгороде, глядя на одухотворенные, мужественные лица апостолов, на их одежды в синих и оливковых тонах, Шереметев набирался сил, каялся в прегрешениях, возносил хвалу Господу… В молитве не забывал и своего государя – царь годился ему в сыновья, однако уж признавали его великим: подобно богу Марсу, сдвигал российскую колесницу…
Раз, молясь в Новгородской Софии, Борис Петрович увидал высокого бледного отрока, лицо которого дышало необыкновенной страстностью, отрешенностью. Пригляделся – оказалось, царевич, только что прибыл. Вместе они вышли, остановились во дворе, под липами, долго говорили. С того дня – видно, чем-то расположил его к себе Шереметев – наследник то и дело наведывался в его штаб. Государь звал сына на передовую, понюхать пороху, но, не увидав старания, дал волю Борису Петровичу: мол, поучи мальца хоть какому делу.
Шереметев посылал царевича к Михаилу, к пушкам его и мортирам, но тот охотнее шел в конюшню, на псарню, а более всего его тянула охота. Хотя царь не любил и даже запрещал охоту, в один ясный осенний день отправились они все же на зайцев. Какая то была охота: через час-два зайцы словно ошалели от гона, преследуемые собаками, они кружили по полянам, уже не прячась в лесу… Как заливались гончие! Охотничий рог то и дело разрывал осеннюю тишину – стояла музыка, сладкая боярскому сердцу! Настреляли зайцев множество, Алексей голову терял от счастья. Однако, когда увидал связки убитых зайцев в руках егерей, капающую кровь, содрогнулся при виде смертельной добычи и более не глядел в ту сторону… Жалостлив, богобоязнен царевич…
Вечером возле костра как-то пустились в воспоминания о Москве, и отрок признался:
– Ежели бы знали вы, Борис Петрович, какая веселая жизнь в Кремле Московском! Там новую карлицу теперь привезли, такая она забавница, так всякому зверю подражать умеет!.. А в карты мы с ней, в дурачка да в акулину, до самой ночи играем… Какие мои учители? – отвечал он на вопрос Шереметева. – У меня один учитель Никифор Вяземский, да только я его не боюсь: ежели трудный урок задаст, так я его тут же на базар посылаю.
– На базар – учителя? Алексей Петрович, да ведь батюшка-то ваш где только не учился… И в Голландии, и в Германии, и у плотников, и у моряков… Денно и нощно трудится, чтобы наилучшего полководца Карла шведского разбить.
– А что хорошего – воевать-то? – отвечал Алексей.
– Побойся Бога, Алексей Петрович, кто ж войны хочет? Я тоже не люблю ее, да что поделаешь? Вон как Карла вознесся… Из-под Нарвы прогнал нас да еще и медаль велел отлить: на одной стороне царь наш возле пушки греется, а на другой – бежит от Нарвы, и шапка с головы валится.
– Вправду? Шапка… с головы валится? – захохотал отрок.
Шереметев нахмурился, а царевич замкнулся, побледнел. Эти переходы в лице его часты были и неожиданны. Как-то встретился – взъерошенный, угрюмый – и стал рассказывать про сон свой, про матушку, которая явилась к нему ночью:
– Где-то теперь моя матушка горемычная?.. Что делает в монастыре? Люблю я ее, Борис Петрович, а нынче во сне видал… Такая ласковая, гладит меня по волосам, прижимает, приговаривает: друг ты мой сердешный… А сама – ну прямо как Богоматерь Владимирская. – Тут он понизил голос до шепота: – И говорит: «Нету прощения твоему батюшке, не будет ни на том, ни на этом свете…» И так все это въяве, будто и не сон. К чему бы сие?..
Искренен царевич, мать любит, трудно его неокрепшей душе понять, за что сослана она в монастырь. Сокрушался тогда Шереметев, оттого что нет меж отцом и сыном лада, оттого что воспитатели отрока – бабки да няньки да карлицы, а отец всё в деле, у него главное – дочь Россия. Не раз в Новгороде звал Петр сына с собой на редуты, учил заряжать мортиры.
– Зажигай, – кричит, – Алёшка, пали в цель!
Тот зажигал фитиль, но ни разу не попал в цель.
– Ну-ка, – снова увлекал царь своими замыслами, – подумай, Алёшка, мыслимо ли фузею приспособить, чтобы она и для рукопашного боя годилась? Чтоб и порохом стреляла, и штык имела, а?..
Царевич глядел молча, отрешенно. Гибкий, как лоза, ростом он уже тогда тянулся за отцом, однако, кроме зайцев да лошадей, к которым приохотился, да еще к монашествующим, ни к чему не проявлял желания. И часто просился:
– Батюшка, отпустите к Борису Петровичу, у него конь новый, ногайский.
– Ногайский? – рассеянно повторял Петр и, махнув рукой, уходил.
Возле лошадей царевич и вправду воскресал, а когда садился на коня и скакал по новгородским просторам, то лицо его розовело, глаза сверкали отвагой и даже делался он подобен отцу…
Как-то – это было уже позднее – стояли близ монастыря. Много погибло тогда солдат в русской армии, и Петр распорядился разместить раненых в монастыре, велел превратить монастырь в госпиталь. Монахи пришли с челобитной, стали жаловаться.
Разгневанный Петр прогнал их, тогда они поклонились «большому царевичу», и тот заступился за них перед отцом. Петр чуть не поколотил сына, кричал: «Упрямство наших дурней не знает границ, а ты потакаешь им?! Лечить солдат надобно, а они?.. Не по-божески монахи ведут себя!»
Удивило выражение, застывшее в ту мину ту на лице Алексея, – смесь неколебимого упрямства и неприязни к отцу…
Таких встреч-разговоров с наследником у фельдмаршала набралось за годы немало. Уж не будет ли то поставлено ему в вину ныне, когда привезли сбежавшего за границу царевича?
Блудный сын под арестом
1718 год.
На Воздвиженке снова объявился Владимир Петрович Шереметев. И с ходу выпалил:
– В Петербург послано повеление Меншикову составить список лиц, с которыми часто виделся наследник!.. Царевич Алексей Петрович показал на Кикина, мол, тот уговаривал его бежать за границу!..
– Кикин, Александр Васильевич? – Граф покачал головой: – Значит, судьба его решена. А какого таланта человек, каким доверием пользовался у государя! Был дворецким, денщиком, камергером у Петра, учился с ним вместе на корабельных верфях, стал адмиралтейцем, всеми домашними делами ведал, и вот… Впрочем, однажды он уже провинился: вместе с Апраксиным, Головкиным, Меншиковым оказался замешан в государственных хищениях. И Петр бы казнил его, но умилостивила Екатерина: Кикина прилюдно высекли. Этого-то «дедушка», видно, не забыл, не оттого ли и принял сторону царевича?
– Насолить, значит, вздумал государю, – медленно проговорил Владимир Петрович.