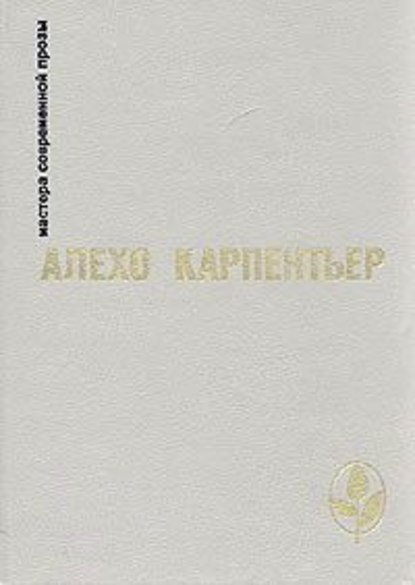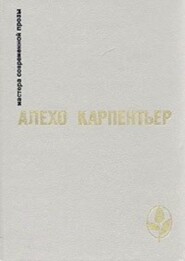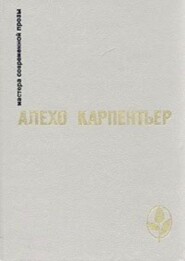По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Век просвещения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Некоторые острова были очень узкие, и Эстебан, стараясь забыть о том, что происходило вокруг, в одиночестве отправлялся на противоположный берег, где чувствовал себя полновластным господином: ему безраздельно принадлежали раковины, в которых шумел прилив; принадлежали ему и морские черепахи с топазовыми панцирями, – они прятали свои яйца в ямках, вырытых в песке, а затем старательно закапывали их и разравнивали теплый песок чешуйчатыми лапами; принадлежали Эстебану и великолепные синие камни, которые сверкали на девственных песчаных отмелях, где никогда не ступала нога человека. Принадлежали ему также и пеликаны, совсем не боявшиеся людей, – ведь они их почти не знали; птицы эти степенно летали над лоном вод: важность им придавал раздутый кожистый мешок, они то резко взмывали вверх, то камнем обрушивались вниз, вытянув вперед клюв, на который давила вся тяжесть тела, и сложив крылья, чтобы ускорить свой стремительный полет. Заглотав добычу, пеликан с торжеством вскидывал голову и начинал весело шевелить хвостовыми перьями в знак удовольствия, словно вознося к небу благодарственную молитву, после чего продолжал над самым морем волнообразный полет, который повторял движение морских валов, подобно тому как его повторяли головокружительные прыжки дельфинов. Сбросив с себя одежду, Эстебан растягивался на песке, таком мелком, что самое крохотное насекомое оставляло на нем следы своих лапок: юноше чудилось, будто он один в целом мире, и он весь уходил в созерцание светящихся, почти неподвижных облаков, которые так медленно меняли свою форму, что порою с утра до вечера походили все на ту же самую триумфальную арку или на голову пророка. Полное счастье вне времени и пространства! «Те Deum…» В другой раз, касаясь подбородком свежего листа винограда, он, не отводя глаз, наблюдал за улиткой – одной улиткой, которая высилась, точно памятник, на уровне его бровей, закрывая собою горизонт. Улитка как бы служила посредником между всем изменчивым, ускользающим, текучим, между всем тем, что не подчинялось точным законам и не могло быть измерено, и землею с ее четкими линиями, кристаллической структурой и строгим чередованием явлений, землею, где все можно было ощупать и взвесить. Море, покорное лунным циклам, переменчивое, спокойное или яростное, клубящееся или гладкое, как зеркало, но по природе своей словно бы чуждое коэффициентам, теоремам и уравнениям, породило эти поразительные панцири, которые своими пропорциями и очертаниями символизируют именно то, чего недостает Матери-Земле. В раковине улитки содержатся в зародыше различные сочетания кривых и завитков, подчиненных законам геометрии, конические фигуры удивительной точности, равновесие объемов, почти осязаемые арабески, в них уже угадывается вся причудливая прихотливость барокко. Наблюдая за улиткой – одной улиткой, – Эстебан думал о том, что на протяжении долгих тысячелетий перед взором первобытных народов, живших рыбною ловлей, постоянно находилась спираль, но они еще не способны были не только постичь ее форму, но даже и осознать ее присутствие. Он созерцал похожего на шар морского ежа, спиралевидную раковину моллюска, желобки на раковине святого Иакова и поражался богатству и изощренности Творения форм, открытых невидящему взору человечества, которое не способно было осмыслить то, что представало его глазам. «Верно, и ныне многое вокруг меня приняло четкие и определенные формы, но я не могу постичь их смысл!» – думал Эстебан. Какой знак, какая мысль, какое предупреждение таится в завитках цикория, в немом языке мхов, в строгой форме плода миртового дерева? Созерцать улитку. Одну улитку… Те Deum…
XXV
Когда в первый раз была объявлена боевая тревога, Эстебан не на шутку перепугался и поспешил укрыться в глубине трюма, – положение письмоводителя позволяло ему это; однако вскоре он обнаружил, что каперство – как его понимал командующий эскадрой капитан Бартелеми – в общем-то не было связано с серьезными опасностями. Когда маленькая флотилия встречалась с кораблем, на борту которого стояли мощные орудия, она обходила его стороной, не поднимая флага Республики. Если же захват судна казался делом доступным, легкие суденышки преграждали путь кораблю, а бриг давал предупредительный выстрел. И обычно противник без сопротивления спускал флаг в знак сдачи. Корабли эскадры вплотную подходили к судну, французы прыгали на его палубу и начинали осматривать груз. Если он не представлял большой ценности, корсары забирали все, что имело Для них интерес – не исключая денег и личных вещей перепуганного экипажа, – и переносили на борт брига «Друг народа» то, что могло им пригодиться. После этого униженный капитан вновь получал право командовать судном и продолжал свой путь или возвращался обратно в порт, чтобы сообщить о случившейся беде. Если же груз представлял серьезную ценность, то корсарам надлежало захватить его заодно с кораблем, – особенно когда корабль был в хорошем состоянии, – и отвести вражеское судно вместе с его командой в Пуэнт-а-Питр. Однако до сих пор небольшой эскадре капитана Бартелеми, трофеи которой старательно подсчитывал Эстебан, еще ни разу не пришлось столкнуться с таким кораблем. В этих местах нечасто встречались крупные торговые суда, здешние воды обычно бороздили небольшие парусники, груженные дешевыми товарами, которые никого не занимали. Корсары не затем покинули Гваделупу, чтобы охотиться за сахаром, кофе и ромом, – всего этого и там было в избытке. Однако даже на самых ветхих и убогих судах французы находили для себя поживу: якорь, оружие, порох, плотничий инструмент, канаты, новую карту с полезными пометками – для плавания вдоль побережья Новой Гранады [87 - Новая Гранада – основанное в 1717 г. испанское вице-королевство, в границы которого входили территории современного Эквадора, Колумбии и части Венесуэлы. Следовательно, корабли курсировали вдоль северных берегов Южной Америки, в Карибском море.]. Кроме того, хорошенько порывшись в сундуках и укромных углах, корсары выискивали для себя и другую добычу. Один забирал две хорошие сорочки и нанковые панталоны, второй – табакерку из эмали или украшенную драгоценными камнями церковную чашу – достояние священника из Картахены; корсары грозились выбросить его за борт, если он не отдаст им «всю обедню» – другими словами, крест и дароносицу, обычно золотые. То были, так сказать, личные трофеи, а потому они не попадали в опись Эстебана, – капитан Бартелеми закрывал на это глаза, так как не желал ссориться со своими людьми, зная, что во времена Республики при столкновении с матросами в проигрыше неизменно оставался офицер, особенно если он, как сам Бартелеми, прежде служил в королевском флоте. Вот почему корма брига «Друг народа» постепенно превратилась в подобие рынка, где происходили купля и обмен различных предметов, разложенных на ящиках или подвешенных на веревках; когда маленькая флотилия бросала якорь в какой-нибудь бухте, чтобы запастись дровами, матросы с «Декады» или «Аврала» являлись на бриг, нередко прихватив с собой вещи для продажи. Чего тут только не было: наряду с платьем, шапками, поясами и косынками встречались черепаховые ларцы для мощей; гаванские халаты с пышными кружевными оборками; ореховая скорлупа, в которой умещался целый свадебный кортеж миниатюрных фигурок в мексиканских нарядах; высушенные рыбы, из пасти которых вместо языка выглядывал кусочек красного атласа; набитые соломой чучела маленьких кайманов; человечки из кованого железа, пляшущие озорной танец кандомбе; шкатулки из ракушек; птицы из леденцов; кубинские и венесуэльские трехструнные гитары; возбуждающие зелья, настоянные на ослиннике или на знаменитых лианах, растущих в Сен-Доменге; было тут множество предметов женского туалета – серьги, ожерелья из стеклянных бус, нижние юбки, набедренные повязки индеанок, а также локоны, перехваченные лентами, изображения голых женщин, непристойные гравюры и даже кукла, наряженная пастушкой: под ее юбками скрывалось миниатюрное шелковистое лоно, выполненное с таким искусством, что все просто диву давались. Владелец куклы заломил за нее неслыханную цену, и матросы, которым она оказалась не по карману, называли его мошенником; Бартелеми, опасаясь, как бы дело не дошло до драки, приказал своему второму помощнику купить фигурку, намереваясь преподнести ее в дар Виктору Югу, – после 9 термидора тот на глазах у всех читал непристойные книги, быть может, желая этим подчеркнуть, что политика Парижа перестала его занимать…
Но однажды матросы эскадры особенно обрадовались: пустившись в погоню за португальским кораблем «Ласточка» и захватив его, они обнаружили внушительный груз спиртного, – в трюмах было столько бочек с белым и красным вином, а также с мадерой, что там пахло, как в давильне. Эстебан поспешил переписать все бочки, чтобы таким образом спасти их содержимое от неутолимой жажды корсаров, которые уже успели завладеть несколькими бочонками и торопливо, захлебываясь, пили вино. Укрывшись в темном прохладном трюме, куда не доносился шум споров и ссор, письмоводитель пил в полном одиночестве из вместительной чаши красного дерева, – он прикасался губами к плотной и свежей древесине, как прикасаются к живой плоти, и аромат, исходивший от чаши, смешивался с запахом вина. Во Франции Эстебан научился смаковать чудесный и древний сок земли: этот сок, струившийся из сосков виноградных лоз, вспоил буйную и пышную средиземноморскую цивилизацию – теперь же цивилизация эта продолжалась в Карибском Средиземноморье, где все еще происходило Великое Смешение народов, начавшееся много тысячелетий назад в приморских странах. Здесь, после долгого периода разобщенности, вновь скрещивались расы, различные говоры и физические типы, вновь встречались потомки затерянных по всему свету племен: на протяжении веков они многократно смешивались друг с другом, цвет их кожи не раз менялся, в одно прекрасное утро она светлела и за одну лишь ночь вновь темнела, возвращаясь к прежнему; бесконечно менялись черты их лица, звук голоса, линии тела; такие же перемены происходили и с вином, которое с финикийских кораблей, из погребов Гадеса, из амфор Маркое Сестиос попало на каравеллы человека, открывшего Америку, – оно попало на эти каравеллы вместе с гитарой и трещоткой, чтобы достичь гостеприимных берегов, где должна была произойти трансцендентальная встреча Оливы и Маиса. Вдыхая запах, поднимавшийся от влажной чаши, Эстебан с внезапным волнением вспоминал старинные патриархальные бочки, стоявшие на складе в Гаване, теперь забытом и таком далеком от его нынешних путей, на складе, где вино капало из кранов с тем же размеренным звуком, какой он слышал сейчас вокруг. И вдруг нелепость жизни, которую он все это время вел, с такой ясностью представилась молодому человеку, – он как бы находился в театре, где разыгрывалось нелепое действо, – что Эстебан прислонился к переборке и застыл в оцепенении, с остановившимся взором, словно с изумлением созерцал самого себя на сцене. Все последнее время море, жизнь, полная приключений и опасностей, почти заглушали в нем его собственное «я», – он испытывал чисто животное удовлетворение, чувствуя себя с каждым днем все более здоровым и сильным. Но теперь, взглянув на себя со стороны, он увидел, что стоит среди бочек с вином в еще вчера незнакомом ему трюме и тщетно пытается понять, что же он, собственно, тут делает. Он искал путь, в котором ему было отказано. Он ждал случая, которому, видно, так и не суждено было представиться. Отпрыск богатой семьи, он исполнял обязанности письмоводителя на корабле корсаров – и само название этой должности звучало нелепо. Не считаясь узником, он оказался им на деле, так как судьба его была отныне связана со страною, против которой боролся весь мир. Словно в кошмарном сне, Эстебан видел самого себя на сцене, где он будто спал наяву, одновременно играя роль судьи и ответчика, будучи сразу и действующим лицом, и зрителем; и все это происходило вблизи островов, походивших на тот единственный остров, куда он не мог попасть; возможно, он обречен всю остальную жизнь вдыхать запахи своего детства, встречать дома, деревья, видеть восходы и закаты, какие он видел в отрочестве (о, эти оранжевые стены, синие двери, гранатовые плоды, свисающие через ограду!), и при этом понимать, что все то, чем он владел в детстве и юности, уже никогда не будет ему возвращено… Однажды вечером в их доме раздался грохот большого дверного молотка, послуживший сигналом к демоническим событиям, – они сразу перевернули жизнь трех человек, которые до той поры были одной семьей; все началось с игры: ее участники тревожили могильный покой Ликурга и Муция Сцеволы; затем возникли кровавые трибуналы, вихрь событий охватил город, остров, несколько островов, целое море, и теперь воля Одного человека, ставшего душеприказчиком Другого человека, которого заставили навеки замолчать, грозно нависала над жизнями многих людей. С того дня, когда появился Виктор Юг, – о нем знали тогда только то, что он ходит с зеленым зонтиком, – юноша, который стоял сейчас посреди бочек и бочонков, перестал принадлежать самому себе: отныне его существование, его будущее полностью зависело от чужой воли… А потому лучше всего было пить, чтобы винные пары затуманили беспощадную ясность сознания, столь мучительную в эту минуту, что ему хотелось кричать. Эстебан подставил чашу под кран и наполнил ее до краев. Наверху матросы вновь подхватили хором песню «Три пушкаря из Оверни».
На следующий день французы высадились на пустынном, поросшем лесом берегу, где, по словам лоцмана с брига «Друг народа», было много диких кабанов; лоцман, сын негра и индеанки, уроженец острова Мари-Галант, пользовался у матросов авторитетом, так как превосходно знал эти места. Он советовал пристать к берегу, где били студеные ключи, – в них можно будет охладить вино, достойной закуской к которому послужит копченая свинина. Вскоре охота была уже в полном разгаре, и некоторое время спустя убитые животные, чьи пятачки все еще были судорожно сжаты, как у всех загнанных кабанов, попали в руки корабельного кока и его помощников. Вооружась ножами для чистки рыбы, повара содрали со свиней черную щетинистую кожу, уложили туши на решетчатые жаровни с раскаленными углями, и пока кабаньи спины зарумянивались на огне, их распоротые животы были широко растянуты деревянными колышками. Затем в эти зияющие отверстия, будто мелкий дождь, заструился сок лимона и померанца, градом посыпались соль, перец, душица и чеснок; в то же самое время над толстым слоем зеленых листьев гуайявы, уложенных на пылающие угли, потянулись завитки белого дыма, пахнущего свежестью полей, – казалось, будто свиное мясо окропляют сверху и снизу; поджариваясь, оно покрывалось тонкой корочкой бурого цвета, которая время от времени лопалась с сухим треском; из длинных трещин жир капал на дно ямы под жаровней, он шипел на углях, вспыхивал искорками, и сама земля издавала запах копченой свинины. Когда кабаны были почти готовы, их открытое чрево набили перепелками, лесными голубями, цесарками и другими только что ощипанными птицами. После этого колышки, державшие края распоротых свиных животов, были убраны, и ребра зажаренных животных сомкнулись над дичью, образовав как бы гибкие духовки, стенки которых сдавили содержимое, так что темное и постное мясо перемешалось со светлым и жирным; словом, как выразился Эстебан, получилось «знатное жаркое» – настоящая «Песнь песней» поварского искусства. Вино текло рекой в чаши и в глотки, – захмелев, матросы разбивали бочки ударами топоров, сбрасывали их со склонов, и, натыкаясь на острые камни, бочки разваливались; выстроившись двумя шеренгами друг против друга, люди яростно катали бочки взад и вперед, пока не лопались обручи, разбивали в щепы, дырявили их выстрелами, а какой-то незадачливый танцор, женоподобный и щуплый, кажется, испанец, плававший на судне «Декада» младшим коком, – по его словам, он был другом свободы, – так усердно отплясывал на бочках цыганский танец, что продавил несколько днищ; все очень много выпили и в конце концов уснули мертвым сном под деревьями или прямо на песке, еще хранившем тепло солнечных лучей…
Пробудившись на заре и с трудом расправив ноющее тело, Эстебан заметил, что на берегу уже собралось много матросов; они с удивлением смотрели на корабли, которых теперь оказалось пять, считая и «Ласточку». Вновь прибывшее судно было очень старым и ветхим, фигурное украшение на его носу было наполовину разбито, краска на шканцах выцвела и облупилась, – казалось, что этот корабль явился из былых времен, что он принадлежал людям, которые все еще верили, будто там, где кончается Атлантический океан, начинается Море мрака. Вскоре от его обветшалого борта отвалила лодка, в ней было несколько полуголых негров; они гребли стоя, подбадривая себя гортанными криками, как это делают гребцы, поднимающиеся вверх по течению реки. Один из них, видимо, вождь, выпрыгнул на берег и, отвешивая низкие поклоны, которые можно было счесть проявлением дружбы, обратился к негру-коку на каком-то диалекте: кок, уроженец Калабара, с трудом понимал пришельца. В результате этого диалога, участники которого объяснялись не столько словами, сколько жестами, кок выяснил, что старое судно – испанский невольничий корабль, его экипаж взбунтовавшиеся рабы сбросили в море, и теперь они отдают себя под покровительство французов. На всем побережье Африки было уже известно, что Французская республика отменила рабство в своих американских колониях и негры стали там свободными гражданами. Капитай Бартелеми обменялся рукопожатием с вожаком негров и вручил ему трехцветную кокарду; бывшие невольники встретили это восторженными криками, а кокарда стала переходить из рук в руки. Между тем лодка все перевозила и перевозила на берег негров, самые же нетерпеливые добирались вплавь, спеша узнать новости. И внезапно, будучи не в силах сдержаться, негры набросились на остатки жареного кабана – они глодали кости, проглатывали остатки потрохов, вылизывали застывший жир, спеша утолить невыносимый голод, терзавший их уже несколько недель.
– Бедняги, – пробормотал Бартелеми, и на глазах у него выступили слезы. – Уже одно это может искупить множество наших грехов.
Растроганный Эстебан наполнял вином свою чашу и протягивал ее вчерашним рабам, которые благодарно целовали ему руки. Второй помощник капитана брига «Друг народа» надумал произвести осмотр невольничьего корабля; вернувшись, он рассказал, что там полным-полно женщин, они забились в кубрики и трюм: несчастные дрожат от страха, не зная, что происходит на суше. Осторожный Бартелеми запретил высаживать их на берег. На корабль отправили шлюпку с мясом, галетами, бананами и бочонком вина; матросы между тем вновь стали готовиться к прерванной накануне охоте на диких кабанов. На следующий день эскадра должна была возвратиться в Пуэнт-а-Питр вместе с захваченным ею португальским судном и добытыми за это время товарами, грузом вина и неграми, которым предстояло пополнить ряды ополчения, набиравшегося из цветных: воинство это постоянно нуждалось в рабочих руках, – Виктор Юг без конца возводил укрепления, видя в них надежную гарантию своей власти. К вечеру опять возобновилось пиршество, но теперь оно носило иной характер, чем накануне. По мере того как вино кружило головы матросам, они все больше интересовались оставшимися на судне женщинами – с берега было видно, как сверкают в лучах заходящего солнца жаровни, и с корабля доносились взрывы женского смеха. Все расспрашивали матросов, побывавших на борту невольничьего судна, выпытывали у них все новые и новые подробности. Негритянки были молодые, привлекательные и хорошо сложенные – старухами работорговцы не интересовались, Так как на них не было спроса. Винные пары сгущались, и описания становились все более зажигательными: «Y'en a avec des fesses comme c,a… Y'en a qui sont a poil… Y'en a une surtout…» [88 - «Есть там такие толстозадые… И совсем голые… А уж особенно одна…» (искаж.франц.)] И тут десять, двадцать, тридцать матросов кинулись к лодкам и стали грести по направлению к ветхому судну, не обращая внимания на крики капитана Бартелеми, который тщетно пытался их задержать. Негры перестали есть, повскакали со своих мест и начали в тревоге размахивать руками. Вскоре на берег доставили первых негритянок – заплаканных, умоляющих, как видно, не на шутку перепуганных; однако они не сопротивлялись матросам, тащившим их в ближайшие кусты, в то время как остальные моряки провожали их жадными взглядами. Офицеры обнажили шпаги, но никто не обращал на них внимания… Царила невообразимая суматоха. На сушу прибывали все новые и новые группы женщин, они в испуге метались по берегу, спасаясь от матросов. Желая помочь капитану Бартелеми, который до хрипоты бранился, сыпал проклятьями и угрозами, ни на кого не производившими впечатления, негры похватали колья и набросились на белых. Завязалась жестокая схватка, люди катались по песку, колотили и топтали друг друга; более сильный приподнимал своего противника над землей и швырял его на каменистый берег; некоторые в пылу борьбы, сцепившись, падали в море, и каждый пытался потопить другого, удерживая его голову под водой. В конце концов негров загнали в скалистое ущелье и связали цепями и веревками, найденными на невольничьем корабле. Испытывая чувство отвращения, Бартелеми возвратился на бриг «Друг народа», предоставив матросам предаваться оргии. Эстебан, предусмотрительно запасшийся влажным брезентом – он обычно расстилал его поверх нагретого за день песка, – увел одну из негритянок в укромную, поросшую сухим лишайником лощинку, которую он обнаружил среди утесов. То была совсем юная девушка; поняв, что она избавилась от более тяжких испытаний, негритянка покорно подчинилась ему и принялась разматывать рваное полотнище, покрывавшее ее тело. Соски на ее упругой груди были густо выкрашены охрой; затем взору Эстебана предстали ее лоснящиеся твердые и мускулистые бедра… Над островом звучал приглушенный хор голосов, можно было различить взрывы смеха, восклицания, шепот, а порою все покрывал хриплый рев, точно где-то неподалеку стонал в своем логове раненый зверь. Время от времени доносился шум ссоры; должно быть, несколько матросов бранились из-за обладания одной и той же женщиной. Эстебану показалось, будто он вновь ощутил запах, гладкость кожи, почувствовал дыхание и жесты женщины, которая некогда, неподалеку от арсенала в Гаване, заставила его впервые испытать сладостную дрожь, пронзавшую все тело. Той ночью островом безраздельно владел Приап. Мужчины и женщины превратились в жрецов и жриц этого божества, они истово совершали обряд в его честь, все вместе возносили ему молитвы; в эти часы они не знали удержу, не признавали ни власти, ни закона… На заре громко запели фанфары, и капитан Бартелеми, твердо решивший вновь укрепить свою власть, приказал всем немедленно вернуться на корабли. Тот, кто задержится на острове, там и останется! Между капитаном и матросами вновь вспыхнул спор, – люди хотели сохранить «своих» негритянок, говоря, что это их личная и законная добыча. Командующий эскадрой успокоил матросов, торжественно пообещав вернуть им женщин по прибытии в Пуэнт-а-Питр. Только там – и не раньше – бывшие рабы будут освобождены с соблюдением всех необходимых формальностей и станут французскими гражданами. Негры и негритянки возвратились на свое судно, и эскадра двинулась в обратный путь… Однако вскоре Эстебан, который за последнее время научился довольно хорошо определять направление, – помимо всего прочего, он приобрел и некоторый опыт в навигации, – заметил, что корабли идут не к острову Гваделупа, а отклоняются несколько в сторону от него. Выслушав письмоводителя, капитан Бартелеми нахмурил брови.
– Оставьте свое открытие для себя, – проворчал он. – Вы отлично понимаете, что я не могу выполнить обещание, которое дал этим разбойникам. То был пагубный пример. Да и комиссар ничего подобного не потерпит. Мы держим курс на один из принадлежащих Голландии островов, где продадим негров.
Эстебан растерянно уставился на него и напомнил Бартелеми о существовании декрета, уничтожившего рабство. Ничего не ответив, капитан вытащил из ящика стола пачку инструкций, написанных рукою самого Виктора Юга: «Франция, исходя из своих демократических принципов, не может заниматься работорговлей. Однако капитанам корсарских кораблей предоставляется право – если они найдут это необходимым или уместным – продавать в голландских портах рабов, захваченных у англичан, испанцев и прочих врагов Республики».
– Но ведь это низость! – воскликнул Эстебан. – Выходит, мы запретили у себя работорговлю для того, чтобы сбывать невольников другим народам?
– Я следую письменным указаниям, – сухо ответил Бартелеми. И, словно чувствуя, что должен привести какой-то неоспоримый довод, он прибавил: – Мы живем в нелепом мире. Незадолго до революции в здешние гавани нередко заходило невольничье судно, принадлежавшее судовладельцу-философу, другу Жан-Жака Руссо. И знаете, как назывался этот корабль? «Общественный договор»!
XXVI
За несколько месяцев корсарская война, которую вели французы, превратилась в необыкновенно выгодное занятие. С каждым днем корсары становились все более дерзкими, успех и жажда наживы словно пришпоривали их, они мечтали о новой добыче; вот почему капитаны кораблей из Пуэнт-а-Питра отваживались теперь заходить все дальше – к побережью Новой Гранады, к острову Барбадос и Виргинским островам, они не страшились показываться даже в тех местах, где могли встретиться с грозной вражеской эскадрой. Постепенно каперские корабли совершенствовали свои методы. Возродив традиции былых корсаров, французские моряки предпочитали действовать небольшими эскадрами, состоявшими из маленьких, но быстроходных кораблей – шлюпов, куттеров, шхун; на таких судах было легко маневрировать и скрываться, они позволяли стремительно уходить от погони и настойчиво преследовать противника, они были гораздо удобнее тяжелых и неповоротливых судов, представлявших собою удобную мишень для вражеской, в частности британской, артиллерии: английские канониры придерживались иной тактики, нежели французские, они не старались поразить ядрами мачты корабля, а норовили продырявить его корпус; дождавшись минуты, когда волны накреняли судно и пушечные жерла смотрели вниз, они били наверняка. В гавани Пуэнт-а-Питра теперь теснилось множество новых кораблей, а портовые склады уже не могли вместить груды товаров и всевозможных предметов; поэтому пришлось строить навесы по всему берегу вдоль мангровых зарослей, окаймлявших город, – добыча все росла и росла. Виктор Юг немного располнел, но, хотя мундир с каждым днем становился ему все теснее, энергии у него не убавилось. Вопреки ожиданиям, Директория, у которой в далекой Франции было дел по горло, признала заслуги комиссара, отвоевавшего колонию у англичан и сумевшего ее удержать, – Юг был оставлен на своем посту. Таким образом, ему удалось утвердить в этой части земного шара свою единоличную власть, и он вел себя так, будто никому не подчинялся и ни от кого не зависел: Виктор сумел почти в полной мере воплотить в жизнь свое заветное желание – сравниться с Неподкупным. Он мечтал стать Робеспьером, правда, Робеспьером на собственный лад. Подобно тому как Робеспьер говорил о своем правительстве, своей армии, своем флоте, так и Юг говорил теперь о своем правительстве, своей армии, своем флоте. К Виктору вернулось былое высокомерие, и нередко за игрой в шахматы или в карты он упоминал о себе как о единственном человеке, который продолжает дело революции. Он хвастливо заявлял, что больше не читает парижских газет, так как от них «несет жульничеством». Между тем Эстебан замечал, что Виктор, весьма кичившийся благосостоянием острова и тем, что он, Юг, все время посылает во Францию деньги, стал удивительно походить на преуспевающего коммерсанта, который с удовольствием подсчитывает свои богатства. Когда французские корабли возвращались в порт с добычей, комиссар присутствовал при их разгрузке и на глаз определял ценность тюков, бочек, различной утвари и оружия. С помощью подставных лиц он открыл лавку колониальных товаров неподалеку от площади Победы: некоторые товары можно было приобрести только там, и продавались они по произвольно установленной цене. Почти каждый вечер Виктор заходил сюда и просматривал счетные книги в слабо освещенной комнате, где пахло ванилью; закругленные сверху двери лавки, выходившей на угол, были обиты железными полосами. Раздобрел не только Юг, подобрела и приобрела солидность и гильотина – теперь она день работала, а четыре отдыхала: приводили ее в действие помощники господина Анса, сам же он большую часть времени занимался тем, что пополнял коллекции своей кунсткамеры, где уже имелось богатейшее собрание жесткокрылых и чешуекрылых насекомых, снабженных пышными латинскими названиями. Все в городе стоило очень дорого, цены непрерывно росли, но тем не менее, хотя торговля с иноземными купцами почти не велась, деньги всегда находились, и звонкая монета возвращалась – неизменно возвращалась – в одни и те же карманы; надо сказать, что мало-помалу серебряные монеты не без помощи напильника становились все тоньше, что было заметно даже на ощупь, но ценили их все больше и больше…
Во время одной из стоянок в Пуэнт-а-Питре Эстебан – он загорел до черноты и походил теперь на мулата – с радостью узнал, что недавно заключен мир между Испанией и Францией. Юноша подумал, что вновь будет установлено сообщение между Гваделупой и Новой Гранадой, Пуэрто-Рико, Гаваной. Однако его ожидало горькое разочарование: Виктор Юг не пожелал признать договор, подписанный в Базеле. Он по-прежнему захватывал испанские корабли «по подозрению в контрабандной доставке военного снаряжения англичанам»; капитанам корсарских кораблей было предоставлено право «реквизировать» испанские суда и самим решать, что именно следует понимать под военной контрабандой. Эстебан по-прежнему был вынужден исполнять обязанности письмоводителя эскадры капитана Бартелеми; он убедился, что нет никакой возможности вырваться из тяготившего его мира, который благодаря жизни в море – далекой от повседневной суеты и подчинявшейся только закону ветров – становился ему все более чуждым. Проходили месяцы, и юноша смирился с мыслью, что надо жить сегодняшним днем – не считая дней – и довольствоваться скромными радостями, которые может доставить человеку безоблачная погода или веселая рыбная ловля. Он привязался к некоторым из своих товарищей по плаванию: к капитану Бартелеми, сохранявшему привычки офицера старого режима и заботившемуся о своем внешнем виде даже в самые грозные минуты; к хирургу Ноэлю, который писал нескончаемый и путаный трактат о вампирах Праги, об одержимых бесом жителях Лудена и о страдающих падучей нищих из Сен-Медара; к мяснику Ахиллу, негру с острова Тобаго, который исполнял удивительные сонаты на котлах разной величины; к гражданину Жиберу, мастеру-конопатчику, читавшему наизусть длинные отрывки из классических трагедий, – Жибер был южанин, и поэтому в его устах александрийские стихи не укладывались в традиционный размер, в них всякий раз оказывалось лишнее число слогов, так как он произносил не «Брут», а «Бруте» и не «Эпаминонд», а «Эпаминонде». Кроме того, мир Антильских островов завораживал юношу постоянной игрой света и разнообразием форм, тем более удивительных, что они возникли в одном и том же климате и в окружении одной и той же растительности. Эстебану нравился гористый остров Доминика, окруженный зеленою пучиной: города тут носили названия «Батай», «Массакр» [89 - «Битва», «Резня» (франц.).] в память грозных событий, о которых не найти упоминания в истории. Для него стали привычными облака, всегда нависавшие над островом Невис и так мягко окутывавшие его холмы, что, увидев эти облака, Великий адмирал принял их за не существующие в этих местах ледники. Юноша мечтал когда-нибудь взобраться на остроконечную скалу, венчавшую остров Сент-Люсия, – ее громада поднималась из морских волн и походила издали на маяк, воздвигнутый неведомыми строителями, словно в ожидании кораблей, которые однажды доставят сюда на своих мачтах крест. Приветливые и гостеприимные, если к ним приближались с юга, острова этого бесконечного архипелага с северной стороны, где постоянно дули сильные ветры, были скалисты, неприступны, источены высокими и пенными морскими валами. Множество легенд о кораблекрушениях, утраченных сокровищах, безвестных могилах, обманчивых огнях, вспыхивавших по ночам во время бури, заранее предсказанных рождениях – о грядущем появлении на свет госпожи де Ментенон, [90 - Госпожа де Ментенон, Франсуаза (1635 – 1719) – одна из фавориток Людовика XIV, его морганатическая супруга, вдохновительница крутых мер против французских протестантов.] некоего сефардского чудотворца, амазонки, которая стала впоследствии царицей Константинополя, – было связано с этими землями. Эстебан любил негромко повторять их названия, чтобы насладиться музыкой слов: «Туртерель», «Сент-Урсюль», «Вьерж-Грас», «Нуайе», «Гренадин», «Жерюзалем-Томбе»… Иногда по утрам море бывало такое спокойное и тихое, что равномерное поскрипывание такелажа – звуки эти в зависимости от их продолжительности были то более высокими, то более низкими – разносилось по всему кораблю от носа и до кормы; можно было различить анакрузы [91 - Анакруза (или затакт) – звук, предшествующий первой сильной доле следующего такта.] и громкие такты, форшлаги и пиццикато, которые время от времени перемежались с резким, отрывистым звуком, издаваемым своеобразной арфой, где струнами служили канаты, отзывавшиеся на неожиданный порыв ветра. Но в тот день легкий ветер внезапно усилился, окреп и гнал высокие и тяжелые волны. Море из светло-зеленого сделалось темно-зелёным, потускнело, оно бурлило все сильнее, меняя свои оттенки, и становилось то зеленовато-черным, то графитно-зеленым. Бывалые матросы втягивали ноздрями воздух, – эти морские волки знали, что, стиснутый черными тучами, он пахнет совсем по-особому; временами ветер стихал, и начинался теплый дождь, с неба падали тяжелые, как ртуть, капли. Сгустились сумерки, и вдруг их прорезал крутящийся столб смерча, корабли, будто приподнятые ладонями великана, понеслись по гребням волн и затерялись в ночи, испуганно мерцая фонарями. Под ними неистово бурлила пучина, взбунтовавшиеся воды били в нос и в борта судна, идущие снизу валы ударяли в киль, и, несмотря на отчаянные маневры рулевого, кораблю не удавалось увертываться от свирепых волн, которые перекатывались по палубе от одного борта к другому, когда бриг не успевал подставить им корму. Капитан Бартелеми приказал натянуть кормовые леера, чтобы людям было легче бороться со стихией.
– Мы угодили в самое пекло, – проворчал он, поняв, что разыгрывается настоящая буря, какие бывают в октябре: она заявляла о себе самым недвусмысленным образом, предупреждая, что достигнет апогея после полуночи.
Захваченный врасплох, Эстебан понял, что на сей раз ему не уйти от грозного испытания; он заперся у себя в каюте и попытался заснуть. Однако юноше ни на минуту не удалось сомкнуть глаз: едва он растягивался на койке, как ему начинало казаться, будто все внутри у него переворачивается. Теперь вокруг корабля со всех сторон слышался ужасающий рев, он прокатывался вдоль горизонта, и каждый шпангоут, каждая доска на судне отвечали ему жалобным стоном. Шли часы, матросы на палубе ожесточенно боролись с бурей, а бриг мчался по волнам с головокружительной быстротою, взлетал вверх, нырял вниз, вздрагивал, накренялся набок, все больше углубляясь в зловещее царство урагана. Эстебан даже не пытался овладеть собой: прижавшись спиною к койке, охваченный страхом, испытывая тошноту, он ждал, что вода вот-вот хлынет в люки, наполнит трюмы, высадит двери… И вдруг, незадолго до рассвета, ему показалось, что грозный рык, доносившийся с небес, стал тише, а удары волн – реже и слабее. Наверху, на палубе, матросы во весь голос хором возносили молитву своей извечной заступнице, пресвятой деве, которая всегда защищает мореплавателей от гнева господня. Весьма кстати обновив старинную французскую традицию, застигнутые бедой корсары Республики умоляли мать
Христа-искупителя окончательно усмирить волны и унять ветер. Люди, которые так часто распевали непристойные куплеты, теперь благоговейно возносили мольбы той, что зачала без греха. Эстебан осенил себя крестным знамением и поднялся на палубу. Опасность миновала: «Друг народа», один, ничего не зная об остальных кораблях эскадры, – быть может, сбившихся с курса, быть может, затонувших, – входил в усеянный островами залив. Да, залив был усеян островами, но то были удивительно маленькие островки, они напоминали эскизы, наброски подлинных островов, собранные тут, словно этюды, зарисовки, отдельные части будущих статуй в мастерской скульптора. Ни один из этих островков не походил на другой, и, создавая их, природа пользовалась различными материалами. Одни острова, казалось, были из белого мрамора, на их блестящей каменистой поверхности ничего не росло, они казались римскими бюстами, по плечи погруженными в море; другие торчали из воды громадными глыбами кварца с параллельными прожилками, на верхних, искрошенных уступах этих островков цеплялись за камни когтистыми корнями два или три дерева с искривленными сухими ветвями, а иногда – только одно бесконечно одинокое дерево с побелевшим от морской соли стволом, похожее на огромную водоросль. Некоторые из островков были до такой степени источены волнами, что будто плавали на воде без всякой видимой опоры; другие сплошь поросли чертополохом или были завалены обломками обрушившихся скал. В прибрежных утесах море вырыло гроты, и там со сводов вниз головой свисали гигантские кактусы с желтыми или красными цветами, вытянутыми наподобие фестонов, – они напоминали причудливые театральные люстры; гроты эти казались святилищами загадочных творений природы – цилиндрических, пирамидальных, многогранных, они одиноко возвышались на пьедестале, точно таинственные предметы поклонения, священный камень из Мекки, геометрическая эмблема, воплощение какого-то непонятного культа. Бриг все больше углублялся в этот странный мир, совершенно незнакомый лоцману, который даже затруднялся определить его местонахождение, так как ночью во время бури корабль сильно отклонился от курса; Эстебану, с изумлением взиравшему на все это, хотелось придумать островам названия: вот этот следовало бы именовать островом Ангела, ибо на одном из его утесов, точно на фреске, виднелись очертания распростертых крыльев – как на византийских иконах; тот надо было бы окрестить островом Горгоны, потому что он был увенчан зелеными змеями лиан; следующий остров походил на срезанный шар, соседний – на раскаленную наковальню, а чуть подальше волны омывали Мягкий остров, – покрытый плотным слоем гуано и пеликаньего помета, он казался светлым и мягким комком, покачивающимся на воде. За островом, который можно было бы назвать Лестницей, Уставленной Свечами, виднелся остров Сторожевого Холма; остров, напоминавший галион на мели, сменялся островом, похожим на замок, – его изрезанный узкими расселинами берег хлестали пенные волны, разбиваясь об отвесный утес, они взлетали вверх высоким фонтаном брызг. От острова Хмурый Утес корабль направился к острову Лошадиная Голова – вместо глаз и ноздрей тут были зловещие темные впадины, – миновав по пути Обшарпанные острова, состоявшие из таких древних, жалких, убогих скал, что они смахивали на нищих в лохмотьях; особенно неприглядными они казались в окружении других утесов, возникших много тысячелетий спустя, а потому свежих, блестящих, отливавших слоновой костью. Уже остался позади грот, походивший на храм, воздвигнутый в честь каменного идола – треугольного утеса, затем Проклятый остров, весь опутанный корнями морского фикуса: корни-щупальца с каждым годом все разбухали и разбухали, пока наконец не разрушали камень. Эстебан с изумлением обнаружил, что этот чудесный залив представлял собою как бы уменьшенную копию Антильского архипелага, – все, что было в нем, повторялось на Антильских островах и вокруг них, но только в большем масштабе. Здесь, как и на Архипелаге, также можно было увидеть вулканы, выступающие из воды. Однако достаточно было появиться полсотне чаек, чтобы вулканы эти побелели, как от снега. Встречались тут и свои Вьерж-Грас и Вьерж-Мэгр, однако достаточно было поместить рядом десяток морских вееров, и они бы закрыли всю их поверхность… Бриг уже несколько часов медленно плыл по заливу, глубину то и дело приходилось измерять лотом; и вдруг глазам матросов открылось сероватое побережье, утыканное шестами, где сушились большие сети. Здесь раскинулась рыбачья деревушка – семь хижин, крытых пальмовыми листьями, с общими навесами, под которыми хранились лодки; вблизи возвышалась сложенная из булыжника дозорная башня; с нее наблюдатель внимательно следил за морем, ожидая появления косяка рыб, а рядом с ним лежала раковина, в которую он должен был трубить, подавая сигнал. Вдали, на вершине горного отрога, виднелся мрачный замок с зубчатой стеною, сложенной из грубых камней: его, точно ограда, окаймляла цепь фиолетовых утесов.
– Салинас-де-Арайя, – сказал лоцман, обратившись к капитану Бартелеми, который приказал круто повернуть, чтобы избежать встречи с грозной крепостью, воздвигнутой Антонелли – военным зодчим короля Филиппа II.
Крепость эта, как часовой, уже несколько веков стояла на страже сокровищ Испании. Избегая подводных рифов, судно на всех парусах покинуло пределы залива, который, как всем теперь стало ясно, был заливом Санта-Фе.
XXVII
Прошло несколько месяцев. Корсарская война продолжалась. Капитан Бартелеми предпочитал всегда действовать наверняка и без риска, он не стремился прослыть грозою морей, но на расстоянии чуял слабо защищенную и богатую добычу. Если не считать неудачного столкновения с датским кораблем из Альтоны [92 - Город Альтона на правом берегу Эльбы, в настоящее время один из районов Гамбурга, в XVII – XVIII вв. принадлежал Дании.], экипаж которого мужественно сражался, отказываясь спустить флаг, и бесстрашно атаковал корсарские суда, преграждавшие ему путь, то жизнь на эскадре текла спокойно и благополучно; что же касается письмоводителя, большую часть дня занятого чтением, то его никак нельзя было назвать героем, и матросы, добродушно потешаясь над ним, всякий раз, когда на горизонте показывалась рыбачья шлюпка, советовали ему спрятаться в трюме. «Друг народа» находился в постоянном движении и проводил в порту лишь то время, какое требовалось для разгрузки, – бес наживы владел его капитаном, с завистью наблюдавшим за быстрым обогащением многих своих коллег; однако, судя по всему, корабль вот-вот мог выйти из строя. Достаточно было легкого ненастья, и бриг начинал стонать и жаловаться, как женщина, он стал медлителен и неповоротлив. Все доски его скрипели. Краска на мачтах и на бортах потрескалась и облупилась. Планширы были изуродованы вмятинами и перепачканы грязью. Судно нуждалось в срочном ремонте, и потому Эстебан внезапно оказался на Гваделупе, – в последнее время он лишь ненадолго попадал сюда и не успел заметить происшедших на острове перемен. Пуэнт-а-Питр и в самом деле превратился теперь в богатейший город Америки. Пожалуй, даже Мехико, о котором рассказывали столько чудес, Мехико, славившийся своими золотых и серебряных дел мастерами, своими рудниками и большими прядильными мастерскими, никогда не знал такого процветания. Здесь, в Пуэнт-а-Питре, золото струилось потоком, в солнечных лучах сверкали чеканенные в Туре луидоры, испанские дублоны, британские гинеи, португальские моэды с изображением Жуана V, королевы Марии и Педру III; [93 - Моэды, точнее, моидоры – золотые португальские монеты весом 4,5 г, имевшие хождение в XVIII в. Жуан V, Мария и Педру III – португальские короли, правившие страной в XVIII – начале XIX в.] что же касается серебра, то оно попадало в руки людей в виде экю достоинством в шесть ливров, филиппинских и мексиканских пиастров, не говоря уже о восьми мелких монетах, изготовлявшихся из сплава серебра и меди, – с этими монетками каждый поступал, как ему заблагорассудится; их обрубали, дырявили, спиливали. У вчерашних лавочников кружилась голова, и они стремились стать владельцами корсарских кораблей: тот, кто был побогаче, обходился собственными средствами, а другие объединялись в акционерные общества и коммандитные товарищества. Старые Ост-Индская и Вест-Индская компании с их набитыми золотом сундуками словно возрождались в этой удаленной части Карибского моря, где революция упрочивала – и весьма ощутимо – благосостояние многих. Реестр трофеев становился все объемистее, и теперь на листах конторских книг перечислялись уже названия пятисот восьмидесяти судов различных видов и происхождения: они были взяты корсарами на абордаж, разграблены или приведены в порт французскими эскадрами. Обитатели Пуэнт-а-Питра сейчас мало интересовались тем, что происходит во Франции. Гваделупе хватало ее собственных дел, и отныне на нее с симпатией и даже с завистью взирали некоторые испанцы с континента, в руки которых через голландские владения попадала пропагандистская литература.
Трудно было представить себе более торжественное зрелище, нежели возвращение пенителей морей в порт после успешной экспедиции: сойдя на берег, они церемониальным маршем шествовали по улицам. При этом корсары несли образцы ситца, оранжевого и зеленого муслина, шелков из Масулипатама, мадрасских тюрбанов, манильских шалей и различных дорогих тканей, от которых у женщин рябило в глазах; моряки были разряжены самым причудливым образом, следуя установившейся в этих местах моде: они шли босиком – или в чулках, но без башмаков, – предоставляя публике любоваться своими расшитыми золотом блестящими мундирами, опушенными мехом камзолами и разноцветными шейными платками; а на голове у каждого – это было, можно сказать, делом чести – красовался пышный головной убор: войлочная шляпа с отогнутыми полями, увенчанная перьями цветов республиканского флага. Негр Вулкан скрывал свое изъеденное проказой тело под таким роскошным нарядом, что походил на императора в день триумфа. Англичанин Джозеф Мэрфи, взгромоздившись на ходули, бил в медные тарелки перед самыми балконами. Сойдя на берег с кораблей, корсары, провожаемые восторженными кликами толпы, направлялись в квартал Морн-а-Кай, где моряк, их бывший товарищ, а ныне инвалид, открыл кофейню «Приют санкюлотов»; тут над стойкой висели клетки с туканами и какими-то певчими птицами, а стены были испещрены карикатурами и непристойными надписями, сделанными углем. Потом начиналась попойка: по три дня подряд корсары пили и гуляли, а судовладельцы тем временем наблюдали за разгрузкой товаров, которые раскладывали на столах и прилавках тут же, у самых кораблей, и распродавали… Однажды вечером Эстебан, к своему величайшему удивлению, повстречал в кофейне Виктора Юга; тот был окружен капитанами судов и беседовал с ними о вещах слишком серьезных для такого заведения.
– Присаживайся, дружок, и закажи себе что-нибудь, – обратился агент Директории к юноше.
Виктор Юг был удостоен этого звания некоторое время назад, однако он, видимо, чувствовал себя недостаточно уверенно и в тот день говорил тоном человека, жаждущего услышать одобрение собеседников. Ссылаясь на различные сведения и цифры, приводя отрывки из официальных и полуофициальных донесений, он обвинял жителей Северной Америки в том, что те продают оружие и корабли англичанам в тайной надежде ускорить уход Франции из ее американских колоний; при этом они забывают, чем обязаны этой стране.
– Само слово «американец», – восклицал Виктор, повторяя фразу из свежей прокламации, – возбуждает в здешних краях презрение и ненависть. Американец сделался ретроградом, врагом всяческой свободы, а ведь сколько времени он разыгрывал перед миром свою квакерскую комедию! Соединенные Штаты ныне проникнуты кичливым национализмом, они теперь видят врага во всяком, кто может поколебать их могущество. Те же самые люди, которые недавно боролись за независимость своей страны, в наши дни отказываются от всего, что составляло их величие. Следует напомнить этим вероломным господам, что, если бы не мы, проливавшие свою кровь и не жалевшие денег для того, чтобы помочь им завоевать эту самую независимость, Джордж Вашингтон был бы повешен как изменник.
И Юг хвастался тем, что он будто бы направил послание Директории, побуждая ее объявить войну Соединенным Штатам. Однако полученные им в ответ инструкции свидетельствовали о полном непонимании существующего положения: сначала ему предписывали осторожность, а вскоре стали даже бить тревогу и строго призывали к порядку. И виной всему, продолжал Виктор, кадровые военные, вроде Пеларди, которых он, Юг, выслал из колонии после бурных столкновений, так как эти офицеры не раз вмешивались в дела, их не касавшиеся; теперь же они плетут против него интриги в Париже. Он напоминал об успехе всех своих начинаний, об освобождении острова от англичан, о нынешнем благосостоянии Гваделупы.
– Что до меня, то я буду продолжать военные действия против Соединенных Штатов. Этого требуют интересы Франции, – закончил Юг с вызовом и таким решительным тоном, словно заранее хотел пресечь все возражения.
Совершенно очевидно, сказал себе Эстебан, теперь Юг, до сих пор пользовавшийся неограниченной властью, чувствует, что вокруг него появились сильные люди, – успех и богатство укрепили их могущество. Одним из таких людей был Антуан Фюэ, моряк из Нарбонна, которому Виктор поручил командовать великолепным кораблем, оснащенным на американский лад, с планширами красного дерева, оправленными медью; Фюэ стал легендарной личностью и любимцем толпы с того дня, когда обстрелял португальский корабль золотыми монетами за неимением картечи для пушек. После сражения хирургам его корабля «Несравненный» пришлось немало повозиться с убитыми и ранеными матросами противника: при помощи скальпеля они извлекали монеты из мышц и внутренних органов пострадавших. Этот самый Антуан Фюэ, прозванный «Капитан Златострел», осмелился запретить агенту Директории, сославшись на то, что тот представляет не военную, а гражданскую власть, доступ в клуб моряков: самые влиятельные из командиров корсарских кораблей открыли его в помещении бывшей церкви, сады и земельные угодья которой занимали целый городской квартал; забавы ради они назвали свой клуб «Пале-Рояль». Эстебан с изумлением узнал, что в среде французских корсаров вновь возродилось франкмасонство, причем оно приобрело широкий размах. В «Пале-Рояле» расположилась масонская ложа, где опять были воздвигнуты колонны Иоахима и Боаса. От недолговечного культа Верховного существа люди быстро отказались и вновь возвратились к Великому зодчему, к Акации и к молотку Хирама-Аби. В роли мастеров и рыцарей ложи выступали капитаны Лаффит, Пьер Гро, Матье Гуа, Кристоф Шолле, перебежчик Джозеф Мэрфи, Ланглуа Деревянная Нога и даже мулат по прозвищу «Петреас-мулат»; традиции франкмасонства были возрождены на Гваделупе благодаря рвению братьев Фюэ – Модеста и Антуана. Таким образом, те же самые руки, которые во время абордажа сжимали короткоствольные ружья и обшаривали трупы в поисках монет, почерневших от запекшейся крови, на церемонии посвящения в масоны выхватывали из ножен благородные шпаги. «Вся эта путаница, – думал Эстебан, – происходит потому, что люди тоскуют по распятию. Любой тореадор, любой корсар нуждается в храме, где бы он мог возносить благодарственную молитву божественной силе, сохранившей ему жизнь во время тяжелых испытаний. Мы еще увидим, как они станут давать обеты и приносить дары своей извечной заступнице, пресвятой деве». Юноша радовался про себя, замечая, что подспудные силы начинают подтачивать могущество Виктора Юга. В его душе совершался тот своеобразный процесс утраты былой привязанности, в силу коего мы начинаем желать унижения и даже падения людей, которыми еще недавно восхищались, но которые стали слишком недоступными и высокомерными. Эстебан бросил взгляд на помост гильотины, стоявшей на своем обычном месте. Испытывая отвращение к самому себе, он тем не менее не в силах был противиться соблазну и подумал, что грозная машина, которая в последнее время реже приводилась в действие и по целым неделям стояла закрытая чехлом, быть может, поджидает человека, Облеченного Властью.
– Какая же я свинья, – вполголоса пробормотал юноша. – Будь я верующим христианином, я поспешил бы исповедаться.
Прошло несколько дней, и в портовом квартале, иначе говоря, во всем городе, воцарилось радостное возбуждение. Под гром пушечных залпов в гавань вошла эскадра капитана Кристофа Шолле, о которой уже два месяца не было никаких известий; теперь корсары возвратились, ведя за собой девять кораблей, захваченных во время морского сражения в прибрежных водах острова Барбадос. Над одним из кораблей развевался испанский флаг, над другим – английский, над третьим – североамериканский; а на последнем судне обнаружился редкостный груз – оперная труппа с музыкантами, партитурами и декорациями. То была труппа артистов во главе с господином Фоком-пре, первоклассным тенором, который уже несколько лет ездил из Кап-Франсэ в Гавану и в Новый Орлеан и ставил там различные оперные спектакли; гвоздем его репертуара была опера Гретри «Ричард Львиное Сердце», кроме того, туда входили «Земира и Азор», «Служанка-госпожа», «Прекрасная Арсена» [94 - «Служанка-госпожа» – опера итальянского композитора Джованни Батисты Перголези (1710 – 1736). «Прекрасная Арсена» – опера французского композитора Пьера-Александра Монсиньи (1729 – 1817).] и прочие пышные представления, в которых применялись движущиеся декорации, волшебные зеркала и шумовые эффекты. Ныне эта гастрольная поездка, имевшая целью познакомить с оперным искусством Каракас и другие города Америки, в которых маленькие труппы, не требовавшие больших расходов для передвижения, выступали с выгодой и успехом, заканчивалась в Пуэнт-а-Питре, городе, где не было своего театра. И господин Фокомпре, не только артист, но и театральный импресарио, зная уже, как разбогатела за последнее время Гваделупа, поздравлял себя с тем, что попал сюда, хотя всего несколько дней назад он не на шутку перепугался во время абордажа; правда, у него и тогда хватило присутствия духа: он нырнул в люк и оттуда давал своим соотечественникам корсарам полезные советы. Артисты труппы были французы, окружали их теперь тоже французы, и певец, привыкший воспламенять монархически настроенных колонистов исполнением арии «О Ричард! Мой король!», внезапно ощутил прилив республиканских чувств и, взобравшись на шканцы флагманского корабля корсаров, к великому удовольствию экипажа, запел во весь голос песню «Пробуждение народа»; он пел с таким подъемом, что от его рулад – это мог подтвердить второй помощник капитана – звенели бокалы в офицерском салоне. Вместе с Фокомпре прибыли госпожа Вильнёв – которая с одинаковым успехом читала стихи и исполняла в случае нужды роль простодушной пастушки, равно как и роли матери Гракхов и злосчастной королевы, – а также барышни Монмуссе и Жандвер, говорливые блондинки, превосходные исполнительницы легких арий в духе Паизиелло и Чимарозы. Люди, столпившиеся на берегу, разом позабыли о кораблях, взятых в ожесточенной схватке, как только увидели выходивших на пристань артистов: актрисы щеголяли в туалетах, сшитых по последней моде, моде, еще совершенно неизвестной на Гваделупе, где никто и представления не имел о немыслимых шляпах, греческих сандалиях и полупрозрачных туниках с высокой талией, придававших стройность фигуре; дорожные сундуки певиц были битком набиты роскошными платьями – увы, в пятнах от пота; картонные колонны и деревянные престолы погрузили на спины носильщиков, а концертные клавикорды доставили в бывший губернаторский дворец в повозке, запряженной мулами, причем этот музыкальный инструмент везли с такими предосторожностями, словно то
был ковчег завета. В город, где не было театров, прибыла театральная труппа, – следовало позаботиться о помещении для нее, и поэтому были приняты необходимые меры… Помост гильотины мог служить превосходной сценой, и грозную машину отвезли на задний двор соседнего дома; там она оказалась в распоряжении кур, которые спали на ее поперечных перекладинах, как на насесте. Доски эшафота старательно отмыли и соскоблили с них следы крови; между деревьями натянули брезент, и началась репетиция самой популярной пьесы репертуара, – она не только пользовалась всемирной известностью, но и содержала несколько куплетов, проникнутых вольнолюбивым духом: это был «Деревенский колдун» Жан-Жака Руссо. В распоряжении господина Фокомпре было мало музыкантов, и директор театра решил было увеличить их число за счет музыкантов из оркестра баскских стрелков. Однако обнаружилось, что доблестные вояки лихо исполняли свои партии, но с опозданием на пять тактов, и капельмейстер труппы предпочел обойтись без их услуг; решено было аккомпанировать певцам на клавикордах, а также на гобоях и скрипках, о чем обещал позаботиться господин Анс.
И через несколько дней на площади Победы состоялось торжественное вечернее представление. На этом представлении присутствовали все новоявленные богачи колонии. Простолюдинов оттеснили назад, на самый край площади, места, отведенные для именитых граждан, были отделены от толпы канатами, обтянутыми синим бархатом с трехцветными бантами; наконец показались капитаны кораблей в расшитых золотом мундирах, с орденами на груди; у каждого была перевязь через плечо и кокарда на шляпе; они пришли в сопровождении своих любовниц, разряженных и увешанных настоящими и фальшивыми драгоценностями, браслетами из мексиканского серебра и жемчугом с острова Маргарита. Эстебан явился на представление в обществе мадемуазель Аталии, блистательной и неузнаваемой, сверкавшей украшениями; она была в греческой тунике, надетой по тогдашней моде прямо на голое тело. Виктор Юг и его приближенные занимали первый ряд, их окружал целый рой щебечущих и заискивающих женщин; агент Директории и офицеры брали с подносов стаканы с пуншем и вином; все они даже ни разу не оглянулись назад, на последние ряды, где расположились мамаши счастливых наложниц – тучные, толстозадые, грудастые, которых стыдились собственные дочери; на этих матронах были вышедшие из моды платья, старательно расширенные при помощи клиньев и вставок, чтобы их можно было хоть как-нибудь натянуть на безобразно расплывшиеся тела. Эстебан заметил, что Виктор нахмурил брови, когда появился Антуан Фюэ, встреченный бурными рукоплесканиями; однако в эту минуту прозвучала увертюра, и госпожа Вильнёв, прервав аплодисменты, запела арию Колетты:
Я счастье потеряла,
Как быть мне? Я пропала —
Уходит мой Колен…
Затем показался колдун, изъяснявшийся напыщенно и со страсбургским акцентом, и представление началось, рождая всеобщий восторг, отличный, однако, от того, каким была в свое время встречена на этой же площади впервые приведенная в действие гильотина. Публика легко улавливала намеки и встречала рукоплесканиями строфы, наполненные революционным содержанием, а Колен, роль которого исполнял господин Фокомпре, изо всех сил подчеркивал подобные места, выразительно подмигивая агенту Директории, офицерам и капитанам кораблей, восседавшим рядом со своими дамами:
Я стосковался без своей подружки,
Прощайте, замки, почести, пирушки…
Многим важным господам
Нравится Колетта,
Но не верит их словам
Чаровница эта.
В конце представления раздались восторженные возгласы, и артистам пришлось пять раз повторить финал пьесы, уступая настойчивым требованиям публики:
Возможно, в городе шумнее,
Но нам живется веселее,
Всегда пою —
На том стою!
Все дни подряд
Я жизни рад.
И за всех нарядных дам
Я Колетту не отдам.
Праздник закончился исполнением революционных гимнов, которые, не щадя голоса, пел господин Фокомпре, одетый санкюлотом; затем последовал большой бал в бывшем губернаторском дворце: здесь провозглашались громкие тосты и лилось рекой чудесное вино. Виктор Юг, не обращая внимания на настойчивые заигрывания госпожи Вильнёв, зрелая красота которой вызывала в памяти пышнотелую Леду с полотен фламандских мастеров, был поглощен интимной беседой с Марианной-Анжеликой Жакен, мулаткой с острова Мартиника: агент Директории, прежде высокомерно презиравший душевную теплоту, теперь, почувствовав, что вокруг него плетут интриги, испытывал к своей подруге необычайную привязанность. В тот вечер человек этот, не имевший друзей, был удивительно любезен со всеми; проходя мимо Эстебана, он всякий раз отечески похлопывал его по плечу. Перед самым рассветом Юг удалился к себе, а Модест Фюэ и незадолго перед тем прибывший из Франции Леба – человек, который пользовался доверием агента Директории, но слыл, хотя и без достаточных оснований, ее шпионом, – отправились в городское предместье в обществе приезжих красоток, барышень Монмуссе и Жандвер. Юный письмоводитель корсарской эскадры, немало выпивший на балу, пошел к себе в гостиницу; шагая по темным улицам, он от души забавлялся, наблюдая за мадемуазель Баязет: сбросив с ног сандалии, она высоко задрала греческую тунику, чтобы не замочить ее в лужах, оставшихся после прошедшего накануне дождя. В конце концов, боясь забрызгать грязью свою одежду, Аталия сняла ее через голову и обмотала вокруг шеи.
– Какая жаркая ночь, – проговорила она как бы в извинение и стала изо всех сил шлепать себя по ягодицам, стремясь избавиться от надоедливых москитов.
Позади раздавался стук молотков – плотники разбирали декорации оперного спектакля.
XXVIII