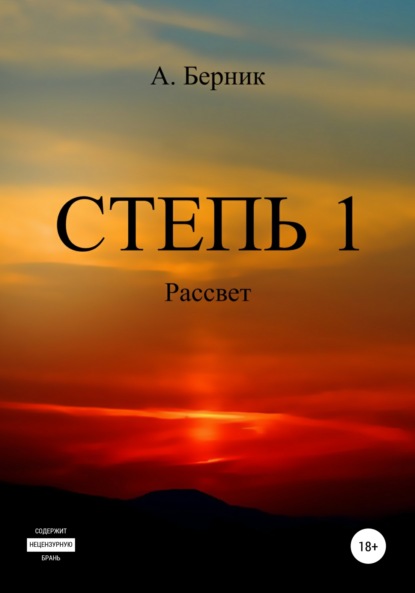По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Степь 1. Рассвет
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Баймака больше не было. Чёрные прогоревшие головёшки чадили в небо белёсый дым на месте каждого кута. Все до одной землянки были сожжены и разрушены.
Воровайка и та заткнулась, посиживая на плече хозяйки, как и всегда это делала. Только время от времени вертела бестолковой головой из стороны в сторону, то наклоняя её направо, то закладывая налево. Будто не веря в то что видела одним глазом, перепроверяла другим, но тут же, не соглашаясь с увиденным начинала процесс заново.
Наконец вековуха горестно вздохнула, всхлипывая с надрывами. Подобралась, выпрямилась, как-то резко перестав лить горькие слёзы.
– Чё это я? – вопрошала она не пойми кого и поворачиваясь к сороке, убитым голосом добавила, – слышь ты, дрянь пархатая. Меня вроде как исток кликает. Чуешь ли?
На что птица глубокомысленно наклонила голову, заглядывая бабе в лицо с видом как бы спрашивая: а не сбрендила ли ты, хозяюшка и звонко щёлкнула клювом, при этом чуть не прищемив Данухе нос. Баба на инстинкте дёрнула головой, боль в очередной раз вдарила полбу с искрами. От чего обозлённая большуха шипя сквозь три зуба, сплюнула:
– Тьфу, тупая. Чё с тобою балакать, бестолковая. Айда, давай.
Она развернулась и тяжело передвигая ноги, пошла к змеиному источнику.
Хоть был родник недалече, только больно долго добиралась до него парочка. Путь-дорога показалась очень длинной. Толи Дануха действительно плелась как обожравшаяся улитка, толи время в самом деле было к вечеру, а она изначально этого не приметила, но до родника добралась, когда уж смеркалось. Большуха понятия не имела сколько в реке проплавала и провалялась, загорая на тёпленьком песочке. Но куты, выгоревшие дотла говорили, что времени прошло значительно.
Упав на колени перед прозрачной как слеза лужей, откуда утекал ручей и прятался в высокой траве прежде чем влиться в реку, баба вымерила взглядом нужное расстояние, а затем повалившись с живота на огромные мягкие груди, больно ударившись культяпками рук о голую землю, нырнула с размаха пылающим лицом в холодную лужу родника, чуть ли не целиком скрываясь головой под воду.
Запрокинулась назад, широко раскрыв беззубый рот и жадно хватая воздух, а затем уже медленно припав лишь одними губами, принялась с жадностью пить до ломоты не только в трёх оставшихся зубах, но и во всей челюсти. Отстранилась, не распахивая глаз, чуток отдышалась и опять принялась упиваться будто впрок её вливая в себя на всю оставшуюся жизнь.
Наконец ломота от нестерпимого холода сделалась невыносимой и Дануха вынырнула окончательно. Одна из её седых кос расплелась и разбросалась по воде. Только теперь лежащая пластом баба поняла, что положение, в котором она валялась у родника – хуже не придумаешь. Встать-то она никоим образом из него не могла, а извернуться страх не давал за переломанные руки, что валялись плетьми вдоль туловища. Баба повернула голову набок. Так удерживать её на весу было легче. В таком несуразном положении и замерла отпыхиваясь, успокаивая саму себя:
– Вот чуток передохну. Соберуся, да сяду как-нибудь на задницу.
Но только прикрыла веки от усталости, как совсем рядом почуяла немереную силу, за версту, пропахшую колдовством. Сила та была столь огромной, что её обладателем могла быть только природная нежить, притом исключительно с ближнего круга самой Троицы. Баба резко распахнула глаза и перестав дышать прислушалась.
Она собралась с последними силами, и стараясь не подмять под себя сломанную руку, для чего изогнулась, извернулась, как смогла, крутанулась, но без боли движение не получилось. Она вскрикнула. В глазах потемнело, но на этот раз лишь на какое-то мгновение. Прискорбно матерно подвывая, большуха мучительно разлепила веки. Прямо над ней чуть в наклоне, как бы заглядывая со стороны восседала в луже Водная Дева.
Не молодая нежить, но и не древняя вековуха. Дануха аж дух перевела, воздав хвалу Троице, что не Черта матёрая за ней явилась со своим бездонным чёрным глазом, а лишь Водяница, вся прозрачная, сотканная из воды. Её волосы цвета спелой травы, выращенной в тени от палящего солнца шевелились и путались сами с собой, живя в отрыве от могущественной хозяйки как у всех водных нежитей. Лик Девы был не то серьёзным до безобразия, не то спокойным словно водная гладь, Дануха сразу и не поняла.
– Думала не придёшь, – заговорила нежить глубоким грудным голосом, приятным для слуха и сознания, что при её сомкнутых губах зазвучал у бабы в голове переливами, и когда она вела свою речь то по её водному телу пробегала рябь в унисон сказанным словам.
– Будь здрава Дева – вод хозяюшка, – поприветствовала её Дануха с почтением на какое только была способна в столь неблаговидном положении, а именно валяясь на спине и задирая ко лбу прищуренные глаза, и это доводило голову бабы до болезненной ломоты.
Наконец Дануха бросила разглядывать нежить. Терпеть боль больше не было мочи, и закрыв веки расслабилась.
– Прихворнула я маленько, Святая Водяница. Ручки сломаны – не упрёшься. Ножки больны – не побегаешь. Башка дырява, то и дело спать просится.
– Это не беда, Дануха. Это дело поправимое.
– Да уж будь добра Дева дивная, – устало, будто собралась помирать на её глазах, еле шевеля губами принялась попрошайничать баба, но Водяница и без её причитаний уже приступила к своему волшебному действу.
Одной рукой нежить коснулась лба большухи и бабе почудилось, будто ледяная сосулька проросла от её прикосновения куда-то прямо внутрь раскалывающейся головы и там замерла, заморозив заодно все мозги с её жалкими мыслишками, и при этом полностью обездвижив тело, сделав словно вовсе не своим и абсолютно нечувствительным.
Затем Водяница взялась за Данухину голову, но уже другой рукой, проведя ото лба к заледеневшему затылку. Будто тёплая подогретая вода, от руки нежити через кожу и сквозь толстую кость просачивалась внутрь черепа, растекаясь и растапливая ей же вогнанную сосульку. В мозгах в раз прояснилось, полегчало и наступило безмятежное спокойствие.
Ту же операцию проделала Дева с переломанными культяпками. Сначала одной рукой заморозила от чего Дануха перестала их чувствовать, а затем другой оживила оттаивая, приводя покалеченные конечности к здоровому состоянию.
Большуха валяясь на спине и захватывая головой край лужи, подняла к глазам обе руки, сжала пальцы. Разжала опробовав, а так как с ней больше ничего Водяница не делала, то высказала:
– Благодарствую тебе Водная Дева. Хорошо получилось. Вроде как мои, а вместе с тем, как новые.
Дануха уже без боли повернулась, кряхтя, и встала перед родником на голые колени, задрав подол и подоткнув его меж ляжек, не отделяемых друг от друга в связи с повышенной жирностью уж давным-давно.
Прямо перед ней по центру родниковой ванночки восседала баба её роста, как бы вытекая вверх из воды и из неё же сделанная. Водяница наконец-то улыбалась, с удовольствием разглядывая свою работу.
– А как же с ножками, Хозяюшка Вод? Замучалась я с ними, – принялась канючить Дануха с детской непосредственностью, – никакого с ними слада нет с окаянными. Совсем меня толстые не слушаются.
– А что с ножками? – игриво вопрошала Дева, подыгрывая как дитю малому и при этом чуть наклоняя голову будто со стороны рассматривая её пухлые колени, – ножки у тебя как ножки. Кости ни сломаны, ни переломаны.
– Так Водяница ты моя благоверная, ходить-то они болезные не могут совсем.
– Они ни ходить не могут Дануха, а таскать твою тушу замучились. Ничего. Скоро жирок подъешь и запрыгаешь как козочка.
Но при этом всё же живой рукой намочила ноги страдалицы, и та с облегчением почуяла и силу в ляжках, и напряг в ягодицах.
– Век в долгу буду, не забуду милость твою, Водяница.
Нежить перестала улыбаться резко, как об резало. Раздражённо чесанула пальцами зелёные волосы с одной стороны, после чего с другой пригладила и уже на полном серьёзе с неким укором в голосе, как показалось Данухе, холодно проговорила:
– Ты на век-то не рассчитывай баба. Не дано тебе. А что долг на себя берёшь, правильно. Только за тобой должок ещё и до этого был, коли помнишь. Так что за «теперь» почитай вдвойне спрошу.
Дануха округлила глазки, ну вот как есть девка несмышлёная, прикидываясь полной дурой. Потому что эта часть беседы ей откровенно начинала не нравиться, а Дева тем временем вперив в неё очи с водяными кристаллами и принимая торжественную осанку стала в командном тоне изрекать наставления:
– Река течёт, вода меняется, а за тобой Дануха долги водятся. У речной жизни старой русло высохло. Степь пожаром охвачена. Человечьими телами устилается. Всё сгорит. Скоро опустеют исконные речные земли. И тебе надлежит породить новую жизнь. Только не так как раньше. Тому что было, не бывать. Соберёшь и засеешь новое. Все, кто к тебе пристанет – сделается твоим. Забудь, что знала о бабьей жизни. Но не забывай, что тебе как бабе от Троицы дано. Породишь три простых и понятных всем закона, из которых не будет ни одного исключения, и принявшие их, но нарушившие, жить не должны. На том сама стоять будешь и семя строить в железной узде и без жалости. Нет больше родства крови, будет только родство принявших твои законы. Пусть не коснуться они веры, но устоям прежней жизни не бывать. Отречёшься от всего. По-человечьи жить откажешься, станешь лютовать по-звериному. Накормишь жизнями злыдней, то что вас сроднит. От реки уйди. Но из своих земель тебе хода нет, а разносить новое будут твои наречённые сёстры. Ты же станешь собирающим столпом. А теперь иди и про свои долги не забывай.
Дева тут же потеряла свой образ и потоком воды рухнула вниз, рассыпаясь брызгами и расплёскиваясь волнами в луже змеиного источника. Вот она была, и нету.
Крепко тут призадумалась Дануха. Уж больно любит нежить заковыристо излагаться. Толи в пень тебя имела, толь в колоду сунула. Как хош, на того и похож. Зачерпнула в ладонь живительной влаги, побулькала во рту и набранное проглотила, утерев рукавом мокрое лицо. Встала, покрутила головой в сером сумраке ища свою блудливую сороку, явно от нежити где-то затаившуюся, и вслух запела тихим голосом:
– А куды пойти мне, а куды податься, может быть кого прибить, аль кому отдаться. . .
Дануха вернулась к своему сожжённому куту, улеглась на бугре-завалинке, на мягкой травке под кустом смородины и принялась переваривать случившееся, тут же вспоминая свои былые промахи…
На Святки[45 - Полнолуние. 22 седмицы от зачатия. Святки – страшные вечера. Атаманские, т.е. главные морозы. Производилось ритуальное кормление воздушной нежитей Снежной Девы и Отца её Вала Морозного. Единственный раз в году, когда проводилось ритуальное ряженье. Рядились и одевали маски только мужчины. Женщины, так же рядились, но масок не одевали. Табу. Вместо этого они разукрашивали руки, лица и волосы различными красками, наводя своеобразный ритуальный макияж. Ряженные ритуалы святок были очень серьёзные, пугающие и опасные. Главными действующими лицами были родовой колдун и большуха. Каждый ряженный не только облачался в какой-либо образ нежити, но и вводя его в определённое психическое состояние, вселяли в него нежить. Человек превращался в живую куклу, в которой бесновалась потусторонняя тварь. Вся нежить, кроме Валовой, с приходом зимы скрывалась с земли, а вот таким образом её можно было из небытия достать, не опасаясь, что она расползётся, но для человека, играющего роль куклы, это было очень опасное занятие. Кое у кого «крыша ехала». После окончания обряда никто из ряженных, которых выводили из этого состояния строго определённым способом и только в бане, абсолютно ничего не мог вспомнить. Основная задача этих ритуалов – дать возможность социуму непосредственное общение с миром Троицы, либо с какой-либо нежитью персонально. Контакту с этими материализовавшимися нежитями подвергался весь молодняк: и девки, и парни. Большуха и ведун чётко следили за этим. Уклониться и избежать контакта было невозможно. Молодняк сдавал некий экзамен на психическую и психологическую зрелость. Процесс этот сопровождался для каждого страхом, до «наложения под себя» и прилюдном унижении, лишний раз показывая подрастающему поколению его сегодняшнее низкое социальное положение.] то дело было. Артельные мужики замучились чуть ли не каждый день торить дороги, откапывать вешки и поправлять санный путь на льду реки. Всю седмицу валил нескончаемый снег. То с ветром и метелью, то тихим сапом. То большими хлопьями, то мелкой колючей крупой.
Баймак с бабьими жилищами и шатровый постой артельных мужиков, тут же пристроившийся за огородами уже давно слились в один снежный настил покатыми искристыми буграми. Если бы не дымки очагов, струящиеся повсюду в мутное, хмурое и беспросветное небо можно было подумать, что эта идиллия бескрайнего зимнего пейзажа девственно чиста и никем не обитаема. В монотонность плавных снежных волн влился даже некогда чёрный лес с хвойной зеленью, что стоял чуть поодаль баймака и теперь казался огромным пористым сугробом.
В каждой бабьей землянке поутру раным-ранешенько происходят одни и те же рутинные события. Изо дня в день, из года в год. Хозяйка, как всегда, продирает зенки первой из всех. Подбрасывает в очаг дров, что погаснуть за ночь не должен ни при каких обстоятельствах. Если огонь в очаге погаснет и не раздуть, то это верная беда для бабьего кута. Тут и весь бабняк встаёт на уши. Как-никак чрезвычайная ситуация.
О таких делах Дануха слышала за свою долгую жизнь ни раз, но в Нахушинском баймаке на её памяти подобного никогда не было. Она своих баб за содержание домашнего огня держала в лютой строгости и каждый очаг во всём поселении знала, как родной. К этому её ещё мама с раннего детства приучила. Потому очаг был первым, кого будила и кормила каждая хозяйка, а уж потом только бралась за себя и за домашние дела.
Умывалась в ушате с нагретой водой, что тут же у горящего очага стоял, прибирала волосы в две бабьи косы и между делом для детворы варганила травяной отвар с молочной кашей-болтушкой, наполняя её чем не попадя.
У каждой бабы были свои вкусы, свои предпочтения, что от мам к дочерям уходили родовыми секретами. Кто орехом толчёными с семенами сдабривал, кто листом сухим, перетёртым с кореньями, кто с лечебным сбором коли хворь какая с детками случалась.
В этом отношении Дануха единых правил не устанавливала. Носа своего в бабьи котлы не засовывала. Они сами знают, что делать и влезать ещё в эту обыденную шелуху большуха себе никогда не позволяла, хотя нет-нет да проверяла, кто чем ребятишек пичкает.
Но это так, для других подкожно-задиристых целей, так сказать в качестве превентивных мер. Надо же было большухе иметь повод кого за волосы потаскать и по мордасам похлестать по случаю. Дануха не имела права быть доброй. Её бабы должны как одна уважать, а значит, как огня бояться. От этого зависела спайка бабняка и его единение, а стало быть и лёгкость в управлении.