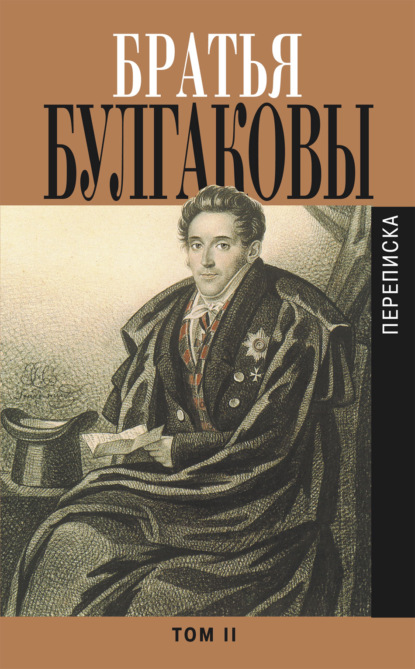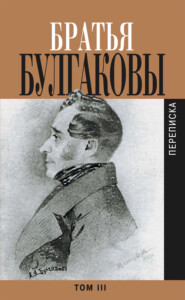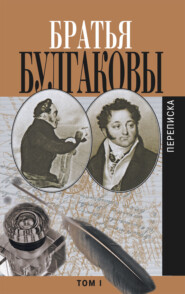По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Братья Булгаковы. Том 2. Письма 1821–1826 гг.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я было писать к тебе, любезный друг, вдруг записка от Софьи Сергеевны [Макеровской, супруги Фавста Петровича]: «Ради Бога приезжай, имею крайнюю нужду». Я с беспокойством пускаюсь к ней, и вышло, что почти по пустякам. Зачем не написать? Вчера ее Фаска, осаживая карету, тронул колесом в городе, где всегда тесно, какую-то пьяную бабу; она ну кричать «караул», выхватила шляпу у лакея, ну ругать берг-инспекторшу, требовать ее имя и чтобы дала подписку, что пришлет кучера в часть. Наша бедная обер-берггауптманша 6-го класса перепугалась, подписала мир на барабане, приняла все условия и поехала домой, как на смерть осужденная. Выходит, что эта негодная баба – какая-то титулярная советница, промышляющая такими историями. Надобно было сунуть ей бумажку синенькую, и все бы кончилось. Фаска на съезжей, но все это мы устроим. Жаль только то, что сама встревожилась, да у меня отняли золотое время.
Александр. Москва, 27 декабря 1821 года
Скажи Закревскому, что вчера делали приятелю его Василию Ивановичу Путяте [отцу Николая Васильевича Путяты, который позднее служил под начальством Закревского в Финляндии] операцию. Взял ее на себя доктор, приехавший из чужих краев с Киндяковым. У Путяты был на правом плече наросток, который его безобразил и всякий год прибавлялся; решился на операцию. Доктор надрезал плечо крестообразно, поднял кожу и вынул оттуда ужасную массу какого-то жира. Все совершилось очень хорошо и благополучно.
Сегодня обедали мы у Фавстейшего. Ужо в Собрании маскарад, на который собираются все, и все в масках. От этого маскарада записалось человек 500, ибо, кроме членов, никому нельзя быть, ни вниз, ни на хоры. Завтра обедаем у Карнеева, а в среду новая опера «Клотильда». Посмотрим. Был я вчера у Малиновского; он в восхищении от того, что ты пишешь, и я очень рад. Он, бедный, глаза потерял от этой выписки. Нужно наградить чиновников, это одобрение для переду, а ежели составятся такие выписки прочим дворам, как и турецкому, то будем иметь прекрасный исторический и дипломатический документ, делающий честь нашему архиву. Турецкая же выписка очень выходит полезна по нынешним обстоятельствам. Как ни говори, а архив, право, отличается. Я удивляюсь, что не присылают свежих бумаг, ибо последние все только до 1762 года доходят. Малиновского очень ободрило одобрение начальства. Надобно признаться, что он трудолюбив: имея Сенат, больницу [то есть Шереметевский странноприимный дом, где А.Ф.Малиновский и жил], грамоты румянцевские, успевает еще делать полезные выписки. Тут приложен алфавит (как во «Всемирном путешественнике»), поэтому все тотчас можно отыскать.
Александр. Москва, 30 декабря 1821 года
Навеселились, насмеялись, наелись, наигрались, да и ложимся уже спать, а нет еще полуночи. Вот как надобно бы делать всякий день. Дети были в восхищении, я не один раз вспоминал о твоих. Зачем не было их с нами? Костя переодевался, верно, раз пять. Большой проказник, всех смешил, удивительный ребенок, плясал по-русски, мазурку, вальсировал, и все это – не учась никогда, и все это хорошо. Был детский ужин, мы все с детьми танцевали также. Жаль, что Фавст далек, а то бы и его малюток тоже зазвали на пир. Мы играли в вист, княгиня Е.Л., Лунин, Керестури и я. Знай, что я выиграл 56 партий по 3 рубля, что и составило 168 рублей! Очень было это не лишнее. Поутру зашел я, гуляя, к Лунину; у него славный бильярд. Мы одной силы с князем Трубецким, братом графини Потемкиной, женатым на Бахметевой, горяченький игрок! Только от 12 рублей – 50 рублей он, дублируя, проиграл мне 800 рублей. Я сам желал, чтобы он отыгрался, и кончилось все-таки тем, что я выиграл 400 рублей.
Завтра зван на реванш. Являюсь. Выигрыш буду рисковать, но своих не проиграю ничего. Керестури, парируя за меня, выиграл тоже 600 рублей. Годится на дорогу. Он едет сегодня в ночь в Петербург с графом П.А.Толстым и расскажет тебе о нашем житье-бытье. Обедал я у Потемкина, где только и речи было, что о итальянцах. Был тут и Юсупов. Также много говорили о маске, которая мучила Завадовского и всех. Я уверял всех, что это будто француженка одна, живущая у княгини Щербатовой. «Многие думают, что это ваша жена», – сказала графиня Потемкина.
«Нет, вовсе нет, – возразил Юсупов, – думают, что это какая-нибудь иностранка, и она говорила только по-итальянски, очень хорошо». Наташа в восхищении, что удалось ей обмануть всех.
Поутру, заигравшись в бильярд, не был я в собрании. Оно было очень шумно, и блудный сын Долгоруков чуть не подрался с Кологривовым А.С. Вдруг затевают. Хотят нарядить комитет, чтобы переделать все правила и законы собрания, яко ветхие, хотят пускать на хоры за деньги, запретить туда вход членам и проч. и проч. Все это так глупо, что не заслуживает возражения. Башилов проповедовал, а проект, как говорят, С.С.Апраксина и князя Юрия Владимировича Долгорукова. Я, с одной стороны, рад, что не был, ибо, может быть, напрасно бы погорячился. Ничего не решено, и теперь хотят публиковать в газетах, чтобы всякий член прислал свое мнение поименно. Во всем этом нет никакого здравого смысла. Потемкин тоже много чего горланил. Я ему, однако же, сказал за обедом и Башилову, что всякий член – хозяин в доме, ему нельзя запрещать быть везде, где хочет; что установить цены на хоры – это сделать из них шинок, что эдак и мужик в лаптях вправе войти с кувшином вина в пазухе, лишь бы имел 2 рубля лишних. Хотят отдать на решение государя, и это глупо. Государь член, как и все, и, верно, никогда не употребит своей власти и влияния в частном обществе. Я боюсь, что все накутерьмят и все отдаляются от цели созывания, которая была найти средство поддержать отделение, до коего собранию, имеющему лишний капитал, дела нет.
Итак, с вашим «Инвалидом» будет то же, что с нашим отделением. Жаль, Пезаровиусу должно быть больно. Его трудами и терпением «Инвалид» приобрел большой капитал и напоминал нам время своего основания: бессмертный 1812 год. Многие будут сожалеть о прекращении «Инвалида»; положим, что заменится и другим, но новый журнал не внушает большой доверенности.
Что, бишь, слышал я вчера? Да, свадьба в городе. Есть богачи Хрущовы на Пречистенке, у них 14 детей, и между прочими дочь одна, фаворитка и баловень, собою незавидна. Она замуж идет за Нарышкина, полковника, с носом полишинеля и сына полишинеля Ивана Александровича. Говорят, и сынок глуп. Кричали о миллионах; но домашний мне сказывал, что дают 600 душ, 100 тысяч рублей деньгами, приданого на 40 тысяч; правда то, что молодые будут жить в доме, избавленные от всяких расходов. Это большой пункт, но это ведь до поры до времени. Ты пишешь, что об этих Хрущовых были неблагоприятные слухи насчет бумажек; но они разбогатели от откупов.
Был я зван к Вяземскому обедать; но, предвидя по званым гостям, что заставят пить, я не поехал, а явился после, нашел их еще за столом и не ушел от двух рюмок шампанского. После в восемь трубок курили в его кабинете и такой подняли дым, что я пошел к княгине поглотать свежего воздуха, поиграть с детьми и отретировался домой потихоньку. Ввечеру, как сказано выше, были у нас гости, и время провелось очень приятно. Я отдал Керестури так называемое рекомендательное письмо к санкт-петербургскому почт-директору. Вчера являюсь к Пушкиным и очень был обрадован, найдя тут калужскую гостью, Софью Шаховскую. Приехала на три дня повидаться со своими. Они все меня атаковали: поезжай я непременно в Калугу, где 6-го будет бал у Полуэктова, а 7-го у Шаховских; туда едут Волконские и Варенька; Вяземский едет, ежели я поеду. Признаюсь, несмотря на все желание угодить моей фаворитке, не могу решиться. Хочется последнее это время быть со своими, да и не хочу упустить дело графа Каподистрии. Во всякое другое время я бы решился на приятную эту прогулку, но теперь придется отказать.
Я рад, что скоро вырвался от Гагарина, который задал нам славный обед. На столе было славное плато, привезенное ему из Парижа графом Нессельроде, а за десертом подавали венгерское вино, купленное еще дедом его. Княгиня очень грузна, насилу ходит. Спор Кологривова и блудного сына имел последствия. Последний послал первому картель, и Кологривов не постыдился этому мерзавцу написать письмо, в коем просит прощения, а Долгоруков тут же помчался показывать это письмо всем в Английском клубе. Хороши оба! Чем-то все эти прения насчет собрания кончатся? Волков, к моему удивлению, тоже мнения пускать на хоры за деньги; я у него был вчера два раза, но не заставал все дома. Видел я у Гагарина молодого Самойлова, но не нашел той красоты в нем, о коей так много кричали. Вяземский просит тебя доставить прилагаемые письма и посылку к Гнедичу.
1822 год
Константин. С.-Петербург, 2 января 1822 года
Объездил я министров, но во дворце не был. Возвратясь домой, нашел я от своего князя [то есть от князя Александра Николаевича Голицына] письмо: «Государь император всемилостивейше соизволил, чтоб ваше превосходительство имели вход за кавалергардов, о чем я и сообщил князю Петру Михайловичу Волконскому для зависящего от него распоряжения». Это весьма приятно, доказывая благорасположение князя и милость государя; стало, год хорошо начат.
Вечером был я в маскараде, где ужасная была толпа. Приятно было смотреть на ангельского нашего государя. Так как мне прислали также билет в Эрмитаж, где был ужин, то и там я был. Театр, где ужинали, был чудесно убран и походил на некое волшебство. В тех залах только и спасения было, что танцевать польский, который обходил вокруг всего дворца по всем комнатам. Государь очень милостиво мне поклонился. Пожалованы три Аннинские ленты генералам инженерным. Князь Николай Долгоруков пожалован в должность гофмейстера. Из Парижа приехал Погенполь. Он мне сказывал, что там поручился в 6000 франков за Корсакову, без которых она не могла и ехать. Не получая денег, банкир выслал на нее вексель, но и тот возвратился протестован, и теперь с Погенполя требуют заплаты. Ему это очень прискорбно.
По Вене я знаю, что ни за кого не надобно быть поручителем; я сам был раз в дураках, а покойный князь Александр Борисович [Куракин] заплатил с лишком 100 тысяч гульденов, потому что меня не послушал и не умел отказывать. Ужасно, как после бесился, но делать было нечего. Я чаю, и умер, не получив всех своих денег в возврат.
Александр. Москва, 2 января 1822 года
Вчера встаю и нахожу в зале множество почтамтских чиновников, ожидавших, чтобы я проснулся. На свой счет взять я это не мог; но я им сказал, что тебе напишу и тебе очень будет приятно узнать, что в отсутствие твое относят они любовь свою ко мне.
Между разговоров является вдруг Рушковский, которого впервые вижу с орденской лентой через плечо. Долго разговор был всеобщий; после отвел он меня в гостиную. «Мне надобно спросить у вас совета; я в затруднении». – «Что такое?» – «Вам известно, что, поскольку выбор моего помощника был предоставлен мне, и зная на этот счет мнение вашего брата, я объявил г-ну Трескину, что он будет моим заместителем». – «И вы очень правильно поступили». – «Да, но послушайте: вчера вечером г-н Рунич, который служит в Сенате, является ко мне и просит того же места, прибавляя, что мне надобно только написать записку князю, что он предупрежден и что мое представление будет одобрено… Что же мне делать?» – «Я удивляюсь, что вы меня о сем спрашиваете. Ваше слово должно быть неотменимо, кажется; поместить другого – значит, дать пощечину г-ну Трескину, прогнать его с почты, ослабить усердие всех служащих почты. Как можете вы делать соперником бездельника, каков Рунич, служащий в другом месте, для г-на Трескина, который 29 лет экспедитор, 16 лет коллежский советник и через чьи руки, вы сами говорите, прошли 4000 миллионов?» – «Правда, но как же князь?» – «Прежде всего, князь ничего вам не писал; можно какие угодно слова ему присвоить, а бывают и общие слова, кои принимают за согласие и истолковывают в свою пользу; впрочем, князь слишком справедлив (ежели допустить, что он обещал г-ну Руничу), чтобы не отдать предпочтения Трескину, в особенности когда узнает, что вы дали слово». – «Да ведь тогда все Руничи будут против меня». – «Лучше это, чем иметь против себя всю почту и плохо исполнять императорскую службу. Можете быть совершенно уверены, что, если вы сделаете такой афронт почтенному Трескину, все уйдут. Какая для других перспектива? Служить 30 лет и после быть помещенным под начало какого-нибудь молокососа. Поставьте себя на место Трескина».
Долго я его уговаривал; наконец он решился, что представит обоих, и князь выберет кого ему угодно. Я этого не мог одобрить никак и доказывал Рушковскому, что ежели Трескин получит место, то ему не будет нимало обязан, а князю одному, что это ни Трескин, ни все прочие экспедиторы ему не простят, что я знаю от тебя, что московский почтамт держится отличными своими чиновниками: что ежели он их разгонит, то после не сладит сам и рано или поздно сам будет жертвою. «Ну ладно, хорошо; если меня сделают сенатором и лишат места, у меня будет меньше выгоды и меньше хлопот!» – «Тогда от вас зависеть будет не иметь сих хлопот; но зачем расстраивать почту?»
Я этого человека, право, не постигаю. Он уверяет, что всему виноват Серапин: он тотчас уведомил Руничей о перемещении Кривошапкина, а то бы никто не знал о вакансии. Хотя бы и так было, все это не оправдывает Ивана Александровича. Он просил меня держать сие в секрете; я отвечал, что все сие мне известно уже три недели и что в понедельник я буду писать тебе, разумеется, прося тебя сделаться защитником Трескина, и дать тебе возможность защищать перед князем справедливое и хорошее дело станет для тебя лучшим подарком к Новому году. Я не мешаюсь не в свои дела, но уже ежели Иван Александрович сделал мне эту честь – требовать моего совета, я не мог ему не напеть все, что было на сердце. Он ненавидит Трескина за его откровенный, суровый и несгибаемый характер. Вот тебе и все дело.
Александр. Москва, 3 января 1822 года
Вчера насилу убрался с бала в половине четвертого. Хотя и не скажу, чтобы очень было весело, но, потанцевав, захотелось что-нибудь съесть, поймал студени кусок, вина рюмку, да и ну бежать, жена уехала до ужина, голова болела. Общество было отличное, но кавалеры все что-то ленились. Матушка была в больших ажитациях и выказывала дочек Завадовскому и графу Салтыкову. Последний молодец и славно танцевал мазурку, а Завадовский, танцуя ее, вдруг упал плашмя, головою и лицом вперед. Все думали, что он себе нос раздробил на сто кусков.
Благодарю тебя очень за приказ, коим сделал я приятное Киселеву; он думал, что отставки не получит, а она вышла, и с мундиром. «Зачем идешь в отставку?» – «Очень надоел Веревкин[55 - Тогдашний московский комендант, приемник А.А.Волкова.]: то шляпа не по форме, то сюртук, то бранит за фуражку, к чему-нибудь да придерется. Теперь нечего будет говорить». – «Как нечего? Напротив того, сегодня бы тебя и бранить стал, ежели бы здесь был». – «За что? Нет, я по всей форме». – «Ан нет: снял бы с тебя эполеты, как смеешь отставной носить эполеты». Нехудо делает, однако же, Веревкин, что наблюдает строгость, а то скоро бы все надели фраки. Это позволяет себе Ев. Иванович Марков. Веревкин проиграл ему намедни 100 рублей в вист. На другой день дает ему пакет, говоря: «Исполняю мою обязанность». Тот отвечает: «Зачем торопиться?» – «Долг мой – такие вещи не отсрочивать», – отвечает комендант. Марков кладет бумагу в карман, но какое его удивление, найдя дома не сто рублей (кои Веревкин отдал после), но экземпляр приказа коменданту о наблюдении за военными, чтобы они одевались по форме? Наш Волков на такие финесы не пускался.
Константин. С.-Петербург, 4 января 1822 года
Вчера получил я приятный сюрприз доставлением ко мне докладной записки и подписанного указа о моей пенсии; теперь все устроено на прочном основании. Дай Бог долго пользоваться царской милостью. О сем докладывали графы Нессельроде и Каподистрия. Государь изволил найти, что это очень справедливо, и тотчас подписал изготовленный указ. Потом отдали они копию с указа князю Александру Николаевичу, и тот мне его сообщил при самых лестных и дружеских уверениях в своем участии и удовольствии.
Александр. Москва, 5 января 1822 года
Во вторник был в Собрании славный маскарад, много масок, теперь уже 800 человек, и все еще записываются вновь: лишняя причина не соглашаться с злополучным проектом пускать на хоры за 2 рубля: то будет срам. Я много спорил со Степаном Степановичем Апраксиным и Башиловым. Немало будет еще шуму. Я решил для своей очистки подать особенный голос, который впишу в журнал, а там они делай себе, как хотят. Время определит, кто прав, а браниться с ними я не намерен. Юсупов, Масальский и многие хотят подписать мой голос, но поскольку я не стремлюсь становиться главою партии, то составлю бумагу так, чтобы я один мог ее подписать и никого не задеть. Апраксин мне сказал: «Старшины хотят быть деспотами, это не годится». – «Да вы, Степан Степанович, – отвечал я ему, – не старшина и не деспот, а подаете голос, коим требуете, чтобы законы собрания были совсем переменены; это еще хуже».
Александр. Москва, 9 января 1822 года
Меня очень порадовало извещение князево о воле государевой, чтобы ты имел вход за кавалергардскую. Ни по месту, ни по чину ты бы права сего не мог иметь; это очень лестно! Я от души порадовался, вот и год начался хорошо.
Князь бесценный человек! Отрада служить у такого начальника. Я ему все это приписываю: слишком бы велико было счастие полагать, что государю самому пришла мысль присвоить тебе лестное это право. Ай да брат, спасибо тебе за добрую весточку. Лишний раз тебя обниму. Ходи себе за кавалергардов, да и только. Милостивый поклон тоже раздался в душе моей! Кажется, вижу ангельскую улыбку, заменяющую всякую награду. Здесь ходит список наградам; но тут многие, о коих не упоминаешь, то и не очень я верю. Между прочим Шатилов сделан камер-юнкером, жена его очень обрадуется. Ей давно хочется переехать в Петербург, вот теперь и случай. Кажется, этим кончится, ибо продают свой дом. Ты ее помнишь, она красавица. Тебя затормошили обедами, а я от многих отказываюсь: хочется напоследки почаще бывать со своими. Сегодня не еду к Вяземскому, куда будут Бутенев и Дашков; последний подобрел и стал, кажется, здоровее. У Вяземского много поят, поздно обедают и долго сидят слишком.
Поступок Корсаковой с Погенполем меня не удивляет. Римские дамы эдак не поступали, но наша Римская все себе позволяет. Здесь должна целому городу, никому не платит, а балы дает да дает. Мало у этой женщины доброжелателей. Жаль детей, коих она разоряет совсем.
Константин. С.-Петербург, 14 января 1822 года
Бал был прекраснейший, хоть не столь многолюден, как 12 декабря. Императрица Мария Федоровна очень хвалила почтовую книжку и благодарила меня за нее. Видно, Виламов, которому я послал один экземпляр, поднес ей; вообще все очень были милостивы. Во время ужина государь подзывал меня к себе (он не ужинал), долго изволил и чрезвычайно милостиво разговаривать. Я благодарил его за пенсию. Он мне отвечал: «Я был очень рад сделать что-нибудь для вас приятное». – «Вы сделали более, государь: это подлинное благодеяние». Также прибавил он: «Я пожаловал то, чего вы просили, вашим служащим». Я за это его благодарил, то есть аренда Гану и проч. Всякий раз, что с ним поговоришь, то, кажется, больше еще его обожаешь.
Танцевали между прочим французскую кадриль дочь князя Петра Михайловича, новая фрейлина Хитрово (Алексея Захаровича дочь), Бакунин и граф Моден, и очень хорошо. Купеческая зала, в которой ужинали, прекрасно была убрана и освещена; одним словом, нигде таких балов не бывает, да и средств таких не имеют. Ну, где найти три залы, как Георгиевская, Белая и Купеческая? В других дворцах и одной нет этой величины, а такой красоты, как Белая, нигде не найдешь. Во время конгресса в Вене из придворного манежа принуждены были залу сделать и присоединить к ней комнату, куда входили по лестницам. Это уже не то.
Поутру был я также, мой милый и любезный друг, во дворце, и за кавалергардскою, где гораздо приятнее, чем на прежнем месте. Тут фамилия останавливается и делает круг, а там только проходит себе к обедне. Государь пожаловал орден прусским чиновникам за конвенцию, но их должны были вручить только при размене ратификации, которую еще Голдбек не получил; вместо того рескрипт президенту коллегии был уже в последних петербургских газетах напечатан.
Александр. Москва, 16 января 1822 года
Сегодня у меня прощальный ужин для приятелей, а уже последнее время посвящу единственно жене и детям. Завтра поспеет Костино[56 - Знаменитый впоследствии своей даровитостью, остроумием и шалостями Костя Булгаков определялся в Лицейский Царскосельский пансион.] дорожное платье, кибитку уже вычинили, и пускаюсь, – я не Потемкин, на меня запрещения нет. Он выехал из города в санях в одну лошадь, под видом гулянья, и полиция имела приказание его догонять, но он догадался и выехал не в ту заставу; на днях едет графиня вслед за ним в Петербург. Какое это житье и что пользы в богатстве? Кстати: графиня делала подписку, к коей приглашала и мою жену, а именно: не носить ни блонд, ни кружев, ни перьев и проч., ездить на балы в простых креповых платьях без накладок. Деньги, кои останутся дома, отдавать бедным; но, кажется, это так и останется, несмотря на согласие многих здешних щеголих. Это слишком прекрасно, чтобы осуществиться. Как бы мадамы Кузнецкого моста не отравили графиню Потемкину за дерзкое ее намерение.
Вот письмо от Вяземского к Тургеневу. Бог даровал ему вчера (разумеется, не Тургеневу, а Вяземскому, что, впрочем, тоже быть могло с левой стороны) дочь Надежду. Вяземский пишет, что княгиня и мамзель Сперанская обе здоровы.
Александр. Москва, 17 января 1822 года
Вчера, как я писал тебе, собрались ко мне приятели на прощальный вечер, любезнейший друг. Я был в опере, куда звал меня Юсупов в свою ложу; после первого акта уехал домой, где собралось уже много православных, а после оперы наехали и остальные. Были Карнеев с женою, берг-инспекторша [то есть Софья Сергеевна Макеровская], П.П.Нарышкин с дочерьми, Озеров и Волков без жен, граф Ф.А.Толстой, от коего не мог отговориться от обеда сегодня, Осипов, Чумага, Лунин, Лунина и Риччи (а он болен горлом и не выезжает), Шатилов-красота, Брокер, Вейнбрехт, Обресков, князь Питер (а Пашенька поехала в Ростов Богу молиться), Метакса (этот готовил нам ризи по-венециански, коими мы объелись). Еще доношу тебе, что нельма была славная: как ни была уродлива, почти всю отправили, осталось только немного для Алены Максимовны [няни детей Булгаковых]; пили шампанское счастливому пути, а большая часть, кланяясь: «Я поздравляю братца с будущим вашим приездом в Петербург». Ах, забыл еще Саччи, который врал более обыкновенного. Играли в три стола в вист, я 51 рубль таки зашиб. После ужина началось маленькое курение, и мы проболтали до трех часов, вот как!
Вчера явился обоз из Белоруссии, ехал 17 дней; я почитал его пропавшим и не знал, что думать. Привезли обыкновенную провизию, которая очень будет освежать карман. Спешу скорее отправить назад: корм мужиков дорого становится, ибо даю им и завтракать, и обедать, и ужинать, да и попойку вином. Они кормят нас целый год: можно их покормить несколько дней. Я велел привезти двух мальчиков: одного отдать учиться верховой езде, а другого – на завод конный к Муратову, чтобы сформировать из него шталмейстера. Оба годятся нам на начинающийся завод. Ефим пишет, что лошади процветают. Хорошо бы прибавить число кобыл; но где взять то, чем их достают?
Вчера получены свежие письма из Одессы. Чумага сказывал, что дела турецкие устроены к обоюдному удовольствию, что Суццу выдать, как и следовало ожидать, не согласились, но что, в удовольствие Дивана, велено ему будет выехать из России. Все это лучше должно быть известно у вас; но Чумага требовал, чтобы я тебе написал важное это, по его мнению, известие.
Константин. С.-Петербург, 18 января 1822 года
В 10 часов жена за мною заехала, и пустились на бал к княгине Голицыной, где был весь город. Поутру вся императорская фамилия приезжала поздравить ее. Император был первый, которого, вставши, она видела. Мы были также утром у нее и нашли ее в восхищении от милости государя и государынь. Потом стали валить с подарками внучата, принесли правнучат, и явилось множество дам и мужчин с поздравлениями к доброй старушке, которую нельзя не уважать сердечно.
Александр. Москва, 19 января 1822 года
Наташа, сообща с Карнеевою и берг-инспекторшей, взяла ложу на все представления до Великого поста. Обошлось всякой по 140 рублей. Я очень рад, что она будет иметь это утешение без меня. Жаль только, что заводятся большие интриги, и не у актеров, а у зрителей: все партии. И Гедеонов дурачина, коего посадили директором, вместо того, чтобы возвышать пение всякого, хулит всех, а одобряет одну Анти, в которую влюблен. Что же дирекции за выгода, что будут освистывать Замбони и что театр будет пуст, когда она поет? Худой расчет, а ежели отца Замбони огорчать станут, – все пойдет к черту, ибо им все держится. Юсупов мне предлагал директорство, но я с ума еще не сошел. Тут служат Юсупову и компании, а не государю, да не 50 тысяч жалованья, а ложа из милосердия. Негри за все свои труды и кресел не принял, а платит за них.
Вообрази себе, что подрядчики, коим граф Потемкин должен был за разные материалы, догнали его на дороге, узнав, что он поехал на Троицу; они его там настигли и цап-царап, не выпустили, покуда он не подписал, по требованию их, всех обязательств. Это много наделало ему бесславия в городе.