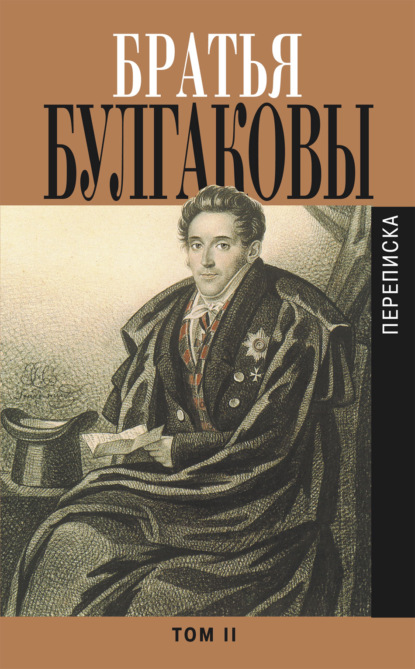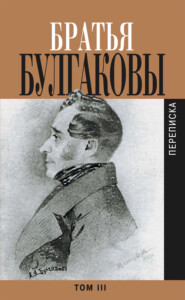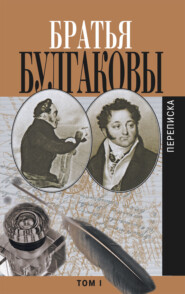По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Братья Булгаковы. Том 2. Письма 1821–1826 гг.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Александр. Москва, 30 июля 1821 года
Зашел я к Вяземскому, долго у него сидел; болтали, я его пожурил. Он сам сознается, что был, может быть, неосторожен в разговорах, но все-таки мнения, что к нему только придрались и что вдруг так не наказывают; что Новосильцев мог и должен был прежде его предостеречь, и когда бы советы его остались без уважения, тогда только должен он был подвергнуться такому наказанию. «Я жил, – говорит он, – в городе, где все громко и очень свободно говорят; мне, конечно, больно было быть выслану из Варшавы, но утешаюсь тем, что, может быть, я один изо всех русских, заслуживающих уважение не вздорных, но благомыслящих поляков, хотя всегда с ними спорил, когда касалось до блага Польши со вредом России», – и проч. Все это хорошо, но все-таки давно туча вилась над Вяземским; то, что мог ему внушить Новосильцев, внушаемо ему было не один раз мною и Тургеневым. Он все неправ. Помнишь ты письмо его одно ко мне? Я и тогда его кротко журил и писал ему: рой себе яму, но не тащи меня туда же. Его управитель сделал ему славный сюрприз. Ничего не говоря, из сбереженных доходов купил место в Чернышевском переулке и выстроил князю славный дом, каменный, тысяч в 40. Вяземский в него может переехать месяца в два[48 - Князь Вяземский жил в этом доме до переезда в Петербург в 1831 году и был некоторое время старостой приходской церкви Малого Вознесения.]. Это очень любезно для управителя. Мы пошли обедать в Английский клуб, где стол славный. После обеда трое с Иваном Ивановичем Дмитриевым начали болтать, все о блаженном Наполеоне.
Поверить не можешь, как Москва украшается. Кузнецкий мост нельзя узнать. Татищева дом растет, как гриб, и будет важный. Что нового? Кажется, ничего. Да! Вчера была свадьба или пир свадебный Вадковского, бывшего семеновского полковника, не помню с кем. Вдова старика Собакина, полячка, молодая, прекрасная, графиня Белинская, выиграла у наследников свой процесс, и ей достанется 2000 душ. Она доказала, что ее венчали в обеих церквах, хотя и уверяли, что ни в одной, в чем все уверены. Портной один плачет и ищет по всему городу Боголюбова, который ему должен остался более 700 рублей; услыша, что молодчик уехал, бедняк (некто Матиас) сказал: «Ну и дурак же я, сам же пошил ему дорожное платье! Я должен был заподозрить его!»
Александр. Москва, 1 августа 1821 года
Итак, Дмитрий Павлович отправляется в Голландию. Ежели гора не родит мышь, это также не большое чудо; но я в восхищении, что он не остается в праздности. Он будет полезен повсюду. Это аванпост Англии, и он присмотрит за нею лучше, чем Ливен, ибо ненавидит ее от всей души. Я всегда питал слабость вообще ко всем моим начальникам, но Татищев всегда относился ко мне скорее как равный и товарищ, нежели как начальник. Хорошо, что он сохраняет мадридский оклад.
Александр Велиж, 9 августа 1821 года
Сюда приехал я вчера поздно. Бывало, становился я у здешнего полицеймейстера, бывшего нашего опекуна Шестакова; но он умер недавно чахоткою. Здесь есть очень богатый жид Шмерка, просил к себе, но я ненавижу запах жидовский, а потому и стал у исправника; человек очень хороший и во всем нам угождающий по имению. Скоро явился и маршал уездный Алексианов, другой наш опекун. Мы здесь в одной комнате. Явился сюда на мой счет, узнав от Ефима, что я должен был выехать из Москвы в первых числах августа. Здесь стоит конная гвардия, я этого и не знал. Одевшись давеча, зашел я к Алексею Орлову, который очень мне обрадовался; долго болтали, с тем отпустил домой, что приду обедать и приведу с собою Алексианова. Все перебивают, писать не дают, да скоро и обедать пора. Прощай покуда.
Я сейчас от Орлова. Славный задал обед. После обеда травил на дворе медвежонка собачкою-бульдогом, который одержал победу и так втяпался мишке в ухо, что насилу могли его оторвать. Потом играли его трубачи; музыка удивительная: я думал, что ничто не может превзойти трубачей польской гвардии великого князя, коих слышал в Варшаве, но эта еще превосходнее. Они играют все арии Каталани с ее пассажами. Офицеры и полк его обожают; он добр со всеми, но очень строг. Все разошлись, мы остались двое, очень долго болтали о всякой всячине. Он малый благородный, здраво очень судит о вещах, любит душевно Закревского, и это большое достоинство в моих глазах[49 - Алексей Федорович Орлов (позднее граф и к концу жизни князь) оставался неизменным другом графа А.А.Закревского, который, вероятно, благодаря ему сделался московским генерал-губернатором.].
Александр. Москва, 23 августа 1821 года
Фавсту читал я твое письмо № 130, и он тоже выпучил глаза на милостивые глаза императрицы, и он тоже сказал: «Вот у нас какие государыни, а поди иной наш брат командир или еще каналья откупщик и шляпы не скинет тебе». Видно из слов ее величества, какая она нежная мать; зато как и почитается детьми! Спасибо не говорю Потоцкому: по самой справедливости и, яко придворный, не мог он иное говорить. Я этого полячишку не люблю исстари, и Алексеев покойный дурно о нем говаривал, а после нашего дела в совете и в дом к себе не пускал.
Теперь кто будет говорить, что дети твои не прекрасны, когда они таковыми пожалованы или, лучше сказать, признаны именным указом! Спасибо тебе очень, что дело моего Кости улажено, и при сем случае князь опять показал свое благорасположение к нам. Повторяемые ласки государя к детям твоим часто заставляют меня думать о том и сетовать, зачем нет детей у государя. Какое бы это было благополучие для него и для целой России! Но надобно повиноваться воле Божией.
В Смоленске я не ускользнул от свиты генерала Демидова по моем возвращении. Это удивительно, как он походит на Наполеона. Уверяю тебя, что, показываясь во Франции, он мог бы делать фарсы, которые вовсе не смешили бы правительство. Он даже роста того же. Я такому сходству не завидую.
Я с большим удовольствием читал о посещении Андерсона. Ай да англичане! Но ты чрезвычайно умно сделал, что отклонил депутацию. Князю, как он ни добр, могло бы это не показаться. Ты кончил это все славно: честь приложена, и убытка Бог избавил, а господа купцы лучше бы сделали, ежели бы поднесли тебе тысяч триста. Им бы это была безделица, а нам бы годилось.
Тургенев вырвался из басурманских рук. Ну слава Богу! Когда увидишь Александра, поздравь его от меня; никто лучше меня не может чувствовать его радости. Сергей уцелел; надеюсь, что и Киев уцелеет. Здесь тотчас учинили басню, что все это штуки турков, которые положили в один день сжечь Рим, Киев и Иерусалим.
Да, брат, надобно ожидать страшную дороговизну, и наша Белоруссия очень разорится, ежели войска там останутся. Я слыхал, овес был по 45—50 копеек, а сено – по 76 копеек. Кабы как в хорошие годы, накосили бы тысяч на 25 рублей. Сожалею о бедном Голицыне. Я обедал с ним у Поццо в Париже; он мне тогда говорил: мое здоровье требует длительного пребывания за границей.
Александр. Семердино, 31 августа 1821 года
Чрез директора Лицейского пансиона имеем мы новый опыт Князева [то есть князя Александра Николаевича Голицына] благорасположения, а польза вся обратится на Костю. Не поверишь, как он мил в мундире!
Кстати, я все забываю тебе написать, что в Москве носились слухи неблагоприятные насчет князя, что он не пользуется прежними милостями государя и проч.; иные даже уверяли, как известие верное, что князь сослан. Благоразумные люди не верили сим гнусностям, а время их оправдало. Выходит, что слухи сии распускаются по Москве каким-то Ястребовым, служившим, говорят, при князе и ныне находящимся в отставке. Спасибо князю за пособие, выпрошенное несчастным моим грекам. Признаюсь, что душевно желаю им успехов; пусть отмстят за то, что Якова Ивановича держали 27 месяцев в тюрьме. Правда и то, что заключение сделало славу и фортуну батюшкину. Что-то вам расскажет Тургенев, как будет в Питере?
Я получил письмо от графа Чернышева, а с ним и экземпляр его «Гатчинского театра»; есть и хорошее, но куда и дурного много, дурного фарса, под коим я не захотел бы поставить свое имя, разве что, самое большее, инициалы. Буду ему писать и расхваливать, ибо молодых поэтов должно анкуражировать.
Александр. Москва, 16 сентября 1821 года
Поехал я к Закревскому, который меня не ожидал и чрезмерно мне обрадовался. Сидел в шлафроке. С одной стороны душила его родственница Пашкова (ура Москве на тетушек!), а с другой – доктор Пикулин развязывал аптекарский гостинец для бока, который он ушиб, упав с коляскою где-то около Новгорода, но боли большой нет. Он приехал из подмосковной сюда на три дня полечиться.
Как Пашкова уехала: «Ну, Александр, дай же себя поцеловать еще раз на просторе, садись ближе!» Я ну благодарить за Костю, поздравлять с чином, с отдохновением, ну говорить о тебе. «Ну, ты, надеюсь, Константином доволен; я было хотел тебе привезти известие, но он не согласился: нет-нет, ты опоздаешь двумя днями, а у брата в два дня крови перепортится 20 фунтов». И тут ты пекся обо мне! Закревский взял слово быть к нему непременно в подмосковную, где хочет дать праздник Ермолову.
Вбегает Аграфена Федоровна: «Ах, здравствуйте, любезный Булгаков!» – «Здравствуйте, сударыня». Поздоровались. «А обещание?» – «Какое обещание?» – «Обещание, данное вами моему брату». – «Ах да, конечно, – и ну хохотать. – О, я его выполню, но теперь на нас смотрит слишком много народу». Она от Петербурга без ума. Мы только что болтать, а тут то один, то другой. Хотя никого не велено принимать, явились Ренкевич, Денис Давыдов, а тут погодя и Ермолов с сестрою и зятем. «Прежде всего возле тебя другой брат Булгаков». Ермолов меня расцеловал и прибавил: «Вы имеете в Константине брата, а мы приятеля, а целый мир – человека чудеснейшего. Ты не знаешь (оборотясь к Закревскому), что последнее мое обжиранье было у Константина после твоего отъезда; поехал к нему в рейтузах и славно поел на отъезд». Я посидел до 10 часов и улизнул, тихонько сказав Шатилову на ухо, что буду завтра.
Аграфена Федоровна все та же хохотушка, только, кажется, много выиграла в обращении своем. Я ей сказал, что оттого сломалась их коляска, что сидели в ней генерал-лейтенант и генерал-лейтенантша, а делана была повозка только для генерал-майора. Она ну хохотать и побежала в гостиную всем рассказывать. «Как вы себя чувствуете в Москве?» – «Прекрасно». – «Правда, у вас много родственников, друзей». – «Да, но мой брат в Петербурге». – «Но тогда отчего вы так любите Москву?» – «Да оттого, что здесь любят меня самого. Я растроган. Вот, к примеру, какое деликатное внимание со стороны обитателей: приезжаю сюда тайком, ночью; вдруг весь город зажигается, повсюду транспаранты, повсюду буква “А”». Опять хохотать, и опять путешествие в гостиную. Я нахожу, что Ермолов постарел, обрюзг, потолстел, а умен и мил так же. И он не любит Петербург и дивится, зачем посылают людей так далеко в Сибирь; короче всего пошли в Петербург.
Весь город наполнен вздорным слухом о назначении тебя в Царьград на место Строганова, и даже Рушковский верить этому готов и думает, что я скрытничаю; я его уверяю, что быть может и что это для того делается, чтобы его перевести в Петербург. То-то бы хорош был! Он бы в сутки сошел с ума.
Александр. Москва, 19 сентября 1821 года
Я воротился от Волкова; все было хорошо, но что-то не так весело, как обыкновенно бывает. Из Москвы был я и человек восемь плац-адъютантов, много соседей, Николай Николаевич Бахметев, генерал Арапетов, Киндякова с дочерьми, другая барыня, всего человек с 30, и Башилов. Гуляли, пообедали, там качались на разных качелях, давали вино мужикам, пиво бабам, кидали пряники мальчикам, там пили чай, ввечеру пущен фейерверк славный, барышня одна играла на фортепиано, Башилов подтягивал на скрипке, попрыгали, поиграли в вист, я в четыре роббера выиграл 37 партий по 25, там ужинали, а там на боковую. На другой день, несмотря на все просьбы Сашки, я, позавтракав, уехал в Москву. Волков нездоров, и щека у него подвязана, однако же пускался на все штуки. Кроме фейерверка, и сад был иллюминован, и в отдаленности сиял огненный «S».
Поутру была маленькая тревога. Подлиповский смотритель писал Волкову, что люди приехавшего генерала графа Гурьева сказывали, что Марья Ивановна Корсакова едет, что они ее объехали за двумя верстами и что она, верно, будет в Ямищах, когда его записка дойдет. Софья Александровна ну бежать навстречу к матери с целым домом; день был прекрасный, и мы все, даже Сашка, пошли пешком; доходим до Перхушкова, не видя ничего. Башилов кричит: «Вот они!» – указывая вдали на экипаж; вот большая карета Марьи Ивановны в 8 лошадей. Как стала она подъезжать, вот мои Волковы все пустились бегом, машут платками, кричат: «Стой, стой, маменька!» Человек, сидевший на козлах, в недоумении, что ему делать; вдруг из кареты выглядывает дамская незнакомая рожа. Я спрашиваю у людей: «Кто это едет?» – «Собакина, сударь!» – «Где же Марья Ивановна Корсакова?» – «А почем я знаю?» Вот тебе на! Наконец выходит, что все переврались. Башилова мы задразнили, принуждены посылать в Ямищи за экипажами, приехали туда измученные и обедали в пятом часу. Однако же Марью Ивановну все-таки ждут всякий час.
Я был у Закревского и очень был обрадован слышать, что нету дома: поехал с визитом к князю Дмитрию Владимировичу Голицыну. После обеда опять я его не застал, он опять уехал во Всесвятское, повидаться с Сипягиным; одна Аграфена Федоровна была дома. Толстой тоже приехал, а графиня больна, у нее чирей на груди; она этим пренебрегает, но брат ее Дурасов тоже запускал, сделался карбункул, и умер.
Вот тебе на! Прислала графиня Пушкина узнать, где я, и сказать, что все желают меня видеть, что тут подъехали и Хитрова из Петербурга, и Шаховская из Калуги. Сбегаю на часочек. Трагическая смерть бедной Соловой [Анна Григорьевна Петрово-Соловово, урожд. княжна Щербатова, была разбита насмерть лошадьми в Петербурге] меня поразила, хотя я и мало ее знаю. И здесь точно так же кончила несчастно бедная Шалашникова, урожденная Мельгунова; только это еще хуже, ибо была брюхата. Как ехать на дрожках в этом положении! Лошади ее разбили, она выкинула и умерла 10 часов спустя, оставив тоже кучу детей. Наука другим; ты помнишь мою ненависть к дрожкам и упрямство не позволять Наташе в них ездить.
Александр. Москва, 20 сентября 1821 года
Как-то обойдется государево пребывание в Белоруссии? Я думаю, много будет подано и там просьб: край этот очень угнетен. Веревкина хвалят и Закревский, и Волков, и все довольны его назначением, хотя Волкова трудно заменить.
Варенька [то есть графиня Варвара Алексеевна Мусина-Пушкина, позднее княгиня Трубецкая] мне говорила с горестью о Вяземском, будто он начинает быть помешанным, что находит хандра; но Пушкин, бывший у него, того не заметил; правда и то, что Василий Львович глуп.
Александр Ивановское, 23 сентября 1821 года
Любезный друг, я здесь у Закревского и останусь еще два дня. Вчера умерла его теща [графиня Степанида Алексеевна, жена графа Федора Андреевича Толстого] от воспаления в кишках. Дочери ее не сказали еще; но она, увидав мать в беспамятстве, упала в такие судороги, что шесть человек не могли ее держать. Арсений, видя это, долго крепился, наконец тоже имел обморок, продолжавшийся три часа. Я и Шатилов не отходили от него, а Ермолов все с Аграфеной Федоровной. Дом вверх дном. Ожидают доктора из Москвы, чтобы Аграфене Федоровне объявить, но мой совет – везти ее в Москву как-нибудь: там более средств; можно уверить ее, что и мать туда увезена. У Арсения страшно болит бок ушибленный. Ну, брат, что это за картина!..
Александр. Москва, 23 сентября 1821 года
Я возвращаюсь из Ивановского, где был свидетелем сцен весьма горестных, любезнейший друг. Вчера не спал я ночь, сегодня рано лягу, чтобы взять покой; но прежде хочу тебе написать, сколько станет сил. Середа обошлась хорошо, все были веселы, а на другой день графиня Толстая, теща Закревского, бывшая только нездорова и ездившая даже смотреть иллюминацию и транспарант в саду (где, вероятно, простудилась), не существовала. Она умерла воспалением в кишках, в 9 часов вечера. По ее невоздержанной жизни можно было это ожидать. Перед кончиною еще, чувствуя большую жажду, выпила она в короткое время семь бутылок кислых щей и три меду. Эта смерть мало бы и поразила всех, ежели бы не имела влияния на дочь ее, а по ней и на Закревского. Ввечеру Аграфена Федоровна пришла с матерью проститься. Та боролась уже со смертию; увидев ее лицо, уже изменившееся, и плачущего отца у постели, у нее сделались конвульсии; ее отнесли без чувств в ближайшую комнату. Арсений держал у нее руки, но, наконец, видя ужасное ее положение и быв сам еще слаб, упал скоро без чувств; его положили мы на канапе. Тут начались явления, продолжавшиеся до четырех часов утра. Ее держали Ермолов, Пашков, адъютант Закревского Каменский, лакей Яков, полковой лекарь, Лопухина Анна Алекс, и Коризна, и насилу могли ладить. Я отроду не видал таких конвульсий! Закревского держали: за голову Шатилов, Каменский за руки, а я за ноги, кои дрожали ужасно. Пот лил с него градом, и сильная лихорадка. Однако, пришедши в себя, он жаловался только на страшную боль в ушибленном боку. Она, придя в себя и видя мужа в таком положении, опять страдала спазмами, и он тоже мучился, видя, как корчило бедную его жену. Ты не можешь себе представить этой картины.
Волков переходил из одной комнаты в другую, навещал старика, и так как люди все у них бездельники, то он все тотчас у графини запечатал. Тут была также сестра Ермолова с мужем, Денис Давыдов, Полторацкий и сосед Толбухин. Больные несколько уснули в пятом часу; прежде он, а там она. Поутру приехала тетка Аграфены Федоровны Дурасова, сестра покойной. Эта, узнавши о смерти, сказала довольно хладнокровно: сестра умерла от своего упрямства, не береглася и не хотела лечиться. Аграфена Федоровна была страшна в глазах, вздыхала, но не плакала. Увидев тетку, очень заплакала, и опять сделались конвульсии, но не такие сильные, и все с промежутками слез. Сделали все совет, что делать. Одобрили все мое мнение сказать Аграфене Федоровне, что ее матушку отвезли в Москву, где и доктора, и все средства ей помочь, ежели можно. «Что ж, я тоже хочу ехать в Москву». Это-то мы и хотели – увезти ее, ибо тело начинало очень портиться и страшно вонять. Закревский положил остаться с тестем, чтобы похоронить тещу, по ее желанию, в деревне Царево (близ Нагорного). Нас разделили на два разряда.
«Ты не едешь от нас еще?» – спросил меня Закревский. – «Могу ли я ехать? Делай из меня что хочешь, я готов остаться с тобою». – «Нет, – прибавил Ермолов, который всем тут распоряжался, – ты, брат Александр, поедешь с нами; ты умеешь с дамами обходиться».
Итак, в карету с Аграфеной Федоровной сели Ермолов, привезенный из Москвы доктор Мухин и Каменский, а сзади в коляске – Полторацкий, Денис и я. Прочие, кроме Волкова (уехавшего на сутки в Ямищи), остались с Арсением.
Дорогою все шло хорошо. Путешествие совершено в два с половиной часа. При подъезде к дому отцовскому сделалась опять дурнота, но маленькая; на руках понесли ее наверх. Очнувшись, она сказала, вздохнув: «Боже мой, сколько вам со мною хлопот», – а о матери ни слова. Это заставило нас думать, что она догадалась, что ее обманули, и знает, что мать ее не существует, но боится в этом удостовериться. Она покойна. К Арсению послали кучера его уведомить, что все хорошо обошлось. Теперь будет еще тяжко первое ее свидание с отцом, но Бог милостив. Кроме дочери, я не думаю, чтобы многие жалели о графине; а больно было видеть, как мало скрывали радость свою люди. Она их и худо содержала, и мучила всячески; со всем этим она сделала нам большое расстройство. Много терпел бедный Закревский от ее капризов и дурного нрава. Конечно, он обеспечен на будущие времена с этой стороны, но здоровье его получило страшный толчок, и он мучается боком своим; мне не раз говорил: бок ужасно болит. Великое счастье, что был тут Ермолов, который умом своим всех утешал, ободрял и всем распоряжался. Граф оплакивает свою жену, как наши люди оплакивают своих господ, которые дают им по сотне палок всякий день.
В среду мы-таки повеселились, фейерверк был славный, иллюминация в саду и славный щит с транспарантом, шифр Ермолова. Я дал мысль Арсению (и он это сделал) написать с одной стороны: «Врагов мечом караешь», – а с другой: «Друзей душой пленяешь». Там играли мы в вист. Ермолов зашиб 100, а я 110.
Поутру в четверг мы с Волковым еще спали, к нам пришел Ермолов, сел на кровать и ну болтать; там пришел и Закревский, и Денис. Речь была и о тебе, и о Каподистрии, о Тифлисе, о Лейбахе, и проч. и проч. Какой милый, любезный, умный человек! Он чрезмерно меня обласкал, и я очень его смешил рассказами о Москве, о Волкове и проч. Утро было чудесное. Мы все – на коней и на охоту; затравили тринадцать зайцев, двух лисиц, одного волка, а там – и медведя. Я сказал: «Мы этак кончим слоном», – а Денис: «Да и затравили-таки Степаниду» (разумеется, что звери эти были приготовлены). Это мастерил все Ренкевич. Вот, кажется, вкратце и бестолково все наши похождения, любезный друг. Я очень рад, что мог быть хоть несколько полезен милому Арсению, и радуюсь, что здоровье мое не пострадало от всех хлопот двухдневных. Лягу отдыхать. То-то засну!
Александр. Москва, 26 сентября 1821 года
Я тебя уже уведомил, что мы Аграфену Федоровну привезли сюда благополучно, а вчера привезли и его. Приезжаю туда, нахожу его только что приехавшего, и все боялись ей сказать, чтобы не сделались опять спазмы. И вздор, какие там спазмы от радости! Я взял на себя все устроить. К ней вхожу. «Здравствуйте!» – «Здравствуйте!» – «Ну вот вы и успокоились, слава Богу; ваш муж приедет, а после ваш батюшка». – «Да, но нет ни того, ни другого». – «О, у меня есть волшебная палочка, я сделаю так, что один из них тотчас приедет, кого вы хотите?» – «Посмотрим! Ну что же, мужа моего!» – «Сейчас я его к вам приведу». Тут его ведет Ермолов в комнату. Обрадовалась, целовалась, плакала, спросила об отце; этого привезут завтра. Все идет очень хорошо, только Арсений наш очень изнурен, бок болит, и рука левая все дрожит сильно. Пикулин говорит, что это следствие потрясения нервов и что с болью в левом боку пройдет все и в левой руке. Успокоясь совершенно на их счет, еду сейчас к Наташе; мне кажется, что я всех сто лет не видал. У бедного Бибикова, бывшего полицеймейстера, горячка гнилая. Вчера был он без надежды, но Пикулин сказывал мне сегодня, что ежели доживет до завтра, то он будет спасен. Дай Бог!
Александр. Семердино, 29 сентября 1821 года
Тебя оставили в покое: теперь все кинулись на Татищева, его посылают в Стамбул. Вяземский говорит: «Это для того, чтобы довести султана до отчаяния, ибо мадам Татищева отнимет у него последние иллюзии, и его жены не покажутся ему более красавицами». Я с Ермоловым долго спорил о Дмитрии Павловиче; он жалеет, что его не знает лично, а говорит: «Когда не знаю человека, то сужу по его деяниям; говорят, что Татищев умер, он этого не доказал в Испании». Но как рассказал я ему о Неапольской миссии, то он согласился, что такой человек был бы у места в Царь-граде. О Тюфякине читал я в «Конститусьонеле»; не очень лестно, а тот, верно, хорохорился и задавал себе тоны.
Слава Богу, что Вакарескам помогли, а все от Белого Ангела; верно, хлопотал об этом добрый Каподистрия. Икалось ли ему? Как мы часто говорили о нем с Ермоловым. Он великий его обожатель. Не видав его более года, я слушаю, разиня уши, все, до него касающееся. Мы еще спали в Ивановском, а Ермолов пришел к нам, разбудил, сел на мою постель и ну рассказывать; век бы его слушал, как он говорит хорошо, умно! Я очень рад, что с ним коротко познакомился. Много у нас было смеху. Ежели бы не припадки Аграфены Федоровны, смерть старухи Толстой не произвела бы ничего. Грустно – так прожить, чтобы никто не сожалел. Люди только что не прыгали от радости. Муж для формы плакал. Священник приходил, его утешал, говоря: «Ваше сиятельство, берегите себя для вашей дочери; покойную воскресить нельзя уже». Граф, всхлипывая, отвечал: «Я знаю, батюшка, что жену воскресить не могу, да я и не хочу этого; но все мы 30 лет жили вместе!» Ермолов очень смеялся этому; я думаю, раз пять заставил меня это повторить. Закревский, при всей своей серьезности, не мог не расхохотаться также. Всего я не припомню, но много было тут анекдотов в этом роде.
На Волкова мы нападали, смеялись его страсти играть свадьбы. Я рассказывал, что он всех приезжавших в Москву офицеров тотчас сватал; он отговаривался, а сидевший тут Каменский делает мне знак, пальцем указывая на себя; далее сидел Михайло Коризна, тот делал тот же знак; я подошел к сидевшему подле Коризны полковому лекарю, спрашиваю: «Женаты вы?» – «Женат!» – «Батюшка, не в Москве ли вы женились? Не Волков ли вас также женил?» Как узнали все дело, так все и покатились со смеху, а указывание на себя пальцем было целый вечер сигналом к смеху. Волков, забывшись, атаковал Ермолова, чтобы он женился; но тот столько надавал славных резонов, что Волков должен был зажать рот. Наконец приехала Корсакова; то-то, я думаю, будет врать, то-то, я думаю, навезла! Князь Дмитрий Владимирович все болен еще желчью, однако же собирался ехать в свою подмосковную на этих днях, и прямо оттуда поедет в Петербург. Он очень мучает Волкова идти в Москву в губернаторы. Сашка настоит только в одном: сохранить военный чин с эполетами, ибо знает, что к ним имеют уважение, особливо военные начальства, не ставящие губернатора ни в грош. Я ему предсказываю, что его поймают на слове.
Зачем не быть военному губернатором? Ведь в Сенате сидят же генералы и адмиралы. А Волков рассчитывает, что будет иметь дом и 12 тысяч оклада, что избавится от вахт-парадов и скучной обязанности всякий день ездить с рапортом; он делал это ремесло более 15 лет: ему оно надоело. Балашов его также очень уговаривал служить с ним. Волков у него было просить о Баранове, который упрямством своим и беспечностью до того довел, что не знает в субботу, что будет есть в воскресенье. Тамбовские мужики его взбунтовались и второй год ничего ему не платят, не признавая его господином, а самозванцем. Ему Озеров это давно предсказывал, но он почитает себя умнее всех и никого не хочет слушать.