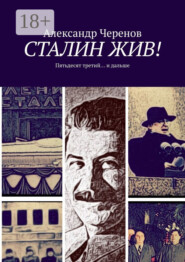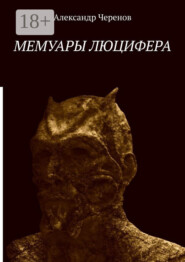По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Несостоявшийся Горби. Книга вторая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Александру Николаевичу понадобится деятельная помощь КГБ в борьбе за очищение социализма от… от… всяческих наслоений… из неправильных идей и неправильных людей. И будь уверен, Володя: он не останется неблагодарным. Я – тоже… в случае, если ты верно сориентируешься «по месту».
Михаил Сергеевич положил руку мне на плечо. По-дружески, так, положил – как он это умеет… когда захочет. Вернее – когда ему нужно… что-то от тебя.
– Андропов уходит, Володя. А без него ты не удержишься даже на своём нынешнем месте: ни Романову, ни Гришину ты не нужен! А у тебя – потенциал, Володя: ПГУ для тебя – не предел. У тебя – задатки политика.
«Уж, сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, грязна – а всё не впрок…». Не знаю, где, там, Горбачёв разглядел задатки – только я понял: надо быть последним дураком, чтобы не „клюнуть“ на эту „мульку“! Вот и весь „крючок“. Я не изменил своему мнению насчёт Яковлева: я всего лишь „нанялся в работники“. А, что, разве так не бывает: терпеть не можешь начальника – а пашешь на него, как вол? Да – сплошь и рядом! Я всего лишь не стал исключением».
«Дочитав» точку, Полковник усмехнулся: Крючков «отмазался» на все стороны. На всякий случай…
Глава тридцать третья
«По военной дороге шёл в боях и тревоге боевой восемнадцатый год…» – пелось в известной песне времён гражданской войны. Теперь «на дворе стоял» год восемьдесят четвёртый – но дорога от этого не перестала быть «военной»… мирного времени, да и боёв с тревогами не стало меньше, пусть и иного характера.
Во второй раз за год с небольшим страна готовилась провожать Генерального секретаря. Нет, Юрий Владимирович, слава Богу, был ещё жив. Хотя – за что слава тому Богу?! Слава ему была бы, если бы Андропов жил – и не «ещё», а просто: жил и работал. Поэтому – лучше так: Юрий Владимирович был ещё жив. Биологически жив: политически он «умер» ещё на декабрьском Пленуме. Народ у нас – понятливый, поэтому ему не требовалось объяснять, что значит: «на Пленуме был зачитан доклад Генерального секретаря ЦК».
Медики во главе с Чазовым, «лейб-медиком Политбюро и Генеральных секретарей», боролось уже не с болезнью и даже за жизнь Юрия Владимировича, а за своё будущее. Нет, речь не шла о буквальном предъявлении им обвинения формата «кто хочет сделать, ищет способы, кто не хочет – оправдания». Медицина сделал всё, что могла – но болезнь сделала больше: всё! Всё, что нужно было для финала Андропова.
Поэтому Четвёртое управление занималось сейчас тем, чем и полагается заниматься в подобных случаях: «мёртвому припарками» и ожиданием конца мучениям Юрия Владимировича… и своим – тоже. Нельзя сказать, что ожидание было спокойным: и клятва Гиппократа не позволяла, и клятва члена КПСС. Но, главное: не позволяло «бдящее око» Политбюро.
К Юрию Владимировичу теперь каждый день наведывался хотя бы один член или кандидат в члены. Чазов пытался играть в строгого доктора – но гости быстро воззвали к его «чувству ответственности» – и он перестал злоупотреблять терпением вершителей судеб: вершители могли свершить и его судьбу.
По большому счёту – и по любому другому тоже – Евгений Иванович не нуждался в «воззваниях»: сам мог «воззвать» к кому угодно и к чему угодно. Семнадцать лет у «монарших» тел – не один день! Как говорил «товарищ Саахов»: «Торопиться не надо!». Чазов готов был повторить этот лозунг – но с небольшим уточнением: «Торопиться не надо… делать глупости!». Он понимал: сейчас – его время. «Верха» изготовились к «дружбе между народов», как две военные машины времён Великой Отечественной. Оказаться «раздавленным» – плёвое дело. Но ведь можно и присоединиться к «дружбе» – и с обеих сторон! Как говорил уже другой персонаж – Александр Иванович Корейко: «Хорошие счетоводы везде нужны». Евгений Иванович имел все основания экстраполировать этот вывод и на себя: хороший политический медик никому ещё не помешал… уже лишь тем, что помешать мог очень многим! Помешать жить – или умереть! И не только физически, но и политически!
Чазову требовалось лишь соответствовать главной политической установке нашего времени – двум «у»: «угадать» и «угодить»! Поэтому умудрённый опытом Евгений Иванович мудро не стал мудрствовать лукаво – и посвятил в тайны жизни и смерти Юрия Владимировича все заинтересованные стороны. Да, сколь кощунственно это бы ни звучало, но можно и нужно сказать именно так: «заинтересованные стороны». Ибо все участники политической драмы, которая в КПСС – куда тем шекспировским! – были заинтересованы в исходе… Генерального секретаря в мир иной.
Не Юрия Владимировича Андропова – Бог с ним: Генерального секретаря! Жизнь и смерть «человека в фамилии Андропов» не представляла стратегического интереса ни для кого, кроме его близких. Иное дело – вторая составляющая: «Генеральный секретарь». Потому что вторая она – лишь по счёту: по значению она – первая.
Евгений Иванович уже знал, что, хотя «военные машины и изготовились», масштабных боевых действий не предвидится. Всё сведётся к боям местного значения, мелким операциям с целью «уточнения позиций» и перегруппировке сил. Как «придворный медик высшего ранга», Чазов был
в курсе всех наиболее значительных «подковёрных» манёвров. По состоянию на время «ч» – день исхода Генсека, который в формате «со дня на день» ожидался уже третью неделю – ни одна из противоборствующих сторон не имела решающего перевеса. Отсюда следовало, что ни Горбачёв, ни Романов «шапку Мономаха» пока не готовы были примерить. А уже отсюда следовало, что её временно возложат на голову «очередного Мишеньки Романова, слабого умом»: «второго секретаря ЦК» Черненко.
Как и все «посвящённые», Чазов знал: Константин Устинович Черненко не был «слаб умом». Будь это так, то человек, напрочь лишённый каких бы то ни было стратегических талантов, не прорвался бы во «вторые секретари» – да ещё в условиях такой жёсткой конкуренции. Сколько их было – всех этих претендентов в «Цезари»: Шелепин, Семичастный, Воронов, Полянский, Подгорный, Мазуров, Косыгин, Машеров! И где они теперь?! «Нигде» – кто в политическом, кто в житейском «нигде»! А Константин Устинович тихой сапой добрался до второй ступеньки – и теперь готовился занять первую! Ладно, пусть не «Божьим соизволением» – а сговором непримиримых врагов – но первую! Пусть – «калиф на час», пусть – «хоть день – да мой!» – всё равно ведь «калиф», всё равно – «мой день»!
Нет, Константин Устинович, конечно, не полагался на «добрую» волю товарищей – по причине отсутствия и таковой, и таковых. Поэтому с самого начала… конца Андропова он принял активное участие в «самовыдвижении… без самовыдвижения». В «самовыдвижении де-факто» – без «афиш» и прочих «заявок на участие». Черненко «всего лишь» чётче обозначил «Второсекретарское» «Я». Это, прежде всего, проявилось в «усилении им тезиса о моменте своего руководства». Константин Устинович стал активнее выступать в роли «мудрого Соломона», который способен «развязать узел без всех этих эксцессов с мечом». В отличие от Горбачёва и Романова с их напряжённым ожиданием схватки, он демонстрировал спокойную уверенность в себе и своих силах, даром, что тех и у инвалида первой группы было значительно больше.
Умудрённый опытом жизни на кремлёвском «Олимпе», Черненко активно не примыкал ни к одному лагерю, умело арбитрировал – и даже обозначал потуги на занятие исключительно делами страны. Это производило впечатление. С учётом «патовой ситуации», в которой оказались главные «игроки», кандидатура Черненко представлялась единственным «лучом светом в царстве тьмы». Время давало Константину Устиновичу шанс, не на подвиги, так на анналы – и ему оставалось лишь заверить товарищей… в безысходности ситуации, которая вынуждает их сделать «правильный выбор».
Изучив досье Черненко, Полковник не мог не уважить немногочисленные таланты Константина Устиновича – а они, таки, имелись, при всей обоснованности заявлений об их полном отсутствии. Обоснованность – вместе с заявлениями – относились к «общечеловеческим талантам» и талантам стратегического назначения, в наличии у себя каковых – и тех и других – Черненко замечен не был.
Но таланты иного класса – тактического – у Константина Устиновича водились! И главным из них являлся тот, что он, этот классический «полководец без армии», не стал дожидаться, пока товарищи «обречённо поднимут руки»: сам пошёл навстречу этой «обречённости». То есть, он не стал полагаться на заведомую обречённость. Несмотря на заверения товарищей, личными телодвижениями Черненко сам «заверил» их. На этот раз – в том, что они действительно «обречены на него». Это было и мудро, и гуманно: «соратники», тем самым, избавлялись от мук сомнений. Нет выбора – нечего и голову ломать, не говоря уже о копьях!
В интересах дела – прежде всего, лично своего – Константин Устинович не стал уповать на расплывчатые временные рамки, определяемые последним вздохом Генсека. Он сам пошёл навстречу товарищам – чтобы закрепить прежние договорённости, оформить их надлежащим образом и помочь коллегам раз и уже навсегда избавиться от ненужных иллюзий на тему «всё ещё может быть». Тогдашние «смотрины» надо было превратить в сегодняшний выбор.
Конечно, он допускал верность товарищей «итогам предварительного голосования» – но исключительно в формате «Бога», на которого «надейся – а сам не плошай». Да и «повторение – мать учения», а «хорошего много не бывает» – доводы не хуже. Особенно – в контексте непрекращавшейся «подковёрной дружбы» Романова и Горбачёва. Нужно было успокоить общественное мнение»… Политбюро – теперь уже окончательно. Нужно было показать, кто в кремлёвском доме есть «ху».
Как следствие, если инициатива первой встречи принадлежала Тихонову, то на вторую «народ» созывал уже сам Черненко. Формальным актом «капитуляции» могла явиться лишь встреча «уполномоченных противоборствующих сторон». Кандидатов на эту роль Константину Устиновичу и не потребовалось выбирать: их уже выбрала жизнь. Точнее: политическая жизнь. Да и, как говорится, «виделись уже!».
Поэтому форматом встречи могла быть только «пятёрка» – классика ещё сталинских времён. «Всё новое – это хорошо забытое старое» – и поэтому встречаться должны были всё же те же лица: Громыко, Гришин, Тихонов, Устинов и сам Черненко. Те же, что уже встречались совсем недавно – и по тому же вопросу. Но та встреча была «неофициальной», «разминочного характера», имевшей целью больше развести по углам непримиримых противников, чем объединиться вокруг кандидатуры Черненко.
Теперь же Константину Устиновичу нужно было срочно легализовать достигнутые «предварительные договорённости». Именно «легализовать», чтобы знакомить Пленум уже не с мнением, а с согласованным решением Политбюро. Выражаясь «гражданским языком»: выдвинуть ультиматум, и отрезать пути к отступлению. В развитии ситуации требовалось немедленно поставить точку: последние телодвижения противников, хоть и не по его адресу, Константину Устиновичу совсем не понравились. Они вносили смуту не только в жизнь кремлёвского «Олимпа», но и в душу «вроде бы избранного уже» Генсека.
Громыко и Устинову нелегко было вновь оказаться за одним столом с Тихоновым и Гришиным, особенно с учётом того, что стол этот находился не в комнате заседаний Политбюро. Инициативу – как всегда в последнее время – взял на себя Черненко. Константин Устинович просто объяснил «товарищам от товарища Горбачёва», что отсутствие «товарищей от товарища Романова» сделает встречу в усечённом формате ненужной, а её итоги – незаконными.
Участники собрались на «нейтральной территории»: в кабинете «второго секретаря». Отношение «товарищей» к выбору места встречи было двойственным. С одной стороны, Константин Устинович выказывал себя настоящим джентльменом: несмотря на «предварительное избрание», он не претендовал ни на кабинет Юрия Владимировича, ни на комнату заседаний Политбюро. То есть, ненавязчиво, но понятно, не намекал. Но, с другой стороны, попробуй сохранить объективность в кабинете хозяина?! Тут даже «внешние приличия» вынуждают к консенсусу!
«Открывая заседание», Черненко покосился на календарь: восьмое февраля. Следом за ним туда потянулись и глаза остальных участников: взгляд Константина Устиновича был явно не случайным – и товарищи верно истолковали намёк.
– Да, товарищи, – «закрепил подозрения» Черненко, – уже – восьмое февраля…
Многоточие в конце «заявления» Константина Устиновича оказалось не случайным. Некоторое время он молчал – не столько пережидая очередной приступ лёгочной недостаточности, сколько давая товарищам возможность подготовиться к неизбежному переходу. Товарищи поняли и это – и, насколько было возможно, подготовились. Мысленно поблагодарив коллег за готовность, Черненко опять «взялся за них и за слово»:
– … Думаю, нам не имеет смысла таить друг от друга личную осведомлённость каждого в делах Юрия Владимировича.
Товарищи дружно, «в унисон», отскорбели взглядами. Сюжет развивался по колее, уже накатанной предыдущим заседанием. Даже слова – и те не отличались разнообразием. Классический «дубль второй».
А Черненко так и вовсе оказался молодцом: «брал быка за рога» даже «без предисловия». Такой «запев» и настраивал, и расстраивал, и поднимал дух, и деморализовал – и всё это одновременно. Видимо, беря слово, Константин Устинович на такой эффект и рассчитывал.
– По информации врачей, в том числе, и лично академика Чазова, событий можно… даже нужно ожидать уже не со дня на день, а с минуты на минуту. Около двух недель Юрий Владимирович уже не живёт, а существует. У него систематически происходит выпадение памяти, то есть, большую часть времени он находится в бессознательном состоянии. Почки отказали полностью, «гемодиализ» не помогает, вследствие чего в крови больного образовалась критическая масса калия.
Черненко замолчал явно не по сценарию – и вздохнул, тоже – явно не от эмфиземы.
– Видимо, каждому человеку назначен свой предел.
При этих словах все участники «застолья» старательно отвели глаза друг от друга: «врач, исцели себя!». Ведь слова Черненко о пределе Андропова в не меньшей степени можно было отнести и к самому Константину Устиновичу. В том числе, и это обстоятельство учитывалось «товарищами», когда они «готовились к избранию» – и не в последнюю очередь.
Константин Устинович тоже молчал, пусть и не заодно с «товарищами», но одновременно: вероятно, и его одолевали те же мысли. Но – «взялся за гуж…». Точнее: прежде чем «нести крест», надо было ещё «взвалить его на себя». И Черненко продолжил «взваливать».
– Но, как это ни печально всем нам признавать – однако жизнь не кончается смертью… Юрия Владимировича… Хм… хм…
Черненко закашлялся – и опять не от эмфиземы, а очень даже многозначительно. Настолько многозначительно, что даже взаимная неприязнь не помешали остальным участникам заседания обменяться друг с другом изумлёнными взглядами. И то: «По второму кругу, что ли, Константин Устинович?! Давай уже – о Юрии Владимировиче!».
– Я – к вопросу преемственности, товарищи, – наконец, прокашлялся Черненко, старательно не поднимая глаз. – Пора известить аппарат ЦК… и товарищей на местах…
Заключительное смущение Константина Устиновича явно адресовалось не Юрию Владимировичу и «его светлому образу». Вероятно, именно по этой причине Тихонов не выдержал первым.
– Кон – стан – тин Усти – но – вич! – укоризенно протянул он. – Мы же уже всё решили! Я-то думал, что мы собрались по поводу Юрия Владимировича – а тут какое-то недоразумение!
Премьер оглянулся на «широкие народные массы».
– Или я так думаю по своей наивности?
– Да, конечно, решили! – не усидел на месте Гришин. – И не просто «решили» – а по существу! Дмитрий Фёдорович, как ты считаешь?
В решающие моменты Виктор Васильевич, как обычно, не только «спрямлял дорогу», но и «шёл напролом», хотя никто из посвящённых не мог заподозрить его в отсутствии талантов по части обходных маневров.
Устинов отчего-то покосился на Громыко – и кивнул головой.
– Так и считаю. И потому я предлагаю не открывать прений.