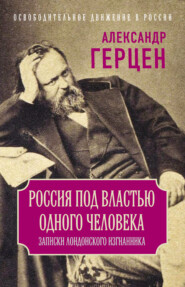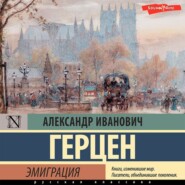По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Скуки ради
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А может, доктор столько же виноват в моей бессоннице, сколько кошки и дождь?
Порассказал он мне вчера удивительные вещи. Какой шут, однако ж, человек: живет себе припеваючи, зная очень хорошо, что за картонными и дурно намалеванными кулисами совершаются вещи, от которых волосы не станут дыбом разве у плешивых, у прежних наших помещиков и у юго-американских охотников по беглым неграм. Много он видел и много думал; его несколько угловатый юмор ему достался не даром. Когда другой доктор, и именно Трела, был министром внутренних дел, он его посылал по тюрьмам, где содержались побежденные работники в ожидании ссылки без суда. Он с Корменен был в тюльерийских подвалах, в фортах и один в марсельском Шато д’Иф. В декабрьские дни 1851 он попался, неосторожно перевязывая своему товарищу рану, нанесенную жандармом, и за это был приговорен к Кайенне. В понтонах военного корабля, стоявшего наготове в Брест, его случайно нашел адмирал, у которого он спас дочь, и выхлопотал ему дозволение ехать в Алжир. Его рассказ я непременно запишу, но не сегодня: сегодня я в дурном расположении, скажешь что-нибудь лишнее, а это грешно.
Пойду обедать в маленький ресторан напротив.
Надобно сказать, что здесь обедают под скромным названием завтрака в одиннадцатом часу – не вечера, а утра! И может, это меньше удивительно, чем то, что я ем, как будто всю жизнь прямо с постели садился за стол. А говорят, что болен!
Меня одно лишает аппетита – это table d’hote[21 - обед за общим столом (фр.)], затем-то я и хочу идти в небольшой ресторанчик. Мне за table d’hot’oм все ненавистно, начиная с крошечных кусочков мяса, которые нарезывает скупой за хозяина, напомаженный и важный обер-форшнейдер[22 - старший резальщик (от нем. obervorschneider)], до гарсонов, разодетых, как будто они на чьих-нибудь похоронах или на своей свадьбе, до огромных кусков живого, но попорченного мяса (дело на водах), одетых в пальто и поглощающих маленькие кусочки, одетые в соус… Мне совсем не нужно знать, как ест этот худой, желтый, с какой-то чернью на лице нотариус из Лиона, ни того, что синяя бархатная дама в критических случаях вынимает целую челюсть зубов, жевавших когда-то пищу другому желудку. А тут еще англичанин, который за десертом полощет рот с такими взрывами гаргаризаций, что кажется, будто в огромном котле закипает смола или какой-нибудь металл… Словом сказать, я ненавижу table d’hote. И в ресторане едят другие, но они сами по себе, а я сам по себе; а за table d’hot’oм есть круговая порука, какое-то соучастие, прикосновенность, незнакомое знакомство и, в силу его, разговор и взаимные любезности.
Два часа. День на день не приходится. Сегодня я и в маленьком ресторане почти ничего не ел. Стыдно сказать отчего. Я всегда завидовал поэтам, особенно «антологическим»: напишет контурчики, чтоб было плавно, выпукло, округло, звучно, без малейшего смысла: «Рододендрон-Рододендрон» – и хорошо. В прозе люди требовательнее, и если нет ни таланта, ни мысли, то требуют хоть какого-нибудь доноса. А мне именно приходится написать такую «антологическую прозу».
Передо мной в ресторан вошла женщина с двумя детьми в трауре и с ними высокий господин, тоже в черном.
Возле столика, за который я сел, обедали четыре commis voyageurs[23 - коммивояжера (фр.)] из Парижа; они толковали свысока о казино и с снисхождением о певицах, в которых ценили вовсе не голос, – они говорили что-то друг другу на ухо и разражались вдруг громким хохотом.
Слушать и смотреть на комми en neglige[24 - неглиже (фр.); здесь: в неприкрашенном виде.] между собой – моя страсть, но мне не долго пришлось питать ее.
– Ты плачешь? – спросила женщина в трауре. Мальчик лет восьми-девяти поднял на нее глаза, полные слез, и сказал:
– Нет, нет!
Мать взглянула на мужчину, улыбаясь: она, видимо, извинялась за слезы ребенка. Мужчина положил ему большой кусок чего-то на тарелку и прибавил:
– Будь же умен и ешь.
– Я не хочу есть, – отвечал мальчик.
– Мой друг, это глупо, – сказал мужчина.
– Ты с утра ничего не ел, кроме молока, – прибавила мать и просила взглядом, чтоб мальчик ел. Мальчик принялся за котлету, взглянув на мать с невыразимым горем; крупная слеза капнула в тарелку. Женщина и господин сделали вид, что не заметили, и начали говорить между собой. Другой ребенок – гораздо моложе – болтал, шумел и ел. Мать погладила старшего, он взял ее руку и поцеловал, задержав слезы.
«Башмаков не успела она износить» – и маленький Гамлет это понял.
Господин велел подать какого-то особенного вина, чокнулся с матерью и, наливая детям, улыбаясь, сказал старшему:
– Не будь же плаксивой девочкой и выпей браво твое вино.
Мальчик выпил.
Когда они пошли, мать надела на мальчика шарф, чтоб он не простудился, и обняла его. В ее заботе было раскаянье и примирение с собой, – она, казалось, просила прощенья, пощады – у него и у него.
И может, она во всем права.
Но мальчик не виноват, что помнит другого, что ему хотелось доносить башмаки – и что новые его жали, так, как не виноват в том, что испортил мне обед.
Пойду в Казино искать доктора; он, наверно, спит или читает какую-нибудь газету.
VII
– Скажите, доктор, как вы при всем этом сохранили столько здоровья, свежести, сил, смеха?
– Все от пищеваренья. Я с ребячества не помню, чтоб у меня сильно живот болел, разве, бывало, объешься неспелых ягод. С таким фундаментом нетрудно устроить психическую диету, особенно с наклонностью смеяться, о которой вы говорили. Человек я одинокий, семьи нет. Это с своей стороны очень сохраняет здоровье и аппетит. Я всегда считал людей, которые женятся без крайней надобности, героями или сумасшедшими. Нашли геройство – лечить чумных да под пулями перевязывать раны. Во-первых, это всякий человек с здоровыми нервами сделает, а потом выждал час, другой – перестанут стрелять, прошло недели две – нет чумы, аппетит хорош, – ну, и кончено. А ведь это подумать страшно: на веки вечные, хуже конскрипции[25 - воинской повинности (от лат. conscriptio)] – та все же имеет срок. Я рано смекнул это и решился, пока розы любви окружены такими бесчеловечными шипами, которыми их оградил, по папскому оригиналу, гражданский кодекс, я своего палисадника не заведу. Охотников продолжать род человеческий всегда найдется много и без меня. Да и кто же мне поручил продолжать его и нужно ли вообще, чтоб он продолжался и плодился, как пески морские, – все это дело темное, а беда семейного счастья очевидна.
– Что вы на это решились, дело не хитрое, хитрое дело в том, что вы выдержали. Впрочем, тут темперамент.
– Темперамент – темпераментом… ну, однако, без воли ничего не сделаешь. Вы, может, думаете, что монахи первых веков были холодного темперамента? Все зависит от того, что приму играет, да от воспитания воли.
– Однако, доктор, вы верите, кажется, в libre arbitre[26 - свободу воли (фр.)], – это почти ересь!
– Libre arbitre, воля… все это – слова. Я не верю, а вижу, что если человек захочет стоять на столбу – простоит, захочет есть траву и хлеб – и ест одну траву да хлеб возле жареных рябчиков. А чем он хочет, волей или неволей, это все равно. Конечно, воля не с неба падает, а так же из нерв растет и воспитывается, как память и ум; главное дело в том, что она воспитывается. Человек привыкает попридерживать себя или распускаться, давать отпор внешнему толчку или пасовать перед каждым. Всякий может сделаться нравственным Митридатом и выносить яды жизни, лишь бы оба пищеварения были исправны.
– Как, уж два пищеварения?
– Непременно! Желудочное и мозговое. Без хорошего мозгового претворенья и с хорошим желудком далеко не уедешь. Без него нельзя понять, что съедобно и что несъедобно, что существенно и что нет, что необходимо и что безразлично, наконец, что возможно и что невозможно. Без здорового мозга мелочи и призраки заедают людей и портят им желудок. Мелочам конца нет, как мухам, прогнал одних – другие насели; а призраки хуже мух: это – мухи внутри, их и прогнать нельзя, разве одним смехом. Но люди не понимающие – больше люди угрюмые, серьезные – все берут к сердцу, всем обижаются, ни через что не умеют переступить, ни над чем не умеют смеяться, смех просто их оскорбляет. Года два тому назад умер один из старых товарищей моих, известный хирург, и умер оттого, что его не позвали к принцессе, сломавшей ногу, В начале его болезни я зашел к нему. Два часа битых толковал он мне, желтый, исхудалый, с своих правах на принцессину ногу и все повторял одно и то же на сто ладов. Человек лет семидесяти, большая репутация, большое состояние, – ну, что ему было так сокрушаться о принцессиной ноге; сломит еще кто-нибудь из них ногу или руку – они же теперь все сами кучерами ездят, – пришлют и за ним. Я постарался навести его на другой разговор, – куда, все свое говорит. А тут вошел мальчик и подал газету; больной взял ее, что-то прочел, глаза его сверкнули, губы затряслись, и он, улыбаясь, ткнул пальцем в газету и сунул мне ее в руку. Лента Почетного легиона была дана хирургу, починившему ногу принцессы. Чтоб бедняка как-нибудь рассеять, я ему говорю: «Погода сегодня славная, поедемте-ка в Анкер, у меня там есть знакомый chef[27 - главный повар (фр.)], отлично делает бульябес и котлеты a la Soubize. – «Что вы, говорит, смеетесь надо мной, у меня желудок ничего не варит, а вы потчуете провансальской кухней? Это вы, cher ami[28 - дорогой друг (фр.)], уж не утешаете ли меня в ленте… ха-ха-ха!.. Нужно очень мне ленту, мне досадно, мне больно, что во мне оскорблены права, заслуги тридцатилетней деятельности… а лента… ха-ха-ха… Хорошо выдумали: a la Soubize… чеснок – это почетный легион провинциальных cordon bieu[29 - кухарок (фр.)]!», – и он расхохотался, уверенный, что сделал чрезвычайно ядовитый и удачный каламбур. Дело пропащее: ни мозг, ни желудок не находятся в исправности, какой же тут может быть выход. Заметьте мимоходом патологическую особенность, что люди большей частью выносят гораздо легче настоящие беды, чем фантастические, и это оттого, что настоящими бедами редко бывает задето самолюбие, а в самолюбии источник болезненных страданий. Наши братья обыкновенно мало обращают внимания на душевную причину болезней, да если и обращают, то очень неловко, оттого и лечение не идет. Для меня тип докторского вмешательства в психическую сторону пациентов составляет серьезный совет человеку, дрожащему и обезумевшему от страха, – не бояться заразы. Настоящий врач, милостивый государь, должен быть и повар, и духовник, и судья: все эти должности врозь – нелепы, а соедините их – и выйдет что-нибудь путное, пока люди остаются недорослями.
– Итак, после теократии патрократия; вы не метите ли, как ваш предшественник, доктор Франсиа, в генерал-штаб-архиатры врачедержавной империи? Человек наделал мерзостей, его отдают в судебную лечебницу, и дежурный врач приговаривает его к двум ложкам рицинового масла, к овсяному супу на неделю или, в важном случае, к ссылке месяца на три в Карлсбад. Осужденный протестует, дело идет в кассационный медицинский совет, и он смягчает Карлсбад на Виши.
– Смейтесь, сколько хотите, а что же, лучше, что ли, запирать в Мазас, посылать в Кайенну и вместо рицинового масла прописывать денежные штрафы? Но до пришествия царства врачебного далеко, а лечить приходится беспрерывно, и я на долгой практике испытал, что знай себе как хочешь терапию, без – как бы это сказать – без своего рода философии.
– У вас она есть, доктор, это я еще в вагоне заметил, и преоригинальная.
– Худа ли, хороша ли, но я не нахожу надобности менять ее.
– Как же вы дошли до нее?
– Это длинная песня.
– Да ведь времени довольно до второго стакана.
– Вы подметили, что я люблю поболтать, и эксплуатируете меня.
– Лучше же болтать, чем играть целое утро и целый вечер в домино, как наши соседи.
– Эге, так вы еще не освободились от порицаний и пересуд безразличных действий людских. Не играй они в домино, что же бы они делали? Жизнь дала им много досуга и мало содержания, надобно чем-нибудь заткнуть время утром до обеда, вечером до постели. Моя философия все принимает.
– Даже алжирское людоедство?
– Она только зацепляется за европейское. Дошел я до моей философии не в один день, да и не то чтобы вчера. Первый раз я порядком подумал о жизни лет сорок тому назад, шедши от Шарьера; фирма его и теперь делает превосходные хирургические инструменты, может, лучше английских, – вы это на всякий случай заметьте – прямо по Rue de l’Ecole de Medicine[30 - улице Медицинской школы (фр.)] в окнах увидите всевозможные пилы, ножницы. От Шарьера я вышел часов в пять с сильным аппетитом и пошел Au boeuf a la mode, возле «Одеона», да вдруг среди дороги остановился и, вместо An boeuf a la mode, повернул в Люксембургский сад. У меня в кармане не было ни одного су! Какое варварство, что часть этого сада уничтожают; ведь в таком городе, как Париж, такие сады – прибежище, лодки спасения для утопающих. Иной, без сада, походит по узким переулкам, вонючим, неприятным, да прямо и пойдет в Сену; а тут по дороге сад, воробьи летают, деревья шумят, трава пахнет, ну, бедняк и не пойдет топиться. Вот тут-то, в саду, на пустой желудок, я и расфилософствовался. Ну, думаю, почтенные родители очень бесцеремонно надули тебя в жизни; без твоего спроса и ведома втолкнули тебя в какой-то омут, как щенят толкают в воду: «Спасайся как знаешь, а не то – тони». Как я ни думал, вижу, выплывать надобно. Надобно затем, зачем и щенок барахтается, чтобы не идти ко дну, – просто привык жить. До этого случая нужда меня не очень давила. Прежде мне из дому посылали немного денег. Отец мой умер года четыре тому назад, все поправлял какие-то бреши в состоянии, сделанные спекуляциями, и кончил свои поправки тем, что ничего не оставил. У него был брат, старый полковник, обогатившийся на войне и имевший деньги в амстердамском банке; он помогал нашей семье и радовался моей карьере, говоря, что Наполеон уважал Ларре и Корвизара. Разумеется, он мысленно меня назначал в полковые доктора. О дяде я должен вам рассказать кое-что. Меньше меня ростом, с огромной львиной головой, седыми всклокоченными волосами и черными усами, которые он подстригал под щетку, он был отчаянный бонапартист, никогда не давая себе никакого отчета, что, собственно, было хорошего в империи. Подумать об этом ему казалось бы святотатством. После июльской революции он с презрительной улыбкой говорил: «Это все не то, это ненадолго!», пристегивая толстую трость с белым набалдашником к верхней пуговице сюртука, застегнутого по горло. «Мы этих barbouilleurs de lois[31 - законников-болтунов (фр.)], этих подьячих, адвокатов в Сену бросим; люди без сердца, без достоинства; нам надобно империю, чтобы отмстить за 1814 и 1815 годы».
– И, – заметил я, – утратить те небольшие свободы, которые приобрели на баррикадах.
– Что? – закричал дядя, и лицо его побагровело. – Что? Как, у меня в доме!.. Что ты сказал?
Я с ним никогда не спорил и тут уступил бы, если б он не взбесил меня криком, а потому я повторил сказанное.
– Кто ты такой? – кричал полковник, свирепо подходя ко мне и отвязывая палку от пуговицы совершенно безуспешно: палка вертелась, как веретено, и все туже прикреплялась к пуговице. – Ты сын моего брата или чей ты сын? Чей?.. Развратили мальчишку эти доктринеры. Неужели ты не чувствуешь кровавую обиду вторжения варваров в Париж, des Kalmick, des Kaiserlich[32 - калмыков, пруссаков (фр.)], и проклятый день ватерлооской битвы?
– Нет, не чувствую! – сказал я хладнокровно и совершенно искренно.