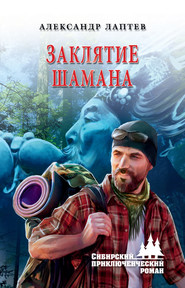По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Память сердца
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Николай Афанасьевич кивнул с довольной улыбкой. Вспоминать об этом было приятно.
– Ну а что дальше было? – спросил он. – Что тебе следователь предъявил?
– Сначала спрашивал, знаю ли я Италию, бывал ли за границей, имеются ли у меня там родственники и все прочее. Я на все вопросы ответил отрицательно. Не был, не знаю, связи ни с кем не поддерживаю. Даже языка итальянского не знаю. Какие уж тут связи! Тогда следователь говорит: а теперь рассказывай, какие ты вел антисоветские разговоры. Я снова отвечаю, что никаких разговоров не вел. Тут он вскочил со стула, будто его ужалила оса, и стал размахивать пистолетом у меня перед носом. Стал кричать: «Врешь, фашист, будешь говорить, что я захочу! Понял меня? Еще раз повторяю, если не понял. У нас времени много. Это только цветочки, а ягодки будут впереди!». Потом он успокоился и дал мне закурить. Предупредил, чтобы я в камере никому не болтал о том, что было, и что он все равно об этом узнает, потому что у него везде свои люди. В камеру меня привели уже под утро и сразу объявили подъем. А днем спать мне не давали, один раз я уснул, так меня в карцер таскали. Так оно и тянулось недели три. Ночью допросы и угрозы, а днем спать не дают. Я уже дошел до точки. Ничего не соображал, не мог на ногах стоять. Галлюцинации у меня начались, все пауки мерещились, большие такие! А следователь все подначивает: подпиши протокол да подпиши, и все сразу закончится. Меня накормят и спать дадут, в отдельную камеру устроят. И допросов больше не будет. А будет суд, на котором мне дадут лет пять, не больше, по моей молодости. И сразу же отправят в лагерь на вольный воздух, где я искуплю свою вину, потом вернусь к семье и буду дальше жить!
– Они всем это обещают, – заметил Николай Афанасьевич.
– Вот-вот. Я и поверил. Да и что мне оставалось? Меня ведь пока еще не били. А многих из нашей камеры избивали на допросах. Били вдвоем, втроем, да так, что некоторые потом умирали прямо в камере среди ночи. А я еще молодой был. Не хотелось умирать. А следователь был хитрый, то добрым прикинется, то расстрелом пугает. Горлачёв его фамилия. Я случайно узнал и запомнил, когда он по телефону с кем-то говорил из своих. В общем, уговорил он меня подписать протокол. Сперва накормил обедом из столовой прямо у себя в кабинете, а потом подсунул допросные листы, чтобы я их прочитал и на каждом расписался. Пришлось сказать ему, что я неграмотный и прочитать ничего не могу.
Тогда он засмеялся, взял в руки папку и стал читать, что там написано, иногда поглядывая на меня поверх листов и проверяя, как я воспринимаю. А мне уже было все едино. Я помнил его обещание про отдых и про скорый суд, где мне присудят пятерик. И я ведь понимал, что он не все читает. Как тут проверишь? Приходилось полагаться на его честное слово.
Николай Афанасьевич, не выдержав, помотал головой. Лицо его сделалось жестким.
– Да ты что! Разве можно верить следователю на слово? Ему ведь только и надо – под расстрел человека подвести. Чем больше смертных приговоров, тем ему лучше! У них ведь там план по расстрелам. Они соревнуются друг с другом, кто больше врагов народа отправит на тот свет!
Сергей тяжело вздохнул.
– Так все и было. Только я тогда этого не понимал. А если бы и понимал – что бы это изменило? Измордовали бы на следствии, выпотрошили, и все одно кончилось бы тем же самым.
Подумав, Николай Афанасьевич согласился.
– Это тоже верно. Видел я и подписавших признание, и не подписавших – все одинаково получили по десять лет, а многих расстреляли. Но расстреливали больше тех, кто подписал. У них на этот счет была установка. Это еще Вышинский вывел такой закон, что обвиняемый должен признать свою вину, и этого признания будет достаточно для обвинительного приговора. А все остальное неважно. Вот следователи и старались выбить признания из невинных людей. Ведь, кроме этого признания, им больше ничего не нужно было – ни доказательств, ни свидетелей, ни орудий преступления, ни мотивации. Повезло тебе, что жив остался!
– Это верно, – подтвердил Сергей. – Мне ведь сперва вынесли смертный приговор. Судила меня выездная сессия военного трибунала Петропавловского гарнизона. Суд проходил в местном клубе НКВД, при закрытых дверях. В зале, кроме судей и охраны, никого не было. Я, конечно, сразу отказался от признания вины, сказал, что меня обманом вынудили подписать признание, что я неграмотный и даже не знаю, что в протоколе написано. А судья мне отвечает, мол, вы все, как попадете на скамью подсудимых, так говорите, что ни в чем не виноваты и что вас оговорили. А на самом деле есть неопровержимые доказательства моей вины. Судья сказала, что я занимал большой пост (это притом, что я матрос, и мне не было тогда и двадцати лет) и что я делал темные дела и вовлек в преступную деятельность множество народа. И тому есть свидетели – братья Козловы. Их тоже вызвали в суд и допрашивали. Я их обоих знал, оба были из трудармии, жили в моем бараке. Вместе на работу ходили.
– И что же они сказали?
– Их вызывали по отдельности. Старший брат сказал, что я ничего не говорил против советской власти, а когда судья сказала, что в деле есть его показания, он ответил, что следователю Горлачёву он ничего не говорил, а только слушал, что тот читал из протокола. А от меня он никогда не слыхал антисоветских разговоров. Потом вызвали его брата, и тот сказал судье, что ничего плохого не слышал от меня. После этого судья объявила перерыв, а минут через двадцать меня снова завели в зал. Вошли судьи, сели за стол, посмотрели в бумаги, и судья сказала: «Подсудимый, встать!» Я с трудом поднялся, голова от волнения кружилась. Судья прочитала вступление, а потом объявила решение суда: «Подсудимый Де-Мартино Серджио Паскалевич приговаривается к высшей мере наказания – расстрелу. Для специальной защиты дается семьдесят два часа». Потом повернулась ко мне и спросила: «Ну что, судом довольны?» Что я мог ответить? Пол подо мной закачался, стало трудно дышать. Ноги подкосились, и я опустился на скамейку. Взглянул на судей и увидел слезы на глазах женщины из состава суда. Она отвернулась, заметив мой взгляд. Солдат, стоявший сзади, приказал: «Смертник, ведите себя спокойно!» Так я стал смертником. Какое жуткое слово! Я тогда думал, что меня сразу поведут на расстрел, прощался с жизнью. Но потом ко мне в камеру пришел адвокат и уговорил подписать кассацию о помиловании. Я сначала не хотел, сказал адвокату, что пусть пишет следователь Горлачёв, который подло обманул меня. Но потом все же поставил свою подпись. Адвокат ушел, а я стал ждать решения. В камере смертников я провел два месяца, каждую минуту ожидая расстрела. Особенно тяжело было по ночам, когда приговоры приводили в исполнение. Я, помню, вздрагивал от каждого шороха. Надзиратель проходил по коридору, а я вскакивал, мне казалось, что это идут за мной. Бр-р-р! Жуткое дело. Никому такого не пожелаю!
Сергей опустил голову и весь погрузился в воспоминания. Лицо его потемнело.
Николай Афанасьевич тронул его за плечо.
– Ну же, ты чего? Ведь не расстреляли же!
Сергей поднял взгляд и несколько секунд смотрел, как бы не узнавая. Потом брови его дрогнули, лицо оживилось, и он медленно растянул губы в улыбке.
– Верно, не расстреляли. Заменили расстрел десятью годами. Только я после этого едва не ослеп. Когда меня вывели из камеры смертников и объявили новый приговор, я вдруг перестал видеть. Думал, так и останусь слепым навеки. Положили меня в больничку, а через три недели выписали. Зрение вернулось. Врач сказал, что это от пережитого потрясения, а еще оттого, что я долго не видел дневного света. Меня ведь за эти два месяца ни разу не выводили на прогулку. Так и сидел впотьмах, как крот. Вот и ослеп. Да еще спал на цементном полу без всякой подстилки. Бока себе застудил. Я уже под конец хотел, чтобы меня поскорее расстреляли.
– Понятно, – протянул Николай Афанасьевич. – А что дальше было?
– Дальше? Да ничего особенного. После больницы меня отправили этапом в лагерь на станцию Жарык. Там и началась моя лагерная жизнь. Сначала я был на уборке урожая, а потом отправили на строительство плотины. Через полгода меня определили работать на овцеферму на всю зиму. Там мне приходилось делать все, что прикажут: возить сено на быках, убирать в кошарах, пасти и кормить овец. Работа была не очень тяжелая, мне нравилось ухаживать за овцами. Все-таки живые существа. Мне с ними как-то легче было. Потом меня опять вернули в лагерь и зачислили в строительную бригаду. Я стал работать подсобным рабочим на кладке саманных домов, месил глину, подносил саман и присматривался к мастерам по кладке. Очень хотелось научиться их ремеслу. Бригадир это заметил и предложил мне работать кладчиком. Я с радостью согласился. Так я стал кладчиком. Там-то меня и прозвали цыганом. Шутили надо мной, хотя и знали, что я итальянец. Но мне это было все равно. Работа мне нравилась, и бригада была хорошая. Кормили нас хорошо. Но все это было недолго. Однажды прошел слух, что собирают большой этап – всех, кто с большим сроком. Некоторые стали делать себе «мастырки», а я не умел. Вот и загремел в этот этап. Была у нас пословица: «Дальше солнца не угонят, а пайку все равно дадут».
Николай Афанасьевич недоверчиво улыбнулся.
– Это вы хорошо жили, если у вас были такие пословицы. У нас в сорок первом в иные месяцы вовсе не было подвоза в лагерь муки. От двух с половиной тысяч к весне в живых осталось восемьсот человек. Тогда и появилась эта присказка: «Кто в войну не сидел, тот лагеря не видал!» Так-то, брат! – И он тяжко вздохнул.
– Да, я понимаю, – согласился Сергей. – Ведь меня посадили в сорок третьем, когда уже война на спад пошла и снабжение стало налаживаться. Про сорок первый я слыхал. Жуткое время было. Да и в сорок втором не слаще. А вы и в сорок первом сидели? – спросил он. – И как там было, шибко тяжело?
Николай Афанасьевич задумался, потом махнул рукой.
– Потом как-нибудь расскажу. Вспоминать неохота. Эх, день-то какой! – И он блаженно зажмурился на солнце, блиставшее в синеве.
Сергей деликатно замолчал. Николай Афанасьевич приоткрыл один глаз, скосил в сторону.
– Ну а дальше что было? Куда тебя отправили?
Сергей ухмыльнулся.
– Так на пересылку же, в Карбас, откуда мы с вами в одном вагоне ехали. В Карбасе я своего старшего брата Франческо встретил, он там работал кузнецом в цехе. От него я узнал про отца и мать с сестрой. А еще брат сказал, что та девчонка, с которой я дружил в Керчи, родила девочку и эта девочка очень похожа на меня. Брат мне очень помог тогда. За долгие годы я впервые увидел родное лицо, понял, что дороже семьи нет у человека ничего. Брат мне махорки дал в дорогу. А дальше вы сами все знаете.
Сергей умолк и стал смотреть на темнеющие на горизонте пологие холмы, а Николай Афанасьевич в это время любовался им. Открытое лицо дышало мужеством и спокойной уверенностью. Как-то сразу чувствовалось, что этот человек ничего не боится, а еще – что он не способен на подлость, на обман. Странно было видеть его здесь – среди отверженных обществом людей. Он уже не удивлялся, что в лагерь отправили его самого – профессора философии. Не удивлялся, что в лагерях находятся ведущие генетики и биологи, физики и конструкторы ракет, математики, писатели и музыканты. Все эти люди были затронуты цивилизацией и словно бы испорчены своей образованностью. Но вот перед ним был чистый лист, добротный материал, из которого можно вылепить все – бесстрашного полководца, талантливого строителя, наконец, подлинного вождя, за которым пойдут тысячи! Вместо этого его держат в камере смертников и доводят до исступления. Ради чего? Этого Николай Афанасьевич не знал. И никто этого не знал в великой советской империи.
Берлаг
Рудник «Днепровский» располагался в районе трехсотого километра Колымской трассы, на знаменитом колымском нагорье, сразу за Яблоневым перевалом. Это был каторжный лагерь, созданный специально для политических. Сидели в нем заключенные со сроками от десяти до двадцати пяти лет. В этом лагере летом сорок восьмого года оказался и Сергей. Чья-то злая воля решила испытать на нем убийственный климат Приполярья.
В один из вечеров всех заключенных построили на вечернюю поверку. Перед строем встал сам начальник лагеря – майор Федько. Он встряхнул бумажный лист и стал читать нарочито грубым голосом:
– Приказ по Берлагу номер пять. Пункт первый. Все заключенные Берлага должны носить номера на одежде, на правой ноге – выше колена, на спине и на шапке – на лбу; на шапке шесть на три сантиметра, на ноге двенадцать на восемь, на спине двадцать пять на пятнадцать сантиметров. Номер должен быть написан черной краской на белом материале. Всем бригадирам получить материал в портновской, в уже нарезанном виде. Писать номера и пришивать самим. Номер получить каждому у нарядчика. За невыполнение – наказание в виде десяти суток изолятора. Срок на исполнение – два дня. Пункт второй. Обращение с обслуживающим вольнонаемным персоналом следующее: подойдя, встать по стойке «смирно», громко сказать: «Гражданин начальник, разрешите обратиться!» Не забывайте, что выданный вам номер заменяет вашу фамилию, имя и отчество. – Начальник отстранил от себя бумагу и обвел взглядом весь строй от края и до края. – Всем все понятно?
Ответом ему было молчание.
– Р-р-разойди-ись! – гаркнул он и, развернувшись, пошел прочь.
Заключенных загнали в бараки, опасаясь бунта. Но ничего такого не случилось. К номерам отнеслись не без юмора. В тот же вечер в бараках закипела работа. Заключенные стали пришивать номера, подшучивая друг над другом. Через два дня все было готово. Все заключенные были пронумерованы, и каждый должен был запомнить свой номер и откликаться на него. А свои имена и фамилии нужно было забыть – кому на двадцать пять лет, а кому и до самой смерти (такому и на бирке, привязанной к большому пальцу на правой ноге, укажут номер, а не фамилию и не имя). Сергею достался номер 1799.
На утренней поверке, глядя друг на друга, заключенные стали громко смеяться. Стоявший рядом надзиратель тоже начал хохотать, широко раскрывая рот и показывая лошадиные зубы – кривые и желтые от табака. Сергей повернулся к нему, проговорил с усмешкой:
– Что, надели на людей номера и радуетесь? Здесь, в лагере, половина невиновных сидит, и совесть у них чище, чем у вас!
Надзиратель так и застыл с раззявленным ртом. Потом вдруг сделал два шага и двинул Сергея прикладом винтовки в бок. Тот охнул и согнулся пополам, хватая ртом воздух.
– Встань в строй, фашист! – со злобой процедил надзиратель. Это был Зубенко – дюжий мужик с отъевшейся рожей и выкатившимися из орбит глазами. Заключенные знали, что Зубенко любит исподтишка ударить заключенного, поэтому старались близко к нему не подходить и на шмонах обойти его стороной. Сергей тоже это знал, но все же не думал, что Зубенко посмеет его ударить при всех.
Кое-как отдышавшись, держась за бок, он подошел к нему. Поглядел в замороженные глаза.
– За что ударил? – произнес, стараясь не выдать волнения.
– Ты еще спрашиваешь, фашист? – Зубенко перехватил поудобнее винтовку и размахнулся для сокрушительного удара. Но сделать ничего не успел. Сергей подшагнул к нему и нанес молниеносный удар в челюсть. Зубенко рухнул как подкошенный. На Сергея тут же бросился второй надзиратель, но и он оказался на земле после мощной оплеухи. А в следующую секунду на Сергея навалились сразу пятеро. Они сбили его с ног и хаотично пинали извивающееся тело, мешая друг другу, теряя равновесие и рыча, словно дикие звери. Заключенные, до тех пор молчавшие, все разом вдруг закричали, надвинулись черной массой на озверевших людей в военной форме. Те сразу охолонулись, попятились было, но потом вспомнили про винтовки, посрывали их с плеч, нацелились на толпу.
– Быстро зашли в барак! Стреляем без предупреждения. Ну, живо!
Заключенные остановились. Все понимали: могут перестрелять в любую секунду, и никто за это не ответит. Все спишут на бунт. А кроме того, они видели, что надзиратели перестали избивать Сергея. Он неподвижно лежал в пыли – окровавленный, грязный, со спутавшимися волосами. Возможно, что его уже убили, когда пинали по голове коваными сапогами. Во всяком случае, надзиратели больше не делали попыток его ударить. Видно, им было неинтересно пинать бесчувственное тело.
Карцер
Сергей очнулся глубокой ночью. Долго не мог понять, что с ним и где он находится. Только чувствовал резкую боль во всем теле. Проведя рукой по лицу, нащупал запекшуюся кровь. Губы были разбиты, передние зубы шатались. А когда он попытался подняться, ощутил острую боль в правом боку. Боль эта была ему знакома – так болят сломанные ребра. Несколько минут лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к себе. Казалось, все тело наполнено горячим металлом, так и тянет к земле. А снизу голый цементный пол, от него разит могильным холодом. Сергей пошевелил одной рукой, потом другой, подвигал головой влево-вправо и сделал глубокий вдох, затем так же медленно выдохнул. Каким-то животным инстинктом он понял, что у него ничего не сломано, кроме ребер. Но ребра – это пустяки. Поболит и перестанет, не впервой! Так он думал про себя, пытаясь успокоиться. Но тревога не отступала. Он знал, что утром его поволокут к оперуполномоченному. Будут обвинять в нападении на конвой. А это расстрел, и к попу ходить не надо!
– Ну а что дальше было? – спросил он. – Что тебе следователь предъявил?
– Сначала спрашивал, знаю ли я Италию, бывал ли за границей, имеются ли у меня там родственники и все прочее. Я на все вопросы ответил отрицательно. Не был, не знаю, связи ни с кем не поддерживаю. Даже языка итальянского не знаю. Какие уж тут связи! Тогда следователь говорит: а теперь рассказывай, какие ты вел антисоветские разговоры. Я снова отвечаю, что никаких разговоров не вел. Тут он вскочил со стула, будто его ужалила оса, и стал размахивать пистолетом у меня перед носом. Стал кричать: «Врешь, фашист, будешь говорить, что я захочу! Понял меня? Еще раз повторяю, если не понял. У нас времени много. Это только цветочки, а ягодки будут впереди!». Потом он успокоился и дал мне закурить. Предупредил, чтобы я в камере никому не болтал о том, что было, и что он все равно об этом узнает, потому что у него везде свои люди. В камеру меня привели уже под утро и сразу объявили подъем. А днем спать мне не давали, один раз я уснул, так меня в карцер таскали. Так оно и тянулось недели три. Ночью допросы и угрозы, а днем спать не дают. Я уже дошел до точки. Ничего не соображал, не мог на ногах стоять. Галлюцинации у меня начались, все пауки мерещились, большие такие! А следователь все подначивает: подпиши протокол да подпиши, и все сразу закончится. Меня накормят и спать дадут, в отдельную камеру устроят. И допросов больше не будет. А будет суд, на котором мне дадут лет пять, не больше, по моей молодости. И сразу же отправят в лагерь на вольный воздух, где я искуплю свою вину, потом вернусь к семье и буду дальше жить!
– Они всем это обещают, – заметил Николай Афанасьевич.
– Вот-вот. Я и поверил. Да и что мне оставалось? Меня ведь пока еще не били. А многих из нашей камеры избивали на допросах. Били вдвоем, втроем, да так, что некоторые потом умирали прямо в камере среди ночи. А я еще молодой был. Не хотелось умирать. А следователь был хитрый, то добрым прикинется, то расстрелом пугает. Горлачёв его фамилия. Я случайно узнал и запомнил, когда он по телефону с кем-то говорил из своих. В общем, уговорил он меня подписать протокол. Сперва накормил обедом из столовой прямо у себя в кабинете, а потом подсунул допросные листы, чтобы я их прочитал и на каждом расписался. Пришлось сказать ему, что я неграмотный и прочитать ничего не могу.
Тогда он засмеялся, взял в руки папку и стал читать, что там написано, иногда поглядывая на меня поверх листов и проверяя, как я воспринимаю. А мне уже было все едино. Я помнил его обещание про отдых и про скорый суд, где мне присудят пятерик. И я ведь понимал, что он не все читает. Как тут проверишь? Приходилось полагаться на его честное слово.
Николай Афанасьевич, не выдержав, помотал головой. Лицо его сделалось жестким.
– Да ты что! Разве можно верить следователю на слово? Ему ведь только и надо – под расстрел человека подвести. Чем больше смертных приговоров, тем ему лучше! У них ведь там план по расстрелам. Они соревнуются друг с другом, кто больше врагов народа отправит на тот свет!
Сергей тяжело вздохнул.
– Так все и было. Только я тогда этого не понимал. А если бы и понимал – что бы это изменило? Измордовали бы на следствии, выпотрошили, и все одно кончилось бы тем же самым.
Подумав, Николай Афанасьевич согласился.
– Это тоже верно. Видел я и подписавших признание, и не подписавших – все одинаково получили по десять лет, а многих расстреляли. Но расстреливали больше тех, кто подписал. У них на этот счет была установка. Это еще Вышинский вывел такой закон, что обвиняемый должен признать свою вину, и этого признания будет достаточно для обвинительного приговора. А все остальное неважно. Вот следователи и старались выбить признания из невинных людей. Ведь, кроме этого признания, им больше ничего не нужно было – ни доказательств, ни свидетелей, ни орудий преступления, ни мотивации. Повезло тебе, что жив остался!
– Это верно, – подтвердил Сергей. – Мне ведь сперва вынесли смертный приговор. Судила меня выездная сессия военного трибунала Петропавловского гарнизона. Суд проходил в местном клубе НКВД, при закрытых дверях. В зале, кроме судей и охраны, никого не было. Я, конечно, сразу отказался от признания вины, сказал, что меня обманом вынудили подписать признание, что я неграмотный и даже не знаю, что в протоколе написано. А судья мне отвечает, мол, вы все, как попадете на скамью подсудимых, так говорите, что ни в чем не виноваты и что вас оговорили. А на самом деле есть неопровержимые доказательства моей вины. Судья сказала, что я занимал большой пост (это притом, что я матрос, и мне не было тогда и двадцати лет) и что я делал темные дела и вовлек в преступную деятельность множество народа. И тому есть свидетели – братья Козловы. Их тоже вызвали в суд и допрашивали. Я их обоих знал, оба были из трудармии, жили в моем бараке. Вместе на работу ходили.
– И что же они сказали?
– Их вызывали по отдельности. Старший брат сказал, что я ничего не говорил против советской власти, а когда судья сказала, что в деле есть его показания, он ответил, что следователю Горлачёву он ничего не говорил, а только слушал, что тот читал из протокола. А от меня он никогда не слыхал антисоветских разговоров. Потом вызвали его брата, и тот сказал судье, что ничего плохого не слышал от меня. После этого судья объявила перерыв, а минут через двадцать меня снова завели в зал. Вошли судьи, сели за стол, посмотрели в бумаги, и судья сказала: «Подсудимый, встать!» Я с трудом поднялся, голова от волнения кружилась. Судья прочитала вступление, а потом объявила решение суда: «Подсудимый Де-Мартино Серджио Паскалевич приговаривается к высшей мере наказания – расстрелу. Для специальной защиты дается семьдесят два часа». Потом повернулась ко мне и спросила: «Ну что, судом довольны?» Что я мог ответить? Пол подо мной закачался, стало трудно дышать. Ноги подкосились, и я опустился на скамейку. Взглянул на судей и увидел слезы на глазах женщины из состава суда. Она отвернулась, заметив мой взгляд. Солдат, стоявший сзади, приказал: «Смертник, ведите себя спокойно!» Так я стал смертником. Какое жуткое слово! Я тогда думал, что меня сразу поведут на расстрел, прощался с жизнью. Но потом ко мне в камеру пришел адвокат и уговорил подписать кассацию о помиловании. Я сначала не хотел, сказал адвокату, что пусть пишет следователь Горлачёв, который подло обманул меня. Но потом все же поставил свою подпись. Адвокат ушел, а я стал ждать решения. В камере смертников я провел два месяца, каждую минуту ожидая расстрела. Особенно тяжело было по ночам, когда приговоры приводили в исполнение. Я, помню, вздрагивал от каждого шороха. Надзиратель проходил по коридору, а я вскакивал, мне казалось, что это идут за мной. Бр-р-р! Жуткое дело. Никому такого не пожелаю!
Сергей опустил голову и весь погрузился в воспоминания. Лицо его потемнело.
Николай Афанасьевич тронул его за плечо.
– Ну же, ты чего? Ведь не расстреляли же!
Сергей поднял взгляд и несколько секунд смотрел, как бы не узнавая. Потом брови его дрогнули, лицо оживилось, и он медленно растянул губы в улыбке.
– Верно, не расстреляли. Заменили расстрел десятью годами. Только я после этого едва не ослеп. Когда меня вывели из камеры смертников и объявили новый приговор, я вдруг перестал видеть. Думал, так и останусь слепым навеки. Положили меня в больничку, а через три недели выписали. Зрение вернулось. Врач сказал, что это от пережитого потрясения, а еще оттого, что я долго не видел дневного света. Меня ведь за эти два месяца ни разу не выводили на прогулку. Так и сидел впотьмах, как крот. Вот и ослеп. Да еще спал на цементном полу без всякой подстилки. Бока себе застудил. Я уже под конец хотел, чтобы меня поскорее расстреляли.
– Понятно, – протянул Николай Афанасьевич. – А что дальше было?
– Дальше? Да ничего особенного. После больницы меня отправили этапом в лагерь на станцию Жарык. Там и началась моя лагерная жизнь. Сначала я был на уборке урожая, а потом отправили на строительство плотины. Через полгода меня определили работать на овцеферму на всю зиму. Там мне приходилось делать все, что прикажут: возить сено на быках, убирать в кошарах, пасти и кормить овец. Работа была не очень тяжелая, мне нравилось ухаживать за овцами. Все-таки живые существа. Мне с ними как-то легче было. Потом меня опять вернули в лагерь и зачислили в строительную бригаду. Я стал работать подсобным рабочим на кладке саманных домов, месил глину, подносил саман и присматривался к мастерам по кладке. Очень хотелось научиться их ремеслу. Бригадир это заметил и предложил мне работать кладчиком. Я с радостью согласился. Так я стал кладчиком. Там-то меня и прозвали цыганом. Шутили надо мной, хотя и знали, что я итальянец. Но мне это было все равно. Работа мне нравилась, и бригада была хорошая. Кормили нас хорошо. Но все это было недолго. Однажды прошел слух, что собирают большой этап – всех, кто с большим сроком. Некоторые стали делать себе «мастырки», а я не умел. Вот и загремел в этот этап. Была у нас пословица: «Дальше солнца не угонят, а пайку все равно дадут».
Николай Афанасьевич недоверчиво улыбнулся.
– Это вы хорошо жили, если у вас были такие пословицы. У нас в сорок первом в иные месяцы вовсе не было подвоза в лагерь муки. От двух с половиной тысяч к весне в живых осталось восемьсот человек. Тогда и появилась эта присказка: «Кто в войну не сидел, тот лагеря не видал!» Так-то, брат! – И он тяжко вздохнул.
– Да, я понимаю, – согласился Сергей. – Ведь меня посадили в сорок третьем, когда уже война на спад пошла и снабжение стало налаживаться. Про сорок первый я слыхал. Жуткое время было. Да и в сорок втором не слаще. А вы и в сорок первом сидели? – спросил он. – И как там было, шибко тяжело?
Николай Афанасьевич задумался, потом махнул рукой.
– Потом как-нибудь расскажу. Вспоминать неохота. Эх, день-то какой! – И он блаженно зажмурился на солнце, блиставшее в синеве.
Сергей деликатно замолчал. Николай Афанасьевич приоткрыл один глаз, скосил в сторону.
– Ну а дальше что было? Куда тебя отправили?
Сергей ухмыльнулся.
– Так на пересылку же, в Карбас, откуда мы с вами в одном вагоне ехали. В Карбасе я своего старшего брата Франческо встретил, он там работал кузнецом в цехе. От него я узнал про отца и мать с сестрой. А еще брат сказал, что та девчонка, с которой я дружил в Керчи, родила девочку и эта девочка очень похожа на меня. Брат мне очень помог тогда. За долгие годы я впервые увидел родное лицо, понял, что дороже семьи нет у человека ничего. Брат мне махорки дал в дорогу. А дальше вы сами все знаете.
Сергей умолк и стал смотреть на темнеющие на горизонте пологие холмы, а Николай Афанасьевич в это время любовался им. Открытое лицо дышало мужеством и спокойной уверенностью. Как-то сразу чувствовалось, что этот человек ничего не боится, а еще – что он не способен на подлость, на обман. Странно было видеть его здесь – среди отверженных обществом людей. Он уже не удивлялся, что в лагерь отправили его самого – профессора философии. Не удивлялся, что в лагерях находятся ведущие генетики и биологи, физики и конструкторы ракет, математики, писатели и музыканты. Все эти люди были затронуты цивилизацией и словно бы испорчены своей образованностью. Но вот перед ним был чистый лист, добротный материал, из которого можно вылепить все – бесстрашного полководца, талантливого строителя, наконец, подлинного вождя, за которым пойдут тысячи! Вместо этого его держат в камере смертников и доводят до исступления. Ради чего? Этого Николай Афанасьевич не знал. И никто этого не знал в великой советской империи.
Берлаг
Рудник «Днепровский» располагался в районе трехсотого километра Колымской трассы, на знаменитом колымском нагорье, сразу за Яблоневым перевалом. Это был каторжный лагерь, созданный специально для политических. Сидели в нем заключенные со сроками от десяти до двадцати пяти лет. В этом лагере летом сорок восьмого года оказался и Сергей. Чья-то злая воля решила испытать на нем убийственный климат Приполярья.
В один из вечеров всех заключенных построили на вечернюю поверку. Перед строем встал сам начальник лагеря – майор Федько. Он встряхнул бумажный лист и стал читать нарочито грубым голосом:
– Приказ по Берлагу номер пять. Пункт первый. Все заключенные Берлага должны носить номера на одежде, на правой ноге – выше колена, на спине и на шапке – на лбу; на шапке шесть на три сантиметра, на ноге двенадцать на восемь, на спине двадцать пять на пятнадцать сантиметров. Номер должен быть написан черной краской на белом материале. Всем бригадирам получить материал в портновской, в уже нарезанном виде. Писать номера и пришивать самим. Номер получить каждому у нарядчика. За невыполнение – наказание в виде десяти суток изолятора. Срок на исполнение – два дня. Пункт второй. Обращение с обслуживающим вольнонаемным персоналом следующее: подойдя, встать по стойке «смирно», громко сказать: «Гражданин начальник, разрешите обратиться!» Не забывайте, что выданный вам номер заменяет вашу фамилию, имя и отчество. – Начальник отстранил от себя бумагу и обвел взглядом весь строй от края и до края. – Всем все понятно?
Ответом ему было молчание.
– Р-р-разойди-ись! – гаркнул он и, развернувшись, пошел прочь.
Заключенных загнали в бараки, опасаясь бунта. Но ничего такого не случилось. К номерам отнеслись не без юмора. В тот же вечер в бараках закипела работа. Заключенные стали пришивать номера, подшучивая друг над другом. Через два дня все было готово. Все заключенные были пронумерованы, и каждый должен был запомнить свой номер и откликаться на него. А свои имена и фамилии нужно было забыть – кому на двадцать пять лет, а кому и до самой смерти (такому и на бирке, привязанной к большому пальцу на правой ноге, укажут номер, а не фамилию и не имя). Сергею достался номер 1799.
На утренней поверке, глядя друг на друга, заключенные стали громко смеяться. Стоявший рядом надзиратель тоже начал хохотать, широко раскрывая рот и показывая лошадиные зубы – кривые и желтые от табака. Сергей повернулся к нему, проговорил с усмешкой:
– Что, надели на людей номера и радуетесь? Здесь, в лагере, половина невиновных сидит, и совесть у них чище, чем у вас!
Надзиратель так и застыл с раззявленным ртом. Потом вдруг сделал два шага и двинул Сергея прикладом винтовки в бок. Тот охнул и согнулся пополам, хватая ртом воздух.
– Встань в строй, фашист! – со злобой процедил надзиратель. Это был Зубенко – дюжий мужик с отъевшейся рожей и выкатившимися из орбит глазами. Заключенные знали, что Зубенко любит исподтишка ударить заключенного, поэтому старались близко к нему не подходить и на шмонах обойти его стороной. Сергей тоже это знал, но все же не думал, что Зубенко посмеет его ударить при всех.
Кое-как отдышавшись, держась за бок, он подошел к нему. Поглядел в замороженные глаза.
– За что ударил? – произнес, стараясь не выдать волнения.
– Ты еще спрашиваешь, фашист? – Зубенко перехватил поудобнее винтовку и размахнулся для сокрушительного удара. Но сделать ничего не успел. Сергей подшагнул к нему и нанес молниеносный удар в челюсть. Зубенко рухнул как подкошенный. На Сергея тут же бросился второй надзиратель, но и он оказался на земле после мощной оплеухи. А в следующую секунду на Сергея навалились сразу пятеро. Они сбили его с ног и хаотично пинали извивающееся тело, мешая друг другу, теряя равновесие и рыча, словно дикие звери. Заключенные, до тех пор молчавшие, все разом вдруг закричали, надвинулись черной массой на озверевших людей в военной форме. Те сразу охолонулись, попятились было, но потом вспомнили про винтовки, посрывали их с плеч, нацелились на толпу.
– Быстро зашли в барак! Стреляем без предупреждения. Ну, живо!
Заключенные остановились. Все понимали: могут перестрелять в любую секунду, и никто за это не ответит. Все спишут на бунт. А кроме того, они видели, что надзиратели перестали избивать Сергея. Он неподвижно лежал в пыли – окровавленный, грязный, со спутавшимися волосами. Возможно, что его уже убили, когда пинали по голове коваными сапогами. Во всяком случае, надзиратели больше не делали попыток его ударить. Видно, им было неинтересно пинать бесчувственное тело.
Карцер
Сергей очнулся глубокой ночью. Долго не мог понять, что с ним и где он находится. Только чувствовал резкую боль во всем теле. Проведя рукой по лицу, нащупал запекшуюся кровь. Губы были разбиты, передние зубы шатались. А когда он попытался подняться, ощутил острую боль в правом боку. Боль эта была ему знакома – так болят сломанные ребра. Несколько минут лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к себе. Казалось, все тело наполнено горячим металлом, так и тянет к земле. А снизу голый цементный пол, от него разит могильным холодом. Сергей пошевелил одной рукой, потом другой, подвигал головой влево-вправо и сделал глубокий вдох, затем так же медленно выдохнул. Каким-то животным инстинктом он понял, что у него ничего не сломано, кроме ребер. Но ребра – это пустяки. Поболит и перестанет, не впервой! Так он думал про себя, пытаясь успокоиться. Но тревога не отступала. Он знал, что утром его поволокут к оперуполномоченному. Будут обвинять в нападении на конвой. А это расстрел, и к попу ходить не надо!