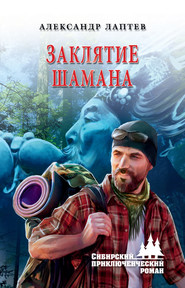По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Память сердца
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так он лежал несколько часов среди мертвящей тишины, то падая духом, то возгораясь надеждой, что все как-нибудь обойдется, Зубенко не станет подводить его под расстрел. Ведь он первый ударил. А потом его били сразу несколько человек – Сергей отчетливо помнил, как катался по земле, увёртываясь от тяжелых сапог и закрывая голову руками. А потом раздался многоголосый рев – это все разом закричали заключенные. И это его спасло. Если бы не ребята, его бы забили до смерти и теперь он был бы не здесь, а лежал бы в мертвецкой – разбухший, синюшный, страшный… Нет, лучше не думать об этом. Наступит утро, и все разрешится. Его отпустят в барак, все пойдет по-прежнему.
И утро действительно наступило. Но в барак его не отпустили. А прямо из изолятора подняли и поволокли в оперчасть.
Оперуполномоченный – такой, как и все они, – затянутый в кожаные ремни, в тугой гимнастерке и черных хромовых сапогах, с уродливой портупеей на боку – холодно глянул на Сергея.
– Ну, рассказывай, за что ты напал на представителей советской власти.
Сергей стоял перед столом, прижимая правый локоть к ребрам, чтобы не очень болело. Его мутило, голова кружилась. Он боялся упасть от слабости. Голос уполномоченного доходил до него, как сквозь подушку.
Собравшись с силами, он произнес:
– Зубенко первый меня ударил, ребра мне сломал прикладом. Такие, как он, позорят советскую власть, избивая ни за что заключенного. Мы такие же люди, только лишенные свободы. Если нас можно бить, так объявите об этом, чтобы все знали.
Уполномоченный вскочил со стула.
– Замолчи, сволочь!
– Вы мне будете клеить дело, а я должен молчать? На прошлой неделе дежурный офицер ударил заключенного Батогу при всех. Если это так положено, зачитайте приказ, что нас можно избивать. Тогда мы будем знать, что наши бока служат для кулаков надзирателей, а заключенный не имеет права защищаться.
Оперуполномоченный онемел от такой наглости. В какой-то момент рука его потянулась к портупее. Но он вовремя опомнился. Стрелять в заключенного прямо в кабинете он не мог. Теперь не тридцать восьмой год, когда он мог садануть обвиняемого графином по скуле или двинуть мраморной пепельницей в висок, а то и просто пристрелить. Хоть это и противно, но иногда приходилось делать – ради мировой справедливости и братства.
Взяв себя в руки, он вернулся на свое место, извлек из картонной папки уже заполненный каракулями лист и стал читать:
– Следствием установлено, что заключенный Де-Мартино Серджио Паскалевич, осужденный по статье пятьдесят восемь, части восьмая, десятая, одиннадцатая и четырнадцатая, во время отбытия наказания в Береговом лагере номер пять не подчинился требованиям администрации, напал на конвойных и попытался завладеть оружием, но принятыми мерами был обезврежен и заключён в следственный изолятор.
– Я не пытался завладеть оружием! – воскликнул Сергей. – Чего вы врёте?
Уполномоченный поднял глаза от бумаги и насмешливо посмотрел на него.
– Это ты будешь судье объяснять. А я пишу согласно показаниям свидетелей. Того же Зубенко, на которого ты напал. Скажи спасибо, что он тебя на месте не пристрелил! Имел полное право.
– Все ясно, – ответил Сергей. – Я ничего подписывать не буду. Хватит того, что я на следствии подписал себе срок ни за что. Теперь я стал умнее. И вообще, я больше не буду отвечать ни на какие вопросы. И на допрос меня больше не вызывайте. Я больше не произнесу ни слова.
Уполномоченный стукнул кулаком по столу.
– Я заставлю тебя говорить, фашист недобитый!
– Вы можете избивать меня, как угодно издеваться. Но я все равно не подпишу этого обвинения, – ответил Сергей.
Уполномоченный бросил лист на стол.
– Хватит дипломатию разводить. Сейчас пойдешь в изолятор, подумаешь хорошенько, а завтра я тебя вызову. Все подпишешь, или я тебя сгною.
Уполномоченный вызвал надзирателя, и тот повел Сергея обратно в изолятор. Сергей шел медленно, припадая на правую ногу. Надзиратель не торопил и не прикрикивал. Он уже знал о случившемся и почитал Сергея за покойника. Что бывает за нападение на конвой – он хорошо знал. К тому же он слыхал, как оперуполномоченный орал в своем кабинете. «Уж лучше бы этого бедолагу пристрелили прямо там, на месте, – бесхитростно думал надзиратель. – А то будут теперь мучить, а потом все одно расстреляют!» Он также думал о том, что, возможно, ему самому и придется расстреливать этого парня. От такой мысли на душе становилось муторно, и он старался не смотреть на Сергея, чувствуя перед ним безотчетную вину.
В такой-то момент к ним приблизился заключенный. Сергей повернул голову и увидел соседа по бараку – Пашу Ребрина. Остановившись в нескольких шагах, тот спросил разрешения дать Сергею курево. Надзиратель подумал секунду, потом кивнул.
– Давай, только быстро.
Паша быстро подошел, сунул в руки кулечек с махоркой и бумагу на самокрутки. Приблизив лицо, быстро проговорил:
– Держись, Серега, тебе клеят серьезное дело!
Сергей кивнул.
– Знаю. Ты вот что, скажи ребятам, чтобы к вечеру принесли мне в камеру иголку с нитками покрепче. Сделаешь?
– Конечно. А тебе зачем?
– Надо.
Сергей пожал протянутую руку, и Паша быстро пошел прочь.
Настал вечер. В изоляторе наступило время ужина. Сергей с нетерпением ждал этой минуты. Вот забрякали бачки в коридоре, распахнулась «кормушка». Раздатчик – Витя Зинченко (из заключенных) – заглянул внутрь и заорал нарочито грубо:
– Чего, как неживой, ворочаешься? Получай паек!
Он поставил на кормушку миску с баландой и пайку черного запекшегося хлеба, а сам подморгнул и показал глазами на пайку. Сергей быстро кивнул. Он уже понял, что в хлебе припрятано то, что ему нужно.
Кормушка захлопнулась, тележка с бачками покатилась дальше.
Сергей взял горбушку черного хлеба, подержал на весу, потом осторожно разломил надвое. Внутри мякиша была спрятана деревянная катушка с нитками, в которые наискось была воткнута толстая швейная игла. Сергей похолодел, глядя на эту иглу. Но делать было нечего, он должен исполнить задуманное. А иначе – смерть!
Но прежде надо было расправиться с ужином. Кто знает, когда еще ему удастся поесть.
Он уселся на топчан и придвинул к себе миску. Впереди была целая ночь, спешить некуда.
Он еще успел немного поспать и лишь глубокой ночью, когда стихли все звуки, принялся за дело.
В юности, которая теперь казалась ему чем-то вроде сновиденья, ему приходилось зашивать на себе раны от ножа – на левой руке, на бедре, а однажды даже на боку: это «хромой» порезал его финкой. Тогда было много крови, а рана оказалась пустячной. Сергей в горячке даже не почувствовал боли – сделал три стежка у себя на боку, как если бы он зашивал подушку, потом облил уже зашитую рану разбавленным спиртом и заклеил пластырем. И все обошлось. Даже шрама не осталось. Воспоминание это придало Сергею уверенности. Он нащупал в темноте катушку, вытащил иглу и размотал нитку – сантиметров сорок, этого должно было хватить. Дальше все происходило как бы само собой. Он запретил себе думать и просто смотрел на свои руки, которые совершали привычные движения: вдевали нить в игольное ушко, завязывали узел на конце сдвоенной нити; потом иголка приблизилась в темноте к подбородку… Сергей весь напрягся, перестал дышать. Вот игла ткнулась в нижнюю губу, он ощутил укол и невольно откинул голову. Но однако же… так дело не пойдет. Он заставил себя опустить подбородок на грудь, левой рукой крепко взял себя за нижнюю губу с правой стороны, крепко сжал иглу правой рукой. Провел острием по мягкой плоти, а потом резким движением проткнул губу снизу вверх… Боль была ужасная, он весь покрылся потом. Во рту стало влажно от крови. Был бы сейчас рядом надежный товарищ – сделал бы все как надо. А так… Собрав волю в кулак, Сергей примерился к верхней губе. Крепко зажмурился и стал медленно вводить иглу в трепещущую плоть. Снова было нестерпимо больно. Сергей дивился неподатливости губы, она словно бы сопротивлялась грубому вторжению, не хотела пропускать через себя холодный металл; иглу приходилось сжимать изо всех сил, чтобы она не выскользнула из влажных пальцев.
Второй стежок дался ему чуть легче, он действовал уже увереннее, и боль немного притупилась. Сергей перестал чувствовать холод, и весь окружающий мир перестал существовать для него. Он видел лишь иголку, тускло проблескивающую среди бесконечной тьмы, а еще он чувствовал свои губы, они казались ему большими, разбухшими, тяжелыми. А больше у него ничего не было – ни тела, ни головы. Даже рук он уже не ощущал, игла словно бы сама плыла к нему по воздуху и вонзалась то снизу, то сверху, а потом тянула, тянула за собой нить, обжигая кровоточащую рану, взрезывая беззащитную плоть…
Сергей потерял счет времени, и когда все уже было закончено, долго сидел неподвижно, словно не веря себе. Однако стало уже светать. Надо было убрать следы преступления. Он сдернул с иглы остатки окровавленной нитки и бросил в стоявшую тут же парашу. Иглу засунул обратно в катушку с нитками, саму катушку положил в дальний темный угол, чтоб не было видно. Потом осторожно провел пальцем по губам. Губы были плотно сомкнуты, кровь уже подсыхала и взялась корочкой. Шесть крепких швов наложил он себе в эту ночь. Каждый шов двойной нити был крепко стянут на губах морским узлом. Если он теперь резко раскроет рот, то неминуемо порвет себе губы – это Сергей знал твердо. Но рот он теперь не раскроет ни за что на свете. Если хотят, пусть стреляют прямо так – с зашитым ртом! – Подумав так, Сергей неожиданно для себя успокоился. Да и чего теперь переживать? Он сделал свой выбор. А дальше будь что будет!
Осторожно лег на топчан. До подъема было еще часа полтора. Закрыл глаза, и в голове сразу зашумело, закачало на длинной волне, понесло куда-то вдаль. Через минуту он был уже далеко: шел под парусами в бурное море, берег отдалялся, а впереди были страшные волны. Но он не боялся! Лодка шла наперерез волнам, против сопротивляющегося ветра; раздувшийся парус отчаянно трепетал, морская пучина то разверзалась до самой глубины, то возносила лодку к мрачным небесам; ослепительные молнии раскалывали небо на две неравные части – Сергею все было нипочем! Он что-то кричал бушующим волнам, рвущему парус ветру, молниям, грозившим ему погибелью. Он ничего не боялся и смело шел вперед. Так мужество перебарывает смерть и одолевает Судьбу.
Непреклонность
Утром, когда раздатчик, открыв кормушку, поставил на нее миску и глянул на Сергея, тот показал рукой на свой рот и отмахнулся от миски, делая знак убрать ее.
Кормушка тут же захлопнулась. А через несколько минут дверь распахнулась, и в камеру вошел начальник изолятора Фролов.
Увидев, что рот у Сергея зашит, Фролов вдруг вскипел:
– Что ты творишь-то, а? Ну, погоди у меня!
Он выскочил из камеры, железная дверь громыхнула, лязгнули ключи. Тяжело бухая сапогами, начальник изолятора торопливо пошел к выходу.
И утро действительно наступило. Но в барак его не отпустили. А прямо из изолятора подняли и поволокли в оперчасть.
Оперуполномоченный – такой, как и все они, – затянутый в кожаные ремни, в тугой гимнастерке и черных хромовых сапогах, с уродливой портупеей на боку – холодно глянул на Сергея.
– Ну, рассказывай, за что ты напал на представителей советской власти.
Сергей стоял перед столом, прижимая правый локоть к ребрам, чтобы не очень болело. Его мутило, голова кружилась. Он боялся упасть от слабости. Голос уполномоченного доходил до него, как сквозь подушку.
Собравшись с силами, он произнес:
– Зубенко первый меня ударил, ребра мне сломал прикладом. Такие, как он, позорят советскую власть, избивая ни за что заключенного. Мы такие же люди, только лишенные свободы. Если нас можно бить, так объявите об этом, чтобы все знали.
Уполномоченный вскочил со стула.
– Замолчи, сволочь!
– Вы мне будете клеить дело, а я должен молчать? На прошлой неделе дежурный офицер ударил заключенного Батогу при всех. Если это так положено, зачитайте приказ, что нас можно избивать. Тогда мы будем знать, что наши бока служат для кулаков надзирателей, а заключенный не имеет права защищаться.
Оперуполномоченный онемел от такой наглости. В какой-то момент рука его потянулась к портупее. Но он вовремя опомнился. Стрелять в заключенного прямо в кабинете он не мог. Теперь не тридцать восьмой год, когда он мог садануть обвиняемого графином по скуле или двинуть мраморной пепельницей в висок, а то и просто пристрелить. Хоть это и противно, но иногда приходилось делать – ради мировой справедливости и братства.
Взяв себя в руки, он вернулся на свое место, извлек из картонной папки уже заполненный каракулями лист и стал читать:
– Следствием установлено, что заключенный Де-Мартино Серджио Паскалевич, осужденный по статье пятьдесят восемь, части восьмая, десятая, одиннадцатая и четырнадцатая, во время отбытия наказания в Береговом лагере номер пять не подчинился требованиям администрации, напал на конвойных и попытался завладеть оружием, но принятыми мерами был обезврежен и заключён в следственный изолятор.
– Я не пытался завладеть оружием! – воскликнул Сергей. – Чего вы врёте?
Уполномоченный поднял глаза от бумаги и насмешливо посмотрел на него.
– Это ты будешь судье объяснять. А я пишу согласно показаниям свидетелей. Того же Зубенко, на которого ты напал. Скажи спасибо, что он тебя на месте не пристрелил! Имел полное право.
– Все ясно, – ответил Сергей. – Я ничего подписывать не буду. Хватит того, что я на следствии подписал себе срок ни за что. Теперь я стал умнее. И вообще, я больше не буду отвечать ни на какие вопросы. И на допрос меня больше не вызывайте. Я больше не произнесу ни слова.
Уполномоченный стукнул кулаком по столу.
– Я заставлю тебя говорить, фашист недобитый!
– Вы можете избивать меня, как угодно издеваться. Но я все равно не подпишу этого обвинения, – ответил Сергей.
Уполномоченный бросил лист на стол.
– Хватит дипломатию разводить. Сейчас пойдешь в изолятор, подумаешь хорошенько, а завтра я тебя вызову. Все подпишешь, или я тебя сгною.
Уполномоченный вызвал надзирателя, и тот повел Сергея обратно в изолятор. Сергей шел медленно, припадая на правую ногу. Надзиратель не торопил и не прикрикивал. Он уже знал о случившемся и почитал Сергея за покойника. Что бывает за нападение на конвой – он хорошо знал. К тому же он слыхал, как оперуполномоченный орал в своем кабинете. «Уж лучше бы этого бедолагу пристрелили прямо там, на месте, – бесхитростно думал надзиратель. – А то будут теперь мучить, а потом все одно расстреляют!» Он также думал о том, что, возможно, ему самому и придется расстреливать этого парня. От такой мысли на душе становилось муторно, и он старался не смотреть на Сергея, чувствуя перед ним безотчетную вину.
В такой-то момент к ним приблизился заключенный. Сергей повернул голову и увидел соседа по бараку – Пашу Ребрина. Остановившись в нескольких шагах, тот спросил разрешения дать Сергею курево. Надзиратель подумал секунду, потом кивнул.
– Давай, только быстро.
Паша быстро подошел, сунул в руки кулечек с махоркой и бумагу на самокрутки. Приблизив лицо, быстро проговорил:
– Держись, Серега, тебе клеят серьезное дело!
Сергей кивнул.
– Знаю. Ты вот что, скажи ребятам, чтобы к вечеру принесли мне в камеру иголку с нитками покрепче. Сделаешь?
– Конечно. А тебе зачем?
– Надо.
Сергей пожал протянутую руку, и Паша быстро пошел прочь.
Настал вечер. В изоляторе наступило время ужина. Сергей с нетерпением ждал этой минуты. Вот забрякали бачки в коридоре, распахнулась «кормушка». Раздатчик – Витя Зинченко (из заключенных) – заглянул внутрь и заорал нарочито грубо:
– Чего, как неживой, ворочаешься? Получай паек!
Он поставил на кормушку миску с баландой и пайку черного запекшегося хлеба, а сам подморгнул и показал глазами на пайку. Сергей быстро кивнул. Он уже понял, что в хлебе припрятано то, что ему нужно.
Кормушка захлопнулась, тележка с бачками покатилась дальше.
Сергей взял горбушку черного хлеба, подержал на весу, потом осторожно разломил надвое. Внутри мякиша была спрятана деревянная катушка с нитками, в которые наискось была воткнута толстая швейная игла. Сергей похолодел, глядя на эту иглу. Но делать было нечего, он должен исполнить задуманное. А иначе – смерть!
Но прежде надо было расправиться с ужином. Кто знает, когда еще ему удастся поесть.
Он уселся на топчан и придвинул к себе миску. Впереди была целая ночь, спешить некуда.
Он еще успел немного поспать и лишь глубокой ночью, когда стихли все звуки, принялся за дело.
В юности, которая теперь казалась ему чем-то вроде сновиденья, ему приходилось зашивать на себе раны от ножа – на левой руке, на бедре, а однажды даже на боку: это «хромой» порезал его финкой. Тогда было много крови, а рана оказалась пустячной. Сергей в горячке даже не почувствовал боли – сделал три стежка у себя на боку, как если бы он зашивал подушку, потом облил уже зашитую рану разбавленным спиртом и заклеил пластырем. И все обошлось. Даже шрама не осталось. Воспоминание это придало Сергею уверенности. Он нащупал в темноте катушку, вытащил иглу и размотал нитку – сантиметров сорок, этого должно было хватить. Дальше все происходило как бы само собой. Он запретил себе думать и просто смотрел на свои руки, которые совершали привычные движения: вдевали нить в игольное ушко, завязывали узел на конце сдвоенной нити; потом иголка приблизилась в темноте к подбородку… Сергей весь напрягся, перестал дышать. Вот игла ткнулась в нижнюю губу, он ощутил укол и невольно откинул голову. Но однако же… так дело не пойдет. Он заставил себя опустить подбородок на грудь, левой рукой крепко взял себя за нижнюю губу с правой стороны, крепко сжал иглу правой рукой. Провел острием по мягкой плоти, а потом резким движением проткнул губу снизу вверх… Боль была ужасная, он весь покрылся потом. Во рту стало влажно от крови. Был бы сейчас рядом надежный товарищ – сделал бы все как надо. А так… Собрав волю в кулак, Сергей примерился к верхней губе. Крепко зажмурился и стал медленно вводить иглу в трепещущую плоть. Снова было нестерпимо больно. Сергей дивился неподатливости губы, она словно бы сопротивлялась грубому вторжению, не хотела пропускать через себя холодный металл; иглу приходилось сжимать изо всех сил, чтобы она не выскользнула из влажных пальцев.
Второй стежок дался ему чуть легче, он действовал уже увереннее, и боль немного притупилась. Сергей перестал чувствовать холод, и весь окружающий мир перестал существовать для него. Он видел лишь иголку, тускло проблескивающую среди бесконечной тьмы, а еще он чувствовал свои губы, они казались ему большими, разбухшими, тяжелыми. А больше у него ничего не было – ни тела, ни головы. Даже рук он уже не ощущал, игла словно бы сама плыла к нему по воздуху и вонзалась то снизу, то сверху, а потом тянула, тянула за собой нить, обжигая кровоточащую рану, взрезывая беззащитную плоть…
Сергей потерял счет времени, и когда все уже было закончено, долго сидел неподвижно, словно не веря себе. Однако стало уже светать. Надо было убрать следы преступления. Он сдернул с иглы остатки окровавленной нитки и бросил в стоявшую тут же парашу. Иглу засунул обратно в катушку с нитками, саму катушку положил в дальний темный угол, чтоб не было видно. Потом осторожно провел пальцем по губам. Губы были плотно сомкнуты, кровь уже подсыхала и взялась корочкой. Шесть крепких швов наложил он себе в эту ночь. Каждый шов двойной нити был крепко стянут на губах морским узлом. Если он теперь резко раскроет рот, то неминуемо порвет себе губы – это Сергей знал твердо. Но рот он теперь не раскроет ни за что на свете. Если хотят, пусть стреляют прямо так – с зашитым ртом! – Подумав так, Сергей неожиданно для себя успокоился. Да и чего теперь переживать? Он сделал свой выбор. А дальше будь что будет!
Осторожно лег на топчан. До подъема было еще часа полтора. Закрыл глаза, и в голове сразу зашумело, закачало на длинной волне, понесло куда-то вдаль. Через минуту он был уже далеко: шел под парусами в бурное море, берег отдалялся, а впереди были страшные волны. Но он не боялся! Лодка шла наперерез волнам, против сопротивляющегося ветра; раздувшийся парус отчаянно трепетал, морская пучина то разверзалась до самой глубины, то возносила лодку к мрачным небесам; ослепительные молнии раскалывали небо на две неравные части – Сергею все было нипочем! Он что-то кричал бушующим волнам, рвущему парус ветру, молниям, грозившим ему погибелью. Он ничего не боялся и смело шел вперед. Так мужество перебарывает смерть и одолевает Судьбу.
Непреклонность
Утром, когда раздатчик, открыв кормушку, поставил на нее миску и глянул на Сергея, тот показал рукой на свой рот и отмахнулся от миски, делая знак убрать ее.
Кормушка тут же захлопнулась. А через несколько минут дверь распахнулась, и в камеру вошел начальник изолятора Фролов.
Увидев, что рот у Сергея зашит, Фролов вдруг вскипел:
– Что ты творишь-то, а? Ну, погоди у меня!
Он выскочил из камеры, железная дверь громыхнула, лязгнули ключи. Тяжело бухая сапогами, начальник изолятора торопливо пошел к выходу.