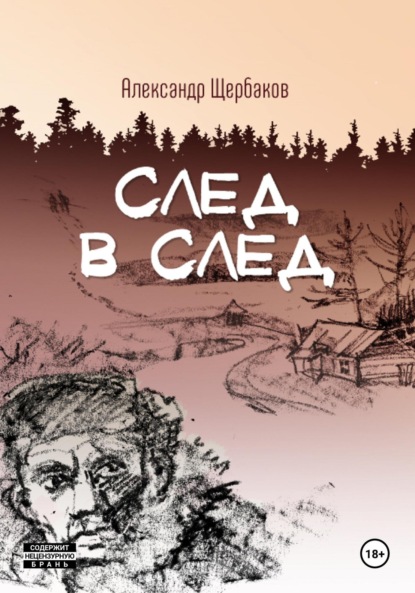По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
След в след
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сашка наконец уснул.
Глава 8
Январские морозы лютовали. Синее, бесконечно прозрачное небо тонуло в морозной дымке. Кирпичного цвета солнце плавало в этом безжизненном мареве, расползалось кровавыми разводами по всему горизонту, распекалось до полного истощения и умирало с наступлением сумерек. Сумерки, как и морозы, имели власть над здешними местами, безоговорочную и жестокую.
Светало около десяти часов, как-то вяло и нехотя. Именно с восходом солнца мороз становился особенно ядрёным.
Самые невыносимые тяжёлые часы в лагере – утренние, когда идёт развод. И обидно, что в утреннее время ни в конторе, ни в ППЧ особо не задержишься: всунули разнарядку, подпись поставил под табелями, и бегом на плац – к своей бригаде.
Совсем другое дело вечером: тесные кабинеты ППЧ заполнялись людьми – бригадиры, нормировщики, десятники, все вдруг начинают видеть важность только своей работы. Расконвоированных и вольнонаёмных принимали в первую очередь, чтоб вывести их за территорию лагеря как можно раньше. Поэтому начиналась давка. Не шумная, не навозная, больше напоминающая обстановку в хозяйственном отделе сельсовета. Здание протоплено, кругом порядок, чистота, в кабинетах окна, исписанные инистыми кружевами, занавески. Здесь текла жизнь совсем другая, не лагерная, и любому заключённому, кто сейчас парится на нарах в холодном бараке, никогда не представится, что вот так, в каких-то ста шагах от него, есть другая жизнь. Поэтому бригадиры шумели больше для видимости: все старались задержаться в тёплых кабинетах до столовой. Сашка тоже никуда не торопился. Со временем ему здесь начинало нравиться всё больше и больше. Сдав табеля счетоводу, присел в коридоре, почти у печки. Сделал скучающий вид и сразу стал походить на человека, покорно дожидающегося своей очереди: сидел и млел от покоя, от печного тепла. Появился Николишин, с мороза красный, продрогший.
– Что так поздно?
Николишин вяло отмахнулся. Ничего не сказав, сунулся было в дверь, но увидев, сколько там народу, вернулся, присел рядом. В последнее время им редко выпадала возможность спокойно пообщаться; хоть и жили в одном бараке, вроде как барахтались в одном океане, а выходило, что каждый барахтался в своём круговороте.
– У тебя как, спокойно в бригаде? – негромко спросил Николишин. Сашка-пулемётчик пожал плечами:
– Вроде спокойно.
А сам насторожился: если спрашивает, видать и впрямь, что-то серьёзное в его бригаде происходит. Сашка вопросительно посмотрел на товарища, как бы подсказывая – готов выслушать! Николишин склонил голову:
– Мне тут с нового этапа такие страсти про блатных рассказывают, что… Кстати, твой Мальцев иногда особенно старается. Между ворами такой разлад идёт: в общем, пока не изведут друг дружку, на зоне спокойной жизни не будет.
– Так это только их и касается, – недоверчиво отозвался Сашка. Николишин усмехнулся:
– Ну да, слышали мы про такое! Чтоб осколки летели и тебя не задели. Сашка не хотел углубляться в эту не совсем ещё понятную ему тему. Относительно себя тревоги он не чувствовал.
Николишин вновь спросил:
– Ты за Мальцевым ничего подозрительного не замечал? Недавно его опять по оперчасти вызывали. Сказал, якобы по старому делу, да что-то мне не очень верится. – Немного помолчав, с решительной определённостью добавил: – Сытый он. по глазам его и по повадкам вижу, что сытый, а откуда – понять не могу. Стараюсь проследить, да времени не всегда хватает.
– А ты спроси у него! Глядишь, и разъяснится всё.
Николишин осуждающе посмотрел на Сашку, дескать, нашёл время шутить. Помолчал немного:
– Придёт время, спросим, за всё спросим, и со всех!
Глава 9
Прошла неделя.
К бригадирству Огородников привыкал с трудом. Вроде бы ничего сложного: разнорядки заполняли десятники, нормировщики разносили сметы, многие цифры, что фиксировались в учётных записях, брались практически без его отчётов. Огородников вовремя сообразил: вписывать нужно то, что надиктовывают в ППЧ. Он и раньше догадывался, что цифры берутся «с потолка», все без зазрения гонят «туфту», но что в таких масштабах… Да и чёрт с ними: своя рука владыка. Лишь бы в его бригаде всё было спокойно и чинно. Сашка боялся оплошать, поэтому ко всем вопросам подходил обстоятельно, без нарочитой суеты и самонадеянности, часто советовался с солагерниками, особенно с теми, кто отсидел не менее десятка лет. Таких немного, но были. Они охотно подсказывали что да как, часто выручал Николишин, до остального додумывался сам. Осторожность и внимательность новоиспечённого бригадира импонировала многим. Он и не заметил, как стал привыкать к новому статусу. Чувство уверенности постепенно возвращало его в привычную колею, нервное состояние распряг до такой рыхлой беззаботности, которая ранее была присуща его весёлому беспечному нраву.
А потом Огородников вдруг услышал приближение весны. Молодой организм запросил воздуха, другого воздуха – свободного.
Заканчивался второй год заключения Сашки, и именно в уходящую зиму он всё реже задумывался о естественных мирских делах, всё реже вспоминал ту жизнь, что познал к тридцати годам. Он, словно колодец без воды, с каждым месяцем в неволе иссыхал. Вскоре та жизнь, за колючей проволокой, стала казаться несуществующей, нереальной. Наверное, такое случается с каждым, кто попадает на зону. И вдруг в нём проснулось ощущение жизни. Сразу вспомнилась весна сорок пятого года. Берлин, рваная тишина военной ночи. Товарищи в окопах, табачный дым, басистый говорок ротного, унылая канонада дальних батарей, и никому не интересно – свои колошматят или фрицы. Только и разговоров среди солдат: возьмут Рейхстаг к первому мая или припозднятся. В руках ППШ*: холодный металл приятно обжигает ладони. Огородников чертыхнулся, чувствуя, как перехватило дыхание и. проснулся.
Сразу расслышал кашель в глубине барака. Справа, на нижних нарах, мужики дымили жутко чадящими самокрутками. Они о чём-то вели неспешный разговор. Ладони Огородникова слегка свело от холода: во сне выпростал руки из-под бушлата, поэтому и замёрзли. Несколько секунд сон безоблачным видением витал над вспыхнувшим сознанием и постепенно, как уголёк в костре, затух.
Сашка, раздосадованный, перевернулся на другой бок, в надежде, что усталость своё возьмёт, и почти сразу провалится в новые грёзы. Мужики, что курили, вдруг стихли. Резко, словно по команде, залаяли собаки, донеслись окрики конвойных: такое бывает, когда к лагерю подводят новый этап. За неделю уже второй: не многовато ли для лагерного пункта, рассчитанного максимум на тысячу сидельцев?
Сегодня на вечерней поверке мужики из третьего барака сказывали: за их лагпунком, в двух километрах ниже, ещё две «хаты» наспех ставят. По утрам, когда идёшь на деляну, с возвышенных мест дороги, сквозь просеки в голубоватом мареве отчётливо видны очертания новых строений. Судя по внешним признакам, такие же могильники для заключённых. Уже несколько суток зона жила слухами: вот-вот отсюда начнут сколачивать этап. А куда? На Колыму? Может, в другие места по трассе БАМа! На Колыму попасть – означало живьём лечь в деревянный бушлат. Многие предпочитали на материке покалечиться, чем попасть на колымские этапы.
В застылом воздухе Сашка легко уловил движение, вскинул голову. Курящие – Сашка не мог разглядеть, кто это – поднялись бесшумно и растворились в темноте барака, как и самосадный дым после них. Из темноты выплыл силуэт. Двигался побратим воровской ночи бесшумно. Он не думал, что Огородников вычислил его приближение. Увидев, что Сашка вскинул голову, силуэт отпрянул назад.
– Тихо ты, – упреждая рывок, зашептал подкравшийся зек и одновременно вскинул руки вверх, жестом крича: – Спокойно!
Это был Жмых! Его голова замерла почти вровень с верхними нарами, в темноте, как у зверя, сверкали глаза.
– Тихо, не шуми. Давай за мной. Обкашлять одно дельце надо! Сашка-пулемётчик выказал необычайную холодную сдержанность,
чем невольно вызвал симпатию у вора. Подражая бесшумному движению Жмыха, он двинулся за ним.
В каптёрке находились Михась и Лукьян. Сумрачные лица обоих повязаны тяжёлыми думами. Свет одной колымки набрасывает тени, ломает, уродует и без того грубые очертания старых зеков, всё чудится, что они кривят рты в немыслимых гримасах.
– Чифирни, – предложил Жмых, а взглядом указал – присаживайся. Они спокойно наблюдали за тем, пока гость втянет пару дурманных глотков.
Огородников хлебнул, переборол разом нахлынувшую тошноту, вопросительно посмотрел на воров. Спросил Лукьян:
– Слышал, новый этап пришёл? Через пару дней ещё один. А к чему такой расклад, не знаешь? Вот и мы не знаем.
Лукьян говорил ему таким вкрадчиво-доверительным тоном, будто подбивал на какое-то лихое дело, будто видел в нём, простом сидельце, напарника.
– Уже точно известно, на неделе начнут многих отсюда этапировать на Колыму.
Огородникова это известие не оглушило. О чём-то подобном шептались многие и причём давненько. Вообще-то, Сашка-пулемётчик обратил внимание: всё, о чём предупреждали или намекали воры, спустя время сбывалось. В случайные совпадения, разумеется, не верил. Конечно, подозревал, откуда стекалась в уши законников нужная им информация. Но удивляла скорость и точность, с какой лагерные придурки сливали всё, что происходило в кабинетах администрации. Несколько дней назад дошло до смешного: Сашку предупредили воры – завтра на развод выйдут с нового этапа суки, предложат начальству за усиленную пайку хлеба выдать план по заготовке древесины выше обычного. Только дайте сколотить самим ударную бригаду. Хмара так и сказал им, Николишину и Огородникову: «Не вздумайте впутаться в блудняк с суками. И своим намекните, чтоб не рвали глотки».
На разводе всё так и произошло: бригаду набрали быстро, из западных украинцев, прибалтов да двух харбинских, что под грозные выкрики ускоглазых земляков откололись от своей стаи. Расчёт лагерного начальства был прост: вечером того же дня ударная бригада, возглавляемая суками, на зависть другим зекам ела двойные порции чёрного хлеба да баланду, судя по давно забытому запаху, что стоял ещё некоторое время в столовой, приправленную каким-никаким мясом. Между заключёнными пошёл раздрай. Тихая умиротворённая жизнь в лагере, к которой попривыкли обитатели, вдруг оскалилась холодными заточками да ножами. Многие понимали: в лагере тишина кажущаяся, скоро ей придёт конец. Ссученных останавливало то, что их было меньше: без значительного перевеса они не осмелятся устанавливать свои правила. Табунились ссученные в первом бараке, пока вели себя тихо: частенько к ним стал заглядывать начальник режима Недбайлюк. Воры уже знали – их там не больше двух десятков. Разумней, конечно, устроить кипиш, ворваться в барак, перерезать всех, пока есть возможность. Буза, конечно, поднимется серьёзная, поскольку ссученные находились в бараке, расположенном прямо под вышкой – втихаря не подобраться. Кровопролития не избежать. Все понимали: с каждым новым этапом власть на зоне может перевернуться. Напряжение только росло, и никто не загадывал, каким будет завтрашнее утро. И вообще, будет ли оно? Не потому ли тихим голосом плёл паутину вокруг Огородников старый вор, нашёптывая, как заклинание, веру в дружбу и соучастие к судьбам сидельцев. Глядя в непроницаемые лица блатарей, в бесцветные глаза Лукьяна, давно расплескавшие васильковую свежесть, Сашка-пулемётчик невольно задавался вопросом: а к чему это Лукьян озаботился судьбами солагерников? Ведь что-то же стоит за этими, казалось бы, пустыми, ничего не значащими разговорами.
В эти неспокойные дни чутьё Сашки обострилось донельзя. Он это не осознавал, он это чувствовал в себе.
– А что нам, двум смертям не бывать. А такую жизнь и врагу не пожелаешь, – сказал Сашка, делая вид, что не особо расстроен. – На Колыму, так на Колыму. Слышал, там тоже люди живут.
Лукьян как-то по-домашнему, словно находился у себя дома, на кухне, уселся напротив Сашки: достал шмат сала, расщепил тонким ножиком на несколько кусочков. В руке неожиданно заиграла золотистым цветом луковица. Самая обыкновенная луковица: Сашка растерялся. Запах ударил в ноздри.
– Присоединяйся, – по-свойски пригласил вор. – Значит, завтра, как ты уже понял, у тебя пополнение. Выйдет на работу Михась, уважаемый тобою человек. Впрочем, не только тобою.
«Вот старый хрен. Дипломат шелкопрядный! Поймал и даже глазом не моргнул», – подумал с набитым ртом Сашка-пулемётчик, но вслух сказал:
– За сало, конечно, особое спасибо, только как это вы себе представляете: законник и у меня в строю! Да и дежурный по лагерю заподозрит неладное.
До этого старый вор Михась отсиживался в помощниках банщика, причём редко выходя из банной каптёрки во двор.
– Давай так договоримся, херой с уцелевшей башкой! Мы ничего не рассказываем, ты ничего не спрашиваешь. Что до Михася – так что не видно? заблажил старик! Новую жизнь решил начать. Осознал, так сказать, своё тлетворное существование, время пришло встать на путь праведный.
Все посмотрели на Михася. С его лика, в эту минуту такого пронзительно-печального и проникновенного, и впрямь можно икону писать! Послышался тяжёлый вздох. Вздыхал не Михась, кто-то в глубине огороженной каптёрки. Каждому удалось прочувствовать меру собственных грехов.
Сашка от неожиданно вкусной еды захмелел. Думать ни о чём не мог. Нестерпимо потянуло в сон. Поэтому лень было хоть как-то реагировать на известие, что завтра Михась вместе со всеми после развода выйдет на деляну. Неслыханное, конечно, дело. Насчёт перевоспитания, это они пусть воронам рассказывают.