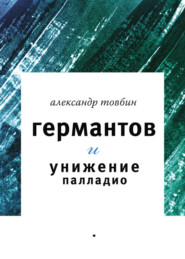По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Приключения сомнамбулы. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По правде сказать, – спохватился Тирц, – виной тому не слабоволие, не отсталости-недоразвитости, а заблуждение, которому тысяча лет уже, тысяча самообманных лет. И энергия этого заблуждения разнесёт всё и вся, русский мир окончательно расколется, раскрошится, крошки разлетятся по белу свету.
Тирц понял, что я жду пояснений.
Помолчал, набрал в лёгкие воздух, ругнул свой артрит, опять потёр локоть.
– Не вас, Илья Маркович, убеждать, что всякий зодчий – утопист по природе, проект города – это сказка о жизни, которой не будет. Однако доморощенных наших социалистов одними розовыми мечтами о сказочном мироздании не ублажить – самозванные зодчие умозрительного русского будущего домогаются властвовать над податливыми умишками, они вот-вот обратят абстрактного врага в конкретного, объяснят, кто виноват, укажут, как древние жрецы, на тех, кто добро воплощает, кто зло и… что делает князь тьмы, выходя к людям? – вдруг спросил, глядя мне в глаза, Тирц и сразу ответил, – ну конечно же, зовёт к свету! Так и социалисты – погонят ослеплённые новой верой и правдой толпы строить на земле рай; голытьбу на богатеев-мироедов науськают, потом…
А свобода черни – рабство лучших, – сокрушённо повторил Тирц; если б он был у руля истории, то точно знал бы, как знал сейчас, ловко управляясь с большим авто, куда свернуть, чтобы не ухнуть в пропасть, где, когда ускорить поступь рока, притормозить. Он потряс кистью, пожаловался, что не на шутку разнылись кости.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Моя задумчивость подтолкнула его продолжить в том же устрашающем духе. – Не в том беда, что трухлявый трон рухнет, беда, что манихейство подготовило народ к праведным злодеяниям – нравственная допустимость, даже необходимость насилия по первому сигналу отворит ворота террору, кровь задурит сильнее браги, – замолк, словно ожидая рукоплесканий, затем добавил, – порушив в угаре жизнь, любого злодея над собою признают, лишь бы имел он благодетельный вид; во многом я с ним был почти согласен, но «почти» это всю поездку из-за самоуверенных и логически-противоречивых резкостей Тирца, возжелавшего враз поквитаться с дьявольскою напастью, оставалось неодолимым.
Тирц пугал, пугал, потом, будто успокаивал, раскатисто читал Данте: стрела, которой ждёшь, ленивей ранит… Дочитав, откашливался в кулак.
Окрест простирались божественные, с воздушно-сизым античным виадуком, соединявшим холмы, ландшафты………..
Для пущей внушительной убедительности Тирц повторял и повторял анафему. – И здесь, в Италии, социалистам неймётся – правительство многоопытного Джолитти, которое запуталось в своих же интригах, социалисты подмять готовятся, смертной войной грозят разуму и всяческому благополучию уравнительно-разрушительной своей верой. Послушайте этого развязного Муссолини, ораторствующего на грани падучей, почитайте его поджигательскую социалистическую газетку! А уж у нас, манихейцев… Социалистические веяния, взвихряя низменные, чёрные, как сажа, архаические поверья, образуют гремучую смесь братоубийственных мифов. От них – культы идолослужения с роевыми взлётами посредственностей, возвышениями на трибунах мелких демонов, воспламенителей толп: недавнему, ошалелому от непрошенной вольницы оголодалому крепостному или рабочему-слобожанину, рождённому недавними крепостными, ткни в придуманного врага перстом, так они свои грехи мигом на него свалят и – за кольё, топор; люди и топоры объединятся…
и Бог самоустранился
– Что же будет? – спрашивал рассеянно я.
– Плохо будет, хуже некуда! – вспылив, кричал Тирц, – мы гибнем – и мир наш гибнет, – минуту спустя посмеивался. – Что, убаюкал ужасами? Что будет и Бог не знает, поскольку от нас, непутёвых, устал – брезгливо покачал бородатой головою, рукой махнул. Разочаровался в земной интриге, отвернулся к свежим сюжетам, которых пруд-пруди в беспредельности. Но свято место не опустело, дьявол куда страшней, чем его малюют.
И опять запел про социалистов, про князя тьмы, зовущего к свету.
всё дозволено
Тощий, узкоплечий, с маленькой носатой головкой на худой, длинной, с выпиравшим кадыком, шее. Болезненно-бледный, словно кожи его не касалось итальянское солнце, с синевой на впалых щеках, голубизной дёргавшейся височной вены, он всё ещё прожигал меня удивлёнными и удивляющими глазами, на дне которых я неожиданно уловил испуг.
………………………………………………….запах крови и гари, возбуждающий всех грязных патриотов, наших, великорусских, особенно, чуете? И социалисты своего часа ждут, как надо ненавидеть жизнь, чтобы… – не находил слов, сжимал в кулаки и разжимал затёкшие кисти, вновь замирали на руле руки, – и пока мы с вами одухотворённой болтовне предаёмся на фоне итальянской весны, не только наши, российские, все мировые безмозглые подлецы-правители держат носы по ветру, всем им, хищно принюхивающимся к крови, гари, только поскорей подай casus belli, потом… почитайте газеты! У них старый лгун Джолитти, чтобы власть не потерять, спутывается с молодым идейным поджигателем-лгуном Муссолини, выскочившим из своих статей в политику, как чёрт из табакерки, у нас… – рукой махнул. – Никому не сдобровать потом будет в кровавом хаосе, никому! – Тирц, обскакавший всадников Апокалипсиса, расписывал будущее, как очевидец, – западников всех, без сортировки, под корень срежут, за компанию к ним добавят просвещённых славянофилов, затем… так и с расколом покончат – косное большинство верх возьмёт, стадом потянется вспять, в косматое, войлочное кочевье. Пётр, первый и последний наш стихийный европеец-правитель, посрамлён будет, творение его захиреет, лебедой зарастёт. Я-то, даст бог, ноги унесу, в Биаррице укроюсь; там, знаете ли, океанские приливы-отливы дивные, в окнах, за пальмами и тамарисками – закаты густые-густые, как бордоские вина, – забалагурил натужно Тирц и вдруг. – Но и там я против тупых патриотов наших и против социалистов останусь, против, покуда жив, гореть им в аду.
Руки лежали на руле.
Режущий профиль новоиспечённого буддиста-стоика озаряла гордая ненависть.
а пока
Чёрная «Волга» с шестёрками и нулями на номерах неслась по шоссе Революции над белой разделительной полосой – шофер заказал по рации зелёную волну, постовые, вытягиваясь, брали под козырёк.
Филозов наслаждался скоростью, шипящим напевом шин и слушал прогноз синоптиков – волнение в заливе усиливалось, ожидалось штормовое предупреждение.
От избытка чувств надумал вспугнуть Фофанова. – Егор Мефодьевич, как, готов ко Дню Здоровья? Всегда готов? Пионерская бодрость похвальна, однако учти, я подъеду скоро, проверю. Собирайся с духом, чистое бельё к исповедальному докладу надень и смету пробежать изволь свежим взглядом. Сто сорок тысяч – слишком жирно на всё-про-всё, без роскоши обойдёмся. Ужимайся, сонных подрядчиков подгоняй нещадно, благо вечера, ночи светлые – пусть повкалывают, пока зори одна другую сменяют.
И не хнычь, не одному тебе от трудностей невтерпёж – если метеосводка не врёт, против трёхбального норд-оста пойдём.
кристалл, ускоритель русского времени
– Но ведь именно в Петровское правление оформлялся идейный раскол между Россией и Европой в самой России, – заметил я, – Пётр Великий в реформаторском раже, что, перебрал жестокостей, когда привычный уклад ломал, столицу на костях строил?
– А-а-а, при Петре случился знаменательнейший разрыв в самоповторах тысячелетней истории! – возбуждаясь, заулыбался, заёрзал Тирц и шаловливо выдавил из резиновой груши противный протяжный вопль, – он уже летел, летел, будто не в руль вцепился, в гриву Пегаса, – а-а-а, в России повелось жертвы понапрасну приносить на алтарь спеси и мессианских глупостей, но тут-то было за что платить! Да?! – вперился расширенными, удивлёнными и удивляющими зрачками, отчаянно горевшими на бледном лице, – головы юный царь собственноручно рубил, орошая булыжники стрельцовской кровью; потом бороды в полевых условиях ампутировал, тащил, как умел, упиравшуюся Московию из трясины увековеченной национальным самообманом отсталости. Однако любые жестокости, будь они напрочь бесполезно-безрезультативными, ему по привычке скорее простились бы, как прощались хотя бы Ивану Грозному – за слепое насилие громче славили. А тут закавыка – Санкт-Петербург, главное Петровское деяние, которое, конечно, напоено жестокостями, было исполнено высокого смысла!
Тирц опять ко мне повернулся, дабы убедиться, что я оценил эту ключевую для его рассуждений тезу.
Что ж, я оценил, он продолжил.
– И откуда, думаете, единая художественная воля взялась, почему Петербургу удавалось претворять бессчётные смутные озарения в твёрдую и непреложную форму? О, – отвечал на свои же вопросы Тирц, – у Петербурга, уникальнейшего из городов, было явное, но лишь постепенно раскрывавшееся предназначение, тайно внушённое и первым творцам его!
Заложив форпост, чудесно превращённый в окно, царь-плотник бросил цивилизаторский вызов величавому хаосу застойной соборности, извечному её саморазрушительному сплочению. И почему, думаете, наши классики, за вычетом Пушкина, не жаловали Петра? Вспомните-ка как Толстой, всеобщий моралист и учитель, на него, виновника всех ужасов русской истории, обрушивался – беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса… и губил, казнил, жену заточал, распутничал. Ах-ах! – всплеснул ручонками Тирц, – Толстой ему Петербурга простить не мог! Какая смутная мечта мучила раздвоенных русских гениев? – авось, мы без уроков Европы обойдёмся, сами с усами. А Петербург-то велел делаться европейцами. Вот почему матёрого гуманиста, певца непротивлений вовсе не патологические петровские жестокости отвращали, нет! – Толстой глубинных сдвигов в застойной национальной бытийности опасался, и не зря опасался, не зря. Древние правы: фабула важнее морали. А главный моралист наш о фабуле позабыл, хотя, казалось бы, кто ещё знал так в фабуле толк? Петербург-то – плод не царской блажи, но фабулы истории, и какой невиданной фабулы! – Пётр изменил ход мировых событий, основав город в нелепом месте. Да уж, в сверхнелепое это место столько отравленных стрел запущено – некий шутник недавно догадался, что нос, исчезнувший с ковалёвской физиономии, есть Петербург, отвалившийся от России, а много раньше не самый глупый француз предрекал, издеваясь, что закладка в устье Невы новой русской столицы обещает не больше пользы, чем вынос сердца из груди на кончик мизинца.
Тирц перевёл дух, я – тоже. И с искренним нетерпением возжелал слушать дальше, лишь подстегнул. – Но ведь Пётр оставил после себя вопросы, неразрешимые, как квадратура круга.
– Лучше мучиться квадратурой круга, чем загнивать в общинной поруке.
Тирца уже никто не смог бы смутить, остановить.
– До Петровского вызова, – нёсся он всё быстрее, сыпал тезисами, судя по всему, особенно тщательно отшлифованными им в философских дискуссиях, – духовность столь активно не реализовывалась в истории, века протекали без пользы для нас, а Петербург-то становился и возрождением нашим, и просвещением, и реформацией впридачу; взрастая, фантастически хорошея, внезапная столица ускоряла навёрстывание промотанного в сонных столетиях пустопорожних дрязг, иг, будущее пульсировало в лабораторных пространствах. Вот, Гоголю отсюда, из Рима, виделись сверкания русской дали, но не догадывался поди, что непроизвольно ещё и сквозь Петербург, как сквозь кристалл, смотрел. В пику былинным картинам беспробудно-удалого распутья Петербург олицетворял-прокладывал путь в Европу, наглядно – по контрасту! – доказывал, что вываренная в собственном соку самобытность, оплаканная и воспетая угорелыми патриотами, вырождается в этнографический паноптикум: расцветает русский мир лишь тогда, когда встречается с другими мирами. И это ненавистное и гибельное для многих, а избранными вымечтанное, как парадиз, место встреч, делалось ещё и рассадником многоцветья – молодой, но такой гибкий, богатый язык наш, искусства, науки, всё, что с обманчивой лёгкостью питал и обретал Петербург, разносилось семенами по обширным, насупленным русским землям, вопреки тупому сопротивлению давало всходы.
Продуваемый живительными западными ветрами, этот холодный причудливый идеал пространственного творения, оказывается, запечатлевал и выражал их, этих земель, скрытые чаяния.
не от мира сего
– Но, помилуйте, откуда всё-таки столь острая неприязнь к Петербургу у Гоголя с Достоевским, которых именно Петербург сделал такими художниками? – очнувшись, переспросил я, как если бы не доверял его аргументам.
Прожог зрачком. – Наши гениальные гиды по блистательным проспектам и мрачным дворам были, повторюсь, напополам рассечёнными, они гордились и боялись; гордились, проглотив свои аршины, собственной статью, – хихикая, изгалялся Тирц, – и боялись, до озноба боялись этого пространственного вызова времени, сделались от Петербурга окончательными безумцами, ещё бы! – такое взросло на тощей родимой почве. И уж точно не постигали они глубинных смыслов того, что видели. Учтите, у классиков наших – удивительно обострённое чувство слова, за что им от нас спасибо, зато зрительное восприятие у большинства из них будто бы атрофировалось, своевольные внутренние движения архитектуры, живописи они с их заскорузлыми в этой трепетной сфере вкусами вообще не могли принять, иные мнения-признания относительно великих городов и холстов читать теперь, ей-богу, стыдно, когда же на Петербург, ни с чем не сравнимый, они смотрели, всё в их испуганных и изумлённых глазах темнело.
Тирц принялся разъяснять. Резюмировал споры, разгоравшиеся на заседаниях эпштейновского кружка?
– Для Гоголя ли, Достоевского, православных не без экзальтации, страшным искусом был Петербург, он не свой был для них, не свой, но – прекрасный, и они, художники, не могли его неземную красоту – каждый по-своему – не ценить. Боялись её, ох как боялись, но и ценили, пусть бессознательно, но ценили, да. И, наверное, изгладывала их досада на самих себя, недостойных тайного идеала, который, привораживая пугающим и дивным пейзажем, колол глаза как высшая правда. Это же город… не от мира сего. В тяжеленных, оцарапанных золотыми иглами облаках, стеснённых гранитами невских вздохах, палитре штукатурных миражей, согласитесь, играет сверхестественная сила преображения!
Тирц опять стал стискивать грушу, с монотонной пронзительностью гудков мы обогнали повозку с двумя крестьянами.
– Да, петербургская красота заряжала расхлябанную русскую жизнь взрывной художественностью, её, эту начинявшуюся безумствами и насущными причудами жизнь уже впору было судить скорее по законам эстетическим, нежели нравственным. Гоголь ругал доходную скуку и бездушие Петербурга, а без ума был от чародейств его, к вещим голосам, звучавшим сквозь бред, прислушивался, взволновано плутал в дорисованных воображением перспективах, ловил, ловил тайны всеобщих внутренних сдвигов в петербургских фантасмагориях. У Гоголя Петербург – заколдованное проклятое место, где заправляет всем чертовщина, он романтизировал городские ужасы, озирался по сторонам и удивлялся: всё не то, чем кажется… смотрел по сторонам с восторгом и страхом перед непостижимостью. А Достоевский нелюбовью к Петербургу бравировал, охотно ею мог поделиться: окна, дырья и – монументы… смотрел и отторгал, потому что не видел! Но – чувствовал что-то запредельное, чувствовал. Алча божьей справедливости, Достоевский в бездны бедных людей заглядывал, там, в брожении пустых фантазий и бесовских вожделений, трепетали студённые петербургские отражения, от них-то и закипала кровь; меж плоскими издырявленными фасадами выстраивался объёмный и пугающе-непривычный мир.
Почему Гоголь предпочитал главную свою вещь писать в Риме? Столько всего показал и рассказал ему Рим, открыл, перевернул в душе. И хотелось извне, из гармонии, смотреть, когда же Италия расслабляла, возвещал – пора возвращаться в Россию, набираться злобы. И злоба эта воплощалась в художестве. В Риме-то всё иначе было, ведь ещё Блаженный Августин здесь вышел из манихейства, понял гибким умом своим относительность добра и зла, их разъединённость и общность, вжился в плавность и прихотливость, с какими нравственные противоположности перетекали одна в другую. Но Гоголь-то ощущал собственную причастность к русским несообразностям, от манихейства неотделимым, потому, наверное, и не поддался на уговоры Волконской принять католичество, на балы и угощения к ней ходил, а…
Я представил себе, как, выйдя в поздний час от Волконской, Гоголь сворачивал за угол палаццо Поли, стоял, раздираемый неразрешимыми своими сомнениями, перед фонтаном Треви.
Полоснув меня лихорадочным блеском глаз, католик-Тирц, который свой выбор сделал, дал, однако, понять сколь близки ему духовные терзания Гоголя, взялся напористо повторяться, развивать сказанное.
– Созидая новую русскую историю, новую и потому тревожную жизнь на зло смехотворным и кровавым извращениям иных из европейских идей и мечтаний, Петербург пестовал-таки и русского европейца: пробуждал дремлющие таланты, убыстрял и истончал мысли, чувства, наделял загадочной, только в приневском пейзаже бурлившей, только из него изливавшейся во вне психикой. Помните беседу в трактире Раскольникова и Свидригайлова? Помните, говорил Свидригайлов, что это город полусумасшедших, что редко где найдётся столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге? Полусумасшедших… вот оно, для него, удивлённого, ключевое слово. В души, к бередящей петербургской красоте причащавшиеся, спазматически вторгались возрождение, просвещение, реформация… и – инквизиция! Бескорневая, мнилось, не стоявшая на земле столица измучивала, пытала, понуждала казниться за предательства идеала, который пульсировал, звал в сверкания. И сам-то Достоевский, духовидец наш, как чёрт ладана ложных идей боявшийся, их гениально и беспощадно разоблачавший, сам же, сам верил истово в русский свет, во всемирное учительство православия, могла ли его болезненная отзывчивость справляться с такими противоречиями? В чуждом, но необъяснимо-притягательном граде они лишь обострялись. Вот и заделывался Фёдор Михайлович инквизитором, подлинным великим инквизитором, если хотите, ибо наизнанку выворачивал и героев своих, и читателей! Вот вам и трагически-гротескный театр русской души, подвигающий швырять в огонь миллионы, гениальные рукописи – реактивные надрывы, выкаблучивания, безвкусные страсти и словесные смертельные потасовки, отнимающие ночи у сна. Вот вам и бессчётные, немотивированные вдруг, которые судорожно дёргали перо Достоевского, – художественность резко меняла русло и скорость преобразующего жизненного течения.
И, конечно, вам, Илья Маркович, – жгуче, прямо смотрел в глаза, – мирискуснику по духу и по компании, чудесное рождение Петербурга, свербящая в неверном небесном свете гармоничность его, есть божий промысел, а культ Петербурга – бальзам на душу. Зато какому-нибудь старосветскому русаку-помещику чуждый град сей, что сонм дьявольских наваждений, козни нечистого. Вот раскол и оформлялся-усугублялся самим петровским творением; кости же в приневских болотах, на которых, если верить легендам, воздвигался слякотный парадиз, – возвращался к началу Тирц, – плата за историческую неповоротливость, сонное стояние против времени. Да не всё ещё, не всё заплатили. И праведникам уже не дано спастись.
Профиль Тирца снова устрашающе заострился.
важное добавление