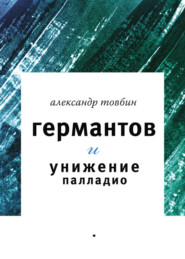По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Приключения сомнамбулы. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И далее:
Выразительность захватывает все чувства, покоряя пространство, заряжая магией пустоту; изобразительность приманивает всеядный глаз, насыщает его иллюзиями на плоскости. Но умозрительное разграничение это исчезает в прихотях обратимостей. Художественные смыслы перетекают…
Судя по напору впечатлений, Илья Маркович не задержался на безлюдной заспанной площади у высохшего фонтана с античной ванной, созерцая расчерченный тягами, равномерно пробитый окнами фасадный панцирь с рустованным центральным порталом и накладными каменными стяжками на углах; впрочем, фонтану, одному из двух, одинаковых, он уделил внимание: каким же трогательно-уморительным получилось составное трёхчастное сооружение – в изысканное, со скруглёнными лепестками, барочное блюдце была помещена грубоватая, с непропорционально высокими, чуть наклонными бортами античная ванна из терм, а уже из ванны вырастал собственно фонтан, напоминавший то ли вычурный антикварный канделябр, то ли сработанный ювелиром корпус керосиновой лампы для гулливеров.
Далее Илья Маркович, приближаясь к входному порталу, не скрывал попутного удивления – неужели на этой пустынной площади, между этими фонтанами, когда-то толпы шумели на боях быков, на итальянской корриде?
Но не стоило отвлекаться.
«Только раз, только миг человеку всё небо открыто» – почему-то забормотал я корявый пястовский стих, войдя во двор, – Илья Маркович будто бы вошёл в запертый для посторонних складень, будто один он, первым на белом свете, был допущен в сердцевину пластической тайны, разгадку коей именно ему младший Сангалло с Микеланджело завещали донести миру вопреки бессилию языка; вошёл, испытал восторг.
Панцирь, как кажется, ренессансный, или – с учётом разорванных фронтонов над окнами третьего этажа, чрезмерно поднятой фасадной стеной с карнизом большого выноса – почти, условно говоря, ренессансный, а нутро… Воплощённая переходность! Ордерная строгость и соразмерность всех элементов палаццо Канчеллерия, находившегося поблизости, всего в двух минутах ходьбы, забыты? Два первых этажа, возведённые Сангалло, ещё хранили традиционную серьёзность, отличались от ренессансных образцов лишь большей массивностью и сгущенностью деталей, но Микеланджело, своенравный, безоглядно-отважный, своим третьим этажом преобразил пластику всего дворца, вольно ли, невольно, свершил победоносный переход от ренессанса к барокко. Начал, сломав идеальные пропорции, с карниза, мощного карниза с явно преувеличенным полем для мощной тени на главном фасаде, ну а внутренний двор… Нет, я, конечно, не знаю, точно ли с Микеланджело началось барокко, но уверен, ибо не могу не верить глазам, что он, неистовый, одержимый, первым столь полно выразил характерную для барокко невозможность остановиться – в старательно выисканные и так хорошо знакомые, звавшие к повторению желанных гармоний формы внезапно вселился дух саморазрушения, связные элементы – карнизы, колонны, пилястры – рвались к подвижной бесформенности, свободе от канонических правил их сочетаний. Художественная энергия побеждала предписанные формам ренессансной традицией покой и сухость. Резной, песочно-землистый камень, затворённый на пыли веков, сотворённый… неземная гармония на земле… – не стыдился чувств Илья Маркович. Его, однако, отрезвила странность увиденного, он смахнул слезу умиления, умеряя жадность глаз, принялся раскладывать формы-образы в условном порядке, снизу – вверх.
Аркада первого этажа привычно очерчивала периметр двора, но это была не чисто-ренессансная, воздушная аркада на тонких колоннах, – арки покоились на объёмных пилонах с накладными дорическими полуколоннами; лежавший на их капителях архитрав служил нагруженной балкой и… изображал – под окнами второго этажа – декоративную балюстраду.
Во втором этаже ионические полуколонны накладывались уже на пилястры, копировавшие профили и карнизные членения нижних пилонов; с пилястры на пилястру перекидывались нарисованные – со слабым рельефом – арки. Сквозная несущая аркада первого этажа словно пародировалась на втором – в плоскость стены под дугами нарисованных арок вписывались окна с треугольными фронтонами, выше, над ними, тянулся пояс-фриз с лиственными гирляндами.
Фасадные стены на третьем этаже расчленялись двуслойными пилястрами с коринфскими капителями – пилястра накладывалась на пилястру, изображение на изображение; окна накрывали эллиптические фронтоны…
Илья Маркович нудно перечислял увиденное, но пояснительные слова его на сей раз безотчётно перекликались со сбивчивым устным комментарием и картинкой, которая сама собой мистически оживала перед мысленным взором Соснина. – Это Рим, Рим, не перепутайте, палаццо Фарнезе в Риме, – звучал в ушах взволнованный голос Гуркина, а из далёкой-далёкой тьмы на смятый экранчик институтской аудитории выплывал, ёрзая от гуркинских косноязычных похвал, величаво-спокойный кадр, взятый фотографом в духе итальянской перспективы с фронтальным, пятиоконным по ширине, фасадом и симметричными сокращениями боковых крыльев дворца; с густой тенью аркады, ковровыми, крест-накрест и по диагоналям, утемнениями замостки. И тут, пока Соснин прислушивался к ускорявшемуся биению своего сердца, Илья Маркович покончил с изнурительными перечислениями, вернулся к уколовшей глаз странности.
Аркада первого этажа несла на себе всю тяжесть… Но чем выше, освобождаясь от нагрузки, возносились фасадные стены, тем массивней, пышней, выглядели они – реальный вес уступал весу символическому по мере убывания кверху связной, общепринятой выразительности: дорический ордер надстраивался ионическим, тот – коринфским; объёмные пилоны придавливались их сплющенными дубликатами, пилястрами, те – пилястрами сдвоенными. Тяжесть, накапливаясь и возрастая, обращалась в фикцию. Комбинируясь из канонических фрагментов по гениальному произволу, детали, казалось, набухали, нервически тянулись к карнизу дворца, да, именно так: всё, что рельефно лепило и расчленяло стены – арки, балюстрады, фронтоны, картуши, гирлянды – всё зрительно утяжелялось и при этом тянулось ввысь, опрокидывая земной закон, сопротивлялось, если тут уместно такое слово, не материальному весу камня, а весу возвышенному, силилось удержать мироздание, хотя одно только бездонное небо голубело над карнизным венчанием. Всё откровенней заигрывая с изобразительностью и лёгкостью, если не легковесностью, многосоставная форма достигала бутафорской массивности – как и подобало образной опоре небесного свода, имитировала мускулистость, упругость, словно была высечена из монолита. Парадокс или…? – вопрошал Илья Маркович, явно гиперболизируя перегруженную излишествами, довольно-таки суховатую при всей её пышности, как привык считать Соснин, композицию, никоим образом им не принимавшуюся прежде за кульминацию барочных безумств. Хотя эфемерная, порождённая лучом волшебного фонаря картинка, которая запомнилась Соснину, покрасовалась да и соскользнула со светоносного квадрата во тьму, а римская барочная натура – благо, покончив с покоем и негой, не знала меры – наверняка могла перевозбудить.
Между тем, Илья Маркович, успевший уже восхититься и более поздними, исполненными братьями Карраччи, пьянящими росписями свода над большой галереей дворца, – вызов заурядности, пошлой рутине – переходил к вполне смелым для своего времени – хоть вставляй в лекции Шанского – соображениям. (Петербургская пространственная традиция – замечал Илья Маркович в скобках – вывернула наизнанку средиземноморскую, дворы доходных домов – голые, художества вынесены наружу, на улицы, дабы поражали всех горожан. Мы, правда, страна фасадов).
Похоже, он приближался к главному.
Дворец являл идеал строения – не только бытовым, но и символическим ядром его был патио. Сгущение тянувшихся к небу античных форм превращало патио в пантеон, искусство славило в нём самоё искусство. Художественная страсть не затвердевала – камень пульсировал, его теснила изнутри колдовская сила – раздувала, искала выход, непрестанно взламывала гармонию, с которой едва обвыкался глаз.
И действительно – главное.
Столько слов, когда подсказка барокко проста: в искусстве правит закон небесного тяготения.
И приписка ниже, в углу страницы: выбрал спокойную точку для фото – из-под арки, по продольной оси двора.
ветерок, пронёсшийся над Тибром, охладил чувства, прочистил мозги и помог Илье Марковичу, не поступаясь оглядками, сомнениями, фантазиями, сформулировать второе (дополнявшее и уточнявшее первое) послание об особенностях римских ансамблей?
Via Giulia – потрясённый, я посмотрел на табличку, не сообразив сразу, где находился. Оглянулся на стену сада, за ней, на фоне лоджии заднего фасада палаццо Фарнезе клубились пинии. Античный фонтан с уморительно-уродливой рожей, арка. С этой арки, кажется, Микеланджело начинал сооружение так и не осуществлённого коридора, который он намеревался перебросить через Тибр, чтобы связать разделённые рекой палаццо Фарнезе и Фарнезину. Каким он его, этот коридор, задумывал? Любопытно, фасады сдвинуты – наискосок, по кратчайшей прямой от фасада к фасаду, он его хотел перебросить или – с изломом?
Via Giulia вывела меня к Тибру у моста Систо.
Снега в горах пока не растаяли, вода лениво струилась между высокими серыми стенками набережных, довольно унылыми.
Прошумели на ветру и стихли платаны, безлистные, словно проржавелые – на бледных, обвислых, как плети, ветвях, распушивались красно-рыжие серёжки.
Я медленно шёл к мосту Гарибальди, всё отчётливее виднелись театральные декорации острова Тиберина, похожего на сказочный, севший на мель линкор.
Плотность, с какой сконцентрировались художества во внутреннем дворе палаццо Фарнезе, недавние кружения окрест Пантеона, держали всё ещё в напряжении все мои чувства, но засветились голые белёсо-пятнистые стволы, заблестела вода, покачивая серебряное высоченное небо… высыпали к Тибру дома, те, что подальше, повыше, живописно рассыпались по яникульскому склону.
На ходу оглянулся. Нет, фантазия моя сплоховала, над мостами, на фоне уплывавшего влево, за холм, купола Святого Петра, не возник воздушный коридор Микеланджело; небесное серебро впитали камни, сгустили? – из тусклого серебра были отчеканены мосты, и уплывавший влево соборный купол, и фасады вдоль набережной, и замыкавший перспективу via Giulia, помечавший крутой изгиб Тибра куполок церкви, возведённой для себя флорентийцами, в ней упокоился по прихоти судьбы Борромини… приютили самоубийцу… На другом берегу виднелись угол Фарнезины, крыша палаццо Корсини.
Не вернуться ли к мосту Систо и свернуть в Трастевере? Почему бы после палаццо Фарнезе не подивиться опять сокровищам Фарнезины?
Шелестяще налетал, срывая серёжки, ветер.
В воде зыбились отражения ветвей.
Лень было решать – возвращаться, не возвращаться – я машинально шёл к мосту Гарибальди, удалялся от Фарнезины.
Рим избежал барабанного боя классицизма, ему вообще чужды массивные ансамбли нового времени, какими хвастливо обзавелись Вена или Париж? Ансамбли, которые реорганизуют, подчиняя себе, а то и подавляя, окружающие пространства? Собор Святого Петра – по сути замкнутый ансамбль самого собора, расширенный и, в замкнутости своей, завершённый симметричными дугами колоннады, едва ль не основное символическое назначение её – заключать в совершенную форму слитную массу людей, когда они заполняют по церковным праздникам площадь, отделённую от мирской суеты и скверны слоем непритязательных случайных домов. А барочный трезубец, Tridente, как восклицают римляне? И тут всё – вразрез с учебниками градостроительного искусства, по-своему. Три уличных луча уводят из пространственного ядра Рима: площадь Пополо прижата к средневековым крепостным стенам, за Фламиниевыми воротами, чью воздушную арку, сходясь, прокалывает трезубец – дубравы и пруды с лебедями виллы Боргезе. Да! И – опять, будто мне не хватало немедленного зримого доказательства, оглянулся, убедился, что купол уплыл за холм – собор Святого Петра тоже на самом краю города, за ним лишь ватиканские сады, виллы. Главные ансамбли – на выселках?! Но выросла симметричная беломраморная громадина в перспективе Корсо, в противоположной от площади Пополо стороне. Взрывной выброс патриотизма окаменел, уличный трезубец, привычно уводивший и з, привычно целивший в арку Фламиниевых ворот, теперь, обнаружив цель сзади, пронзает ещё и ступенчатое, многоколонное, подавляюще-огромное диво центральным своим лучом. Новое время настигло своевольничавший до сих пор Рим? Памятник объединительному экстазу сдавил сердце его, Капитолий. Спесивая попытка отменить неписаные предпочтения, подчинить осевому ансамблю свободный город?
Вот и мост Гарибальди.
Может быть, свернуть всё-таки в Трастевере?
и тут
Меня окликнули по-русски. – Илья Маркович, вы? Невероятно!
Действительно невероятно! – передо мной стоял, улыбаясь, Тирц; он наклонил голову и галантно приподнял шляпу.
не переводя дыхания
Достал вложенные в тетрадь копии писем. Гм, качество копий, действительно, так себе; едва различимая шапка на бланке отеля «Консул», дату не разобрать… а-а-а, всё-таки разобрал.
Рим, 31 марта 1914 года
Гурик!
Заканчивается моё сентиментальное итальянское путешествие. За перипетиями его, если была охота, ты мог следить из Петербурга по письмам, которые я исправно посылал Соне, но недавно повезло выведать твой Тифлисский адрес, сиё учённейшее послание, надеюсь, поспеет как раз к началу твоего отпуска и…
Так, дальше.
Извини, Гурик, за сбивчивость, вроде бы необязательные, но, поверь, упрямо цепляющие перо подробности. Пишу по свежим впечатлениям прелюбопытной экскурсионной поездки с Тирцем, не удивляйся – столкнулись нос к носу в Риме. Ты-то ещё по гимназии знаком с разнообразнейшими талантами и познаниями, причудами и ужимками неистового Петра Викентьевича, а я прежде встречался с ним от случая к случаю, в основном за покером, наши отношения карточных соперников – с шуточками-прибауточками он однажды едва не спихнул меня в долговую яму – бывали, мягко сказать, натянутыми, Тирцевский азарт, вспыльчивость, острословие, сполна явленные за зелёным сукном, не выдавали страсти к приключениям в лабиринтах искусства, и – уж точно! – не могли объяснить необузданности его вдохновения и лихости за рулём авто.
Так-так.
Я знал, что Тирц в Риме, стоял даже в задних рядах слушателей на его дерзком, огульно ругавшем подражательность русского искусства докладе на вечере римских петербуржцев, но не хотел…
Так-так, про тот скандальный вечер уже начитан, дальше.
В Риме я упивался одиночеством, намеренно не заводил знакомств, поселился в тихом «Консуле», а не в прославленной соседней, через два дома, ближе к площади Пополо, гостинице, обители иностранных путешественников, после экскурсий назойливо делящихся своими восторгами – я благодарил судьбу за то, что могу смотреть и видеть, обдумывать увиденное, не отвлекаясь на пустые светские беседы, однако внезапная встреча вывела меня из созерцательной отрешённости, которой я, рискуя разучиться говорить, признаюсь, всё же подспудно начинал тяготиться, поездка с Тирцем в Орвието дала острую пищу уму…
Соснин пропустил ещё с полстраницы.
Орвието, крохотный городок, уместился со своими монастырями и сонными запущенными дворцами на почти отвесной, вулканического происхождения, коричневато-ржавой скале – взбирались по серпантину, петли покруче крымских. Первоначально мы хотели ограничиться осмотром главной достопримечательности городка, воздушного готического собора с белокаменным стрельчатым лицевым фасадом, засмотревшимся на тесную площадь, с сине-золотистыми мозаиками, кружевными рельефами на лицевом фасаде и фресками Лукино Синьорелли внутри, в капеллах и нефах – печаль, нежность синих и голубых оттенков, невесомость фигур. В одной из капелл – «Осуждённые», заставившие меня вспомнить о микеланджеловском «Страшном Суде». А в поперечном нефе нас поджидал уже совсем не страшный Апокалипсис с известняковыми просветами на розоватых телах и пепельно-сиреневом небе. Однако не одним собором жил Орвието, вулканические породы не только угрожали собору оползнем, но и, как возвещал аляповатый плакат близ соборной площади, были благотворными для лозы, мы, беспечные искатели удовольствий, получив ночлег в простенькой, по-деревенски милой гостинице, соблазнились дегустацией, вовсе не аптечными дозами, белых вин, издревле – теперь замечу, вполне заслуженно – ценимых по всей Италии.
Ну как, Гурик, не надоело? Терпи, дорогой.
Выразительность захватывает все чувства, покоряя пространство, заряжая магией пустоту; изобразительность приманивает всеядный глаз, насыщает его иллюзиями на плоскости. Но умозрительное разграничение это исчезает в прихотях обратимостей. Художественные смыслы перетекают…
Судя по напору впечатлений, Илья Маркович не задержался на безлюдной заспанной площади у высохшего фонтана с античной ванной, созерцая расчерченный тягами, равномерно пробитый окнами фасадный панцирь с рустованным центральным порталом и накладными каменными стяжками на углах; впрочем, фонтану, одному из двух, одинаковых, он уделил внимание: каким же трогательно-уморительным получилось составное трёхчастное сооружение – в изысканное, со скруглёнными лепестками, барочное блюдце была помещена грубоватая, с непропорционально высокими, чуть наклонными бортами античная ванна из терм, а уже из ванны вырастал собственно фонтан, напоминавший то ли вычурный антикварный канделябр, то ли сработанный ювелиром корпус керосиновой лампы для гулливеров.
Далее Илья Маркович, приближаясь к входному порталу, не скрывал попутного удивления – неужели на этой пустынной площади, между этими фонтанами, когда-то толпы шумели на боях быков, на итальянской корриде?
Но не стоило отвлекаться.
«Только раз, только миг человеку всё небо открыто» – почему-то забормотал я корявый пястовский стих, войдя во двор, – Илья Маркович будто бы вошёл в запертый для посторонних складень, будто один он, первым на белом свете, был допущен в сердцевину пластической тайны, разгадку коей именно ему младший Сангалло с Микеланджело завещали донести миру вопреки бессилию языка; вошёл, испытал восторг.
Панцирь, как кажется, ренессансный, или – с учётом разорванных фронтонов над окнами третьего этажа, чрезмерно поднятой фасадной стеной с карнизом большого выноса – почти, условно говоря, ренессансный, а нутро… Воплощённая переходность! Ордерная строгость и соразмерность всех элементов палаццо Канчеллерия, находившегося поблизости, всего в двух минутах ходьбы, забыты? Два первых этажа, возведённые Сангалло, ещё хранили традиционную серьёзность, отличались от ренессансных образцов лишь большей массивностью и сгущенностью деталей, но Микеланджело, своенравный, безоглядно-отважный, своим третьим этажом преобразил пластику всего дворца, вольно ли, невольно, свершил победоносный переход от ренессанса к барокко. Начал, сломав идеальные пропорции, с карниза, мощного карниза с явно преувеличенным полем для мощной тени на главном фасаде, ну а внутренний двор… Нет, я, конечно, не знаю, точно ли с Микеланджело началось барокко, но уверен, ибо не могу не верить глазам, что он, неистовый, одержимый, первым столь полно выразил характерную для барокко невозможность остановиться – в старательно выисканные и так хорошо знакомые, звавшие к повторению желанных гармоний формы внезапно вселился дух саморазрушения, связные элементы – карнизы, колонны, пилястры – рвались к подвижной бесформенности, свободе от канонических правил их сочетаний. Художественная энергия побеждала предписанные формам ренессансной традицией покой и сухость. Резной, песочно-землистый камень, затворённый на пыли веков, сотворённый… неземная гармония на земле… – не стыдился чувств Илья Маркович. Его, однако, отрезвила странность увиденного, он смахнул слезу умиления, умеряя жадность глаз, принялся раскладывать формы-образы в условном порядке, снизу – вверх.
Аркада первого этажа привычно очерчивала периметр двора, но это была не чисто-ренессансная, воздушная аркада на тонких колоннах, – арки покоились на объёмных пилонах с накладными дорическими полуколоннами; лежавший на их капителях архитрав служил нагруженной балкой и… изображал – под окнами второго этажа – декоративную балюстраду.
Во втором этаже ионические полуколонны накладывались уже на пилястры, копировавшие профили и карнизные членения нижних пилонов; с пилястры на пилястру перекидывались нарисованные – со слабым рельефом – арки. Сквозная несущая аркада первого этажа словно пародировалась на втором – в плоскость стены под дугами нарисованных арок вписывались окна с треугольными фронтонами, выше, над ними, тянулся пояс-фриз с лиственными гирляндами.
Фасадные стены на третьем этаже расчленялись двуслойными пилястрами с коринфскими капителями – пилястра накладывалась на пилястру, изображение на изображение; окна накрывали эллиптические фронтоны…
Илья Маркович нудно перечислял увиденное, но пояснительные слова его на сей раз безотчётно перекликались со сбивчивым устным комментарием и картинкой, которая сама собой мистически оживала перед мысленным взором Соснина. – Это Рим, Рим, не перепутайте, палаццо Фарнезе в Риме, – звучал в ушах взволнованный голос Гуркина, а из далёкой-далёкой тьмы на смятый экранчик институтской аудитории выплывал, ёрзая от гуркинских косноязычных похвал, величаво-спокойный кадр, взятый фотографом в духе итальянской перспективы с фронтальным, пятиоконным по ширине, фасадом и симметричными сокращениями боковых крыльев дворца; с густой тенью аркады, ковровыми, крест-накрест и по диагоналям, утемнениями замостки. И тут, пока Соснин прислушивался к ускорявшемуся биению своего сердца, Илья Маркович покончил с изнурительными перечислениями, вернулся к уколовшей глаз странности.
Аркада первого этажа несла на себе всю тяжесть… Но чем выше, освобождаясь от нагрузки, возносились фасадные стены, тем массивней, пышней, выглядели они – реальный вес уступал весу символическому по мере убывания кверху связной, общепринятой выразительности: дорический ордер надстраивался ионическим, тот – коринфским; объёмные пилоны придавливались их сплющенными дубликатами, пилястрами, те – пилястрами сдвоенными. Тяжесть, накапливаясь и возрастая, обращалась в фикцию. Комбинируясь из канонических фрагментов по гениальному произволу, детали, казалось, набухали, нервически тянулись к карнизу дворца, да, именно так: всё, что рельефно лепило и расчленяло стены – арки, балюстрады, фронтоны, картуши, гирлянды – всё зрительно утяжелялось и при этом тянулось ввысь, опрокидывая земной закон, сопротивлялось, если тут уместно такое слово, не материальному весу камня, а весу возвышенному, силилось удержать мироздание, хотя одно только бездонное небо голубело над карнизным венчанием. Всё откровенней заигрывая с изобразительностью и лёгкостью, если не легковесностью, многосоставная форма достигала бутафорской массивности – как и подобало образной опоре небесного свода, имитировала мускулистость, упругость, словно была высечена из монолита. Парадокс или…? – вопрошал Илья Маркович, явно гиперболизируя перегруженную излишествами, довольно-таки суховатую при всей её пышности, как привык считать Соснин, композицию, никоим образом им не принимавшуюся прежде за кульминацию барочных безумств. Хотя эфемерная, порождённая лучом волшебного фонаря картинка, которая запомнилась Соснину, покрасовалась да и соскользнула со светоносного квадрата во тьму, а римская барочная натура – благо, покончив с покоем и негой, не знала меры – наверняка могла перевозбудить.
Между тем, Илья Маркович, успевший уже восхититься и более поздними, исполненными братьями Карраччи, пьянящими росписями свода над большой галереей дворца, – вызов заурядности, пошлой рутине – переходил к вполне смелым для своего времени – хоть вставляй в лекции Шанского – соображениям. (Петербургская пространственная традиция – замечал Илья Маркович в скобках – вывернула наизнанку средиземноморскую, дворы доходных домов – голые, художества вынесены наружу, на улицы, дабы поражали всех горожан. Мы, правда, страна фасадов).
Похоже, он приближался к главному.
Дворец являл идеал строения – не только бытовым, но и символическим ядром его был патио. Сгущение тянувшихся к небу античных форм превращало патио в пантеон, искусство славило в нём самоё искусство. Художественная страсть не затвердевала – камень пульсировал, его теснила изнутри колдовская сила – раздувала, искала выход, непрестанно взламывала гармонию, с которой едва обвыкался глаз.
И действительно – главное.
Столько слов, когда подсказка барокко проста: в искусстве правит закон небесного тяготения.
И приписка ниже, в углу страницы: выбрал спокойную точку для фото – из-под арки, по продольной оси двора.
ветерок, пронёсшийся над Тибром, охладил чувства, прочистил мозги и помог Илье Марковичу, не поступаясь оглядками, сомнениями, фантазиями, сформулировать второе (дополнявшее и уточнявшее первое) послание об особенностях римских ансамблей?
Via Giulia – потрясённый, я посмотрел на табличку, не сообразив сразу, где находился. Оглянулся на стену сада, за ней, на фоне лоджии заднего фасада палаццо Фарнезе клубились пинии. Античный фонтан с уморительно-уродливой рожей, арка. С этой арки, кажется, Микеланджело начинал сооружение так и не осуществлённого коридора, который он намеревался перебросить через Тибр, чтобы связать разделённые рекой палаццо Фарнезе и Фарнезину. Каким он его, этот коридор, задумывал? Любопытно, фасады сдвинуты – наискосок, по кратчайшей прямой от фасада к фасаду, он его хотел перебросить или – с изломом?
Via Giulia вывела меня к Тибру у моста Систо.
Снега в горах пока не растаяли, вода лениво струилась между высокими серыми стенками набережных, довольно унылыми.
Прошумели на ветру и стихли платаны, безлистные, словно проржавелые – на бледных, обвислых, как плети, ветвях, распушивались красно-рыжие серёжки.
Я медленно шёл к мосту Гарибальди, всё отчётливее виднелись театральные декорации острова Тиберина, похожего на сказочный, севший на мель линкор.
Плотность, с какой сконцентрировались художества во внутреннем дворе палаццо Фарнезе, недавние кружения окрест Пантеона, держали всё ещё в напряжении все мои чувства, но засветились голые белёсо-пятнистые стволы, заблестела вода, покачивая серебряное высоченное небо… высыпали к Тибру дома, те, что подальше, повыше, живописно рассыпались по яникульскому склону.
На ходу оглянулся. Нет, фантазия моя сплоховала, над мостами, на фоне уплывавшего влево, за холм, купола Святого Петра, не возник воздушный коридор Микеланджело; небесное серебро впитали камни, сгустили? – из тусклого серебра были отчеканены мосты, и уплывавший влево соборный купол, и фасады вдоль набережной, и замыкавший перспективу via Giulia, помечавший крутой изгиб Тибра куполок церкви, возведённой для себя флорентийцами, в ней упокоился по прихоти судьбы Борромини… приютили самоубийцу… На другом берегу виднелись угол Фарнезины, крыша палаццо Корсини.
Не вернуться ли к мосту Систо и свернуть в Трастевере? Почему бы после палаццо Фарнезе не подивиться опять сокровищам Фарнезины?
Шелестяще налетал, срывая серёжки, ветер.
В воде зыбились отражения ветвей.
Лень было решать – возвращаться, не возвращаться – я машинально шёл к мосту Гарибальди, удалялся от Фарнезины.
Рим избежал барабанного боя классицизма, ему вообще чужды массивные ансамбли нового времени, какими хвастливо обзавелись Вена или Париж? Ансамбли, которые реорганизуют, подчиняя себе, а то и подавляя, окружающие пространства? Собор Святого Петра – по сути замкнутый ансамбль самого собора, расширенный и, в замкнутости своей, завершённый симметричными дугами колоннады, едва ль не основное символическое назначение её – заключать в совершенную форму слитную массу людей, когда они заполняют по церковным праздникам площадь, отделённую от мирской суеты и скверны слоем непритязательных случайных домов. А барочный трезубец, Tridente, как восклицают римляне? И тут всё – вразрез с учебниками градостроительного искусства, по-своему. Три уличных луча уводят из пространственного ядра Рима: площадь Пополо прижата к средневековым крепостным стенам, за Фламиниевыми воротами, чью воздушную арку, сходясь, прокалывает трезубец – дубравы и пруды с лебедями виллы Боргезе. Да! И – опять, будто мне не хватало немедленного зримого доказательства, оглянулся, убедился, что купол уплыл за холм – собор Святого Петра тоже на самом краю города, за ним лишь ватиканские сады, виллы. Главные ансамбли – на выселках?! Но выросла симметричная беломраморная громадина в перспективе Корсо, в противоположной от площади Пополо стороне. Взрывной выброс патриотизма окаменел, уличный трезубец, привычно уводивший и з, привычно целивший в арку Фламиниевых ворот, теперь, обнаружив цель сзади, пронзает ещё и ступенчатое, многоколонное, подавляюще-огромное диво центральным своим лучом. Новое время настигло своевольничавший до сих пор Рим? Памятник объединительному экстазу сдавил сердце его, Капитолий. Спесивая попытка отменить неписаные предпочтения, подчинить осевому ансамблю свободный город?
Вот и мост Гарибальди.
Может быть, свернуть всё-таки в Трастевере?
и тут
Меня окликнули по-русски. – Илья Маркович, вы? Невероятно!
Действительно невероятно! – передо мной стоял, улыбаясь, Тирц; он наклонил голову и галантно приподнял шляпу.
не переводя дыхания
Достал вложенные в тетрадь копии писем. Гм, качество копий, действительно, так себе; едва различимая шапка на бланке отеля «Консул», дату не разобрать… а-а-а, всё-таки разобрал.
Рим, 31 марта 1914 года
Гурик!
Заканчивается моё сентиментальное итальянское путешествие. За перипетиями его, если была охота, ты мог следить из Петербурга по письмам, которые я исправно посылал Соне, но недавно повезло выведать твой Тифлисский адрес, сиё учённейшее послание, надеюсь, поспеет как раз к началу твоего отпуска и…
Так, дальше.
Извини, Гурик, за сбивчивость, вроде бы необязательные, но, поверь, упрямо цепляющие перо подробности. Пишу по свежим впечатлениям прелюбопытной экскурсионной поездки с Тирцем, не удивляйся – столкнулись нос к носу в Риме. Ты-то ещё по гимназии знаком с разнообразнейшими талантами и познаниями, причудами и ужимками неистового Петра Викентьевича, а я прежде встречался с ним от случая к случаю, в основном за покером, наши отношения карточных соперников – с шуточками-прибауточками он однажды едва не спихнул меня в долговую яму – бывали, мягко сказать, натянутыми, Тирцевский азарт, вспыльчивость, острословие, сполна явленные за зелёным сукном, не выдавали страсти к приключениям в лабиринтах искусства, и – уж точно! – не могли объяснить необузданности его вдохновения и лихости за рулём авто.
Так-так.
Я знал, что Тирц в Риме, стоял даже в задних рядах слушателей на его дерзком, огульно ругавшем подражательность русского искусства докладе на вечере римских петербуржцев, но не хотел…
Так-так, про тот скандальный вечер уже начитан, дальше.
В Риме я упивался одиночеством, намеренно не заводил знакомств, поселился в тихом «Консуле», а не в прославленной соседней, через два дома, ближе к площади Пополо, гостинице, обители иностранных путешественников, после экскурсий назойливо делящихся своими восторгами – я благодарил судьбу за то, что могу смотреть и видеть, обдумывать увиденное, не отвлекаясь на пустые светские беседы, однако внезапная встреча вывела меня из созерцательной отрешённости, которой я, рискуя разучиться говорить, признаюсь, всё же подспудно начинал тяготиться, поездка с Тирцем в Орвието дала острую пищу уму…
Соснин пропустил ещё с полстраницы.
Орвието, крохотный городок, уместился со своими монастырями и сонными запущенными дворцами на почти отвесной, вулканического происхождения, коричневато-ржавой скале – взбирались по серпантину, петли покруче крымских. Первоначально мы хотели ограничиться осмотром главной достопримечательности городка, воздушного готического собора с белокаменным стрельчатым лицевым фасадом, засмотревшимся на тесную площадь, с сине-золотистыми мозаиками, кружевными рельефами на лицевом фасаде и фресками Лукино Синьорелли внутри, в капеллах и нефах – печаль, нежность синих и голубых оттенков, невесомость фигур. В одной из капелл – «Осуждённые», заставившие меня вспомнить о микеланджеловском «Страшном Суде». А в поперечном нефе нас поджидал уже совсем не страшный Апокалипсис с известняковыми просветами на розоватых телах и пепельно-сиреневом небе. Однако не одним собором жил Орвието, вулканические породы не только угрожали собору оползнем, но и, как возвещал аляповатый плакат близ соборной площади, были благотворными для лозы, мы, беспечные искатели удовольствий, получив ночлег в простенькой, по-деревенски милой гостинице, соблазнились дегустацией, вовсе не аптечными дозами, белых вин, издревле – теперь замечу, вполне заслуженно – ценимых по всей Италии.
Ну как, Гурик, не надоело? Терпи, дорогой.