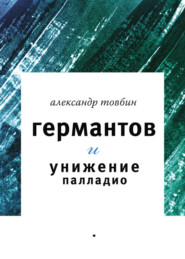По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Приключения сомнамбулы. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
сирена за рулём (ночной дневник стартовал)
…на себе испытал, католиков православные братья на дух не выносят, хуже проказы боятся латинской ереси, ей-ей, им магометане роднее – ещё благоверный князь Невский с Ордою миловался, а с европейским рыцарством рубился, как с вражьим племенем; потом, наглотавшись татарщины всласть, Русью её назвали, – пропел с романсовым взрыдом. – Попам нашим, что чалмы, что клобуки. Святая правда, каков приход, таков и поп… Тирца обуяло беспощадное отчаянное веселье. – Не корите богохульством, но старые камни, ей-ей, соврать не позволят, гляньте-ка непредвзято на обращённую в мечеть константинопольскую Софию – женственным купольно-апсидным округлостям православия на диво идут игольчатые минареты! Не выдаёт ли сия жутковатая гармония постыдно-органичную для паств восточных религий тягу к несвободе, которая вот-вот нас наново вспять потащит, в гибельное отторжение от Европы?
куда зовут рассечённые напополам гении?
– Прекраснодушные, критические, болеющие и радеющие за народ реалисты-классики наши – разорванные, мятущиеся меж любовью и ненавистью, зовут, зовут, не зная куда. Холя историческую близорукость, глубокомысленно в будущее светлеющее заглядывают, как в рай, а русское настоящее для них – досадливо-случайный загаженный полустанок, где обитают одни пороки, но, кляня его, норовят взлелеять святость с бедностью и мечтают, мечтают о заслуженной страданьями лучшей доле, там, за горизонтом, алмазы с неба на всех посыплются; он отругал безымянных местоблюстителей мёртвых истин, наставляющих к самоусовершенствованиям в пещерах души; сгоряча оттаскал Толстого за бороду.
– Что толку, однако, пенять классикам минувшего Золотого Века, их объёмно выписанным созданиям, их мечтаниям-сетованиям-поучениям-обличениям? – резко повернулся, впился немигающими глазами, пока мы мчались к выраставшему впереди холму с каменной, как неприступная крепость, деревушкою на макушке; куда несёшься ты, дай ответ? – прошептал, мигнув, Тирц и сразу с наигранной серьёзностью повысил голос. – Кто и сегодня не бросает обвинений в свирепой бестолковщине родной нашей власти и тут же с гадливым безмыслием не утешается презрительным осмеянием педантизма, рутинной узаконенности всяческих процедур в неметчине? И нетерпение, какое нетерпение гложет! Нам вынь да подай немедленно рай… и разве не прав Булгаков? Нам подвиги подавай, подвиги, но не подвижничество.
Я вслушивался, силясь нащупать нерв его беспокойства; смотрел-то он на меня, а словно в пустоту говорил.
И как будто нерв я нащупывал: отказ от скандинавской родословной в пользу византийско-ордынской? Безысходное расщепление русского духа?
Расщепление?
Сколько лет и бед минуло, но те же зыбкие темы провоцируют спор за спором; те же растревоженные мысли, почти те же, рождённые напряжённой замкнутой пустотой слова. В том же идейном тупичке топчемся, как нарочно, весь вчерашний вечер топтались, – вновь поражался напору совпадений Соснин.
– Возьмите некоронованного нынешнего короля фельетона, с ним, – язвил Тирц, – и покойный папенька ваш, если память не изменяет, у суворинского самовара чаёвничал, о, Василий Васильевич без преувеличения – умнейший талант, зачитываюсь его расхристанными мыслями, сводимыми в афоризмы! Какой там талант – искромётный угрюмый гений! Но, чур меня, чур! – порча наведена на него, он напополам, на враждующие половинки рассечён злым волшебником: и самому Господу не понять, что ему по уму, по сердцу? Всё ещё не отводя испытующего горящего взора, Тирц развернул плечи, откинулся на тиснёную коричневую кожу массивной спинки сидения. – Околдованный Флоренцией, Василий Васильевич в ней затепленную свечу увидел, духовный светоч, но не долго благоговел, взялся привычно забрасывать Европу комьями грязи за чугунные наши беды; ну разве не рассечён? – то христианство для него светоносно и жизнетворно, то честит его как религию смерти, клянётся, что лишь Ветхим Заветом жив, полон; но смолкают юдофильские откровения – зыркнет исподлобья окрест, тёмным идолам отобьёт поклоны и уже никак не признать ему бейлисовскую невиновность, не откреститься от лживой веры в кровавые иудейские ритуалы. И замечали? – юдофильство отдаёт слащавой искусственностью, словно скороспелый плод окультуренного ума, зато юдофобство бьёт наповал натуральной силищей, ибо распирается глубинно-первобытным инстинктом, – остывающий взгляд Тирца поглотила дорога, гордый водительской сноровкой, он держал молча и недвижимо руль.
Я пересказал ему беседу отца с Сувориным относительно истоков шизофрении, беседу, по-моему, данную в сокращениях «Новым временем»; мол, симптомы болезни в самих духовных поисках христианина заложены, в метаниях между позывами телесного естества и бессмертной души. – И разве, – спрашивал я, выслушав его молчание, – апостолы Пётр и Павел не две половинки одной натуры?
Тирц задумался, долго молчал, будто бы внимание настолько отдавалось дороге, что он и слова не мог проронить без риска вильнуть рулём и свалиться в пропасть, так и оставил мой вопрос без ответа.
– Да и к тому же Василию Васильевичу вы не очень-то справедливы, – не унимался я, – помните, обвалилась в Венеции главная колокольня, наши церковники унизились до злорадной возни, антикатолических выкриков и ухмылок? Розанов с сарказмом на ту возню отозвался.
– Я же сказал, он напополам рассечён, на взаимно зеркальные половинки, – прошипел Тирц, едва разжав губы, не выпуская руля.
Чтобы разрядить искусственно сгущённую атмосферу, я поделился своим шутливым наблюдением над взаимно зеркальными Диоскурами, сторожившими в Риме вход на площадь Капитолия, в Петербурге – вход в Конногвардейский манеж, воздал должное художественной симметрии, которая свела братьев-близнецов в цельную совместную композицию вопреки их поочерёдному инобытию. Тирц благодарно рассмеялся. А за громким внезапным вздохом изливал уже негодованье на другой фланг, где и я, зло бросил он, ошивался, костерил восторженные пошлости Блока, поэтические метели коего опаляли пламенем фанатизма. И откуда ослепления стихиями, надрывы-навзрыды, прочие пагубные экстазы в нём, немце? – спрашивал Тирц с заговорщицким прищуром и тотчас выдавал заветный секрет, закладывая у губ язвительные морщинки, – от самообманного раздувания первородной самости! Невдомёк европейски воспитанному певчему символисту, что жадно и раскосо смотрит в нас не скифское прошлое, но грядущая деспотия.
Торжествуя, опять жгуче уставился мне в глаза.
пугающие взгляды и нечто
Извечным внутрирусским расколом, дурившим и господ, и холопов ложными целями, он объяснял шаткость трона, на нём невезучий Николашка был обречён досиживать отпущенный ему срок царствования будто бы на двух стульях. Тирц обещал, что монаршья власть, эфемерная, как царскосельские иллюминации в дубовых аллеях, вскоре… у него разболелись суставы, поморщившись, сжал и разжал кулак, сжал и разжал, потом потёр локоть. Вслед за Ключевским он готов был считать Российскую империю историческим недоразумением, которое вдруг растворится в бурях времени, как облако от порывов ветра. Но уж те, кто угодит в это «вдруг», испытают такое… – Двусмысленность и ложь в основе всех ощущений нации, – высокомерно оглашал свой приговор Тирц, его отвращало забубенное, бесшабашно-заунывное упоение исключительностью, замкнутостью, якобы вменёнными нам национальной судьбой и лесостепным, с ямщицкими колокольцами-бубенчиками, простором на невидимой границе материков, обрекающим нас подчинять историю географии; и ещё измывался он над общенациональною страстью к крайностям, она ведь мутными эмоциями и идейным столпам затмевала взор, торопила обнародовать очередную глупость; боюсь переврать, но веховцы и те мелковато у него плавали. Тирц же, активный участник модного философского кружка Майкла Эпштейна, где домысливали на свои лады Соловьёва, был до зубов вооружён полемическими, отточенными на собраниях кружка аргументами, отважно в бытийную глубину глядел, прозревал-диагностировал родовую травму Руси: платоновское разделение мира на идеи и вещи у нас, как водится, с недрогнувшею прямотой провели, но приняли не умом, а сердцем, возлюбили больше себя идеи, слепливаемые из сладчайших слов. Увязая в елее самообольщений, мы упорствуем, точно помутился разом у всех рассудок: промежутков с полутонами чураемся, вещи – низкая материя! – нам, вполне алчным и вороватым, вроде как противны до жути, а хотим мы сказочно жить-поживать-добра-наживать в раздоре с внешним миром других и – значит – плохих идей, плохих, коли вещи хотя бы и красного словца ради не третируются этими другими идеями, не отвергаются; праведное бесподобное будущее себе на погибель хотим построить в борьбе с чужим, чуждым, насквозь греховным. Даже тот свет в святой Руси удобно и беспощадно надвое поделён на рай и ад, заблудшие-то бедолаги-католики озаботились ещё чистилищем, промежуточным укрытием для загробных полугрешников-полуправедников. Горе нам, гордым и ничтожным затворникам, горе.
– Пётр Викентьевич, «Вестнику Европы» вы, часом, не предлагали печатать свои пугающие соображения? – откликнулся я, наконец, вопросом на утомительные умствования Тирца.
– Знаю, ценю римскую мудрость – verba volant, skripta manent – да, слова разлетаются, написанное остаётся, и, признаюсь, соблазн одолевает тихо засесть во французской моей глуши, холить стиль под гул океана… да, но тут-то и меня гипнотизирует Азия, тут и я покоряюсь восточной мудрости: побольше думать, немножко пописывать, ничего не публиковать! – просиял, обрызгал чёрным огнём зрачков.
где и в ком зло
– И от того же, от всевластия крайностей, не только индивидуальные, но и коллективные расколы наши и рассечения! И никакая сверххудожественная симметрия нас не сведёт уже воедино. Западники вроде вас или меня, грешного, – ухмылялся Тирц, – безбожники ли, христиане любых конфессий, а то и, допустим, глумливо-разочарованные католики с тем ли, иным философски-религиозным бзиком; однако все, настаиваю – все! – сочные славянофилы, как бы истово не крестились, не блюли посты, сбиваются в беспощадное племя православных язычников, веками и до дня сего вскармливаемое ядами манихейства! Ведь и погромщики наши молятся в кадильном дыму, но заповеди Христовые почитают формально, зато манихейству служат с изничтожающей надуманных врагов искренностью. Вот вам и гибельность восходящего к Платону противостояния духа низостям материи, ещё и нутряная подоплёка его – стародавнее помрачение намертво слиплось с философской посылкой античной школы: всё вещно-материальное, деловое, идущее из Европы – зло, возводимое в зло космическое, а присвоенные себе духовность, душевность, да уездное любомудрие вкупе с дутым гей-славянским величием – добро, которое надобно огнём-мечом защищать в простых, невинных, как малые дети, людях от прущей с Запада порчи.
Редкостно-ровный и отчётливый, короче, фантомный почерк.
Даже вычёркивания слов и строчек – будто бы по линейке.
Но расплывались буквы. Модный философский кружок… не на его ли архивные премудрости ссылался вчера московский теоретик?
В голове была каша.
припев
Сколько талантов у нас в России, сколько талантов… и как мало умов!
Тирц против социалистов, вскармливаемых империей крайностей
– Да, у заступников народа в нашенских палестинах – гениев слова ли, убогих бомбистов – мозги вспучены ложью об этом самом народе. Святое в нём, богоносце и богомольце, славят, злое, звериное, – гневно полыхнули зрачки, – замечать не желают, заметив ненароком, замалчивают; а человеческое-то, пока свирепеет борьба за выдуманную или внушённую правду, – потешался, – ухает в пропасть между добром и злом, когда добро и зло, свет и тьма понимаются как враждующие абстракции. О, Тирц, ругатель заблуждений и насмешник над предрассудками, беззаветно верил в наличие адского, затаившегося в добрых посулах плана, который ему досталось по пунктам разоблачить! – Гуманистические увещевания-мечтания обожаемых классиков, – резал с металлом в голосе, хотя и смешно гримасничая, – сыграли с нами презлую шутку, справедливость подавай теперь всем, мы делаемся заложниками охлоса, свобода черни – рабство лучших.
И Тирц, срываясь на крик и уже без паясничанья, всерьёз, напускался на социалистов, он на них, похоже, давно точил зубы. И не за фанатизм и мертвящие идеалы, вовсе нет, его не пугали сами по себе еврейско-немецкие теории капитала, французский утопизм, но… и огорчительное но, вырастая, зловещую тень отбрасывало. – Смычка надсадной патриотической фанаберии с книжными идеалами света и справедливости, то есть с социализмом, обрекает нас на долгое сокрушительное бесславье, – разводил руки, бросая руль.
зачем всё это?
Попивал вино, перечитывал и правил записанное.
Ну и замес!
Европа и Азия, раболепие и православие, рассечённые, обманувшиеся и обманувшие в лучших побуждениях гении, манихейство, социализм… зачем я напрягаю память, пишу, а не ложусь спать? Опять не мог долго дозваться горничную, наконец, разбудил, принесла с гостиничной кухни сыру.
Тирц (задолго до Бызова!) раскопал корни просветительских бед
Вцепившись побелелыми на сгибах пальцами в руль, заряжался картечью многословия для нового залпа, но попутное восхищение опушенным апельсиновой рощею городком в ложбине, силуэтом барочной колоколенки над бугром красноватых крыш перенацелило его запальчивость.
– Да, барокко вспомнило Бога, возбудилось, хотя сугубо-художественная горячность барокко, затмив ренессанс как «правильный» стиль в искусстве, не могла унять притязаний ренессансного человека – выпущенного джинна не затолкать обратно. Между тем, человек не венец творения, а его инструмент, есть люди-рубанки, люди-молотки, свёрла, по душе ли вам человек-зубило? Не морщьтесь, Илья Маркович, попусту не досадуйте – пора бы нам, самоназначаемым светочами, уразуметь, что все идеи человека, все взлёты его, которыми он так кичится, суть средства достижения скрытой, ведомой небу одному цели.
И как он за всю поездку ни разу не поперхнулся своей отвагой?
– Да, ренессанс, – продолжал беглый обстрел далёких мишеней Тирц, – гордо изобразил в центре мироздания личность. И эта гуманистическая иллюзия, по сю пору содрогающаяся одическими радостями, рвущаяся из мрака к свету, лишила раба смертного смирения, вывела его из-под присмотра Бога. Вот она, ключевая ошибка истории! – губительные инстинкты вышли из оцепенения, разбушевались, осталось лишь беспомощно всплескивать руками, ужасаясь, что такое всё чаще и чаще взбредает на человечий, не в меру пытливый и самонадеянный ум.
припев с дополнением
Сколько талантов у нас в России, сколько талантов… и как мало умов!
– Так ведь Василий Васильевич Розанов и умён, и талантлив, сами сказали, – ловил я Тирца на противоречии.
– Умён. Да не так, не так, он рассечён безнадёжно.
– А есть ли кто-то, кто умён и безнадёжно не рассечён?
– Есть, Пушкин. И ещё, наверное, – застенчиво улыбнулся, – Чехов.
глубина заблуждения
– Что же мы от просветительства получили? – Тирц опять целил в ближнюю, вовсе не упущенную из виду, как мне показалось, мишень.
– Что же мы получили? – повторил, размышляя вслух.
– Свобода отмахалась флагами на баррикадах, а европейские мечтания уныло извратились нетерпимыми, дурно образованными разночинными неофитами; покамест с пеною у ртов о высоком спорили, явились нам мститель-Нечаев с кровавой харькой, революционеры-взрывники, из-за его спины повыскакивавшие. Таких бы выпороть на конюшне, пока не поздно, ан нет, упустили, как всегда, время, душегубов произвели в героев, вот и расхлёбываем.