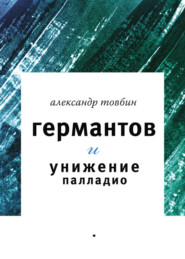По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Приключения сомнамбулы. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Есть ли в Риме самодовольные, центрированные ансамбли, рассчитанные на длительное приближение к ним по осевому направлению? Этот, эклектичный, помпезно запирающий перспективу Корсо, по-моему, будет первым.
Разные архитектурные стили сошлись в Риме, сошлись и – ужились, как ужились, когда уравнялись, сделавшись прошлым, разные эпохи, но где – забеспокоился я – где классицизм? Внутренне напряжённое и зрительно неудержимое барокко лишь образно захватывало и покоряло пространства, величавая ватиканская композиция и вовсе замыкалась сама в себе, а для классицизма, требующего практического градостроительного размаха, попирающего и подавляющего соседей, в тесной свободе Рима не нашлось места.
Все стили, все эпохи, объединились в священный союз, чтобы уберечь Вечный город от классицизма?
очередной поворот
Пересёк Корсо у триумфальной, отмечавшей край Марсова поля, тянувшегося до излучины Тибра, колонны Марка Аврелия, которая не постеснялась продублировать увитый прославляющими рельефами траяновский образец. Взмахивали и щёлкали кнутами-бичами извозчики; обогнул шумную их стоянку, лошади мотали головами у мемориальной колонны, как у монументальнейшей коновязи, притянутые лепными сценами с поверженными уродцами-варварами и героической переправой через Дунай.
Пошёл к Пантеону.
Рим, 27 марта 1914 года
После проведённого на ногах дня – ноги гудели, но не было усталости, только глаза болели, будто бы от долгого чтения, а я, ненасытный, вернувшись в гостиницу, сокрушался, что что-то, возможно главное, проморгал, назавтра старался мнимые ли, действительные пробелы заполнить. Мои прогулки, обрывавшиеся на самом для меня интересном, сулили продолжение, как сказки Шахерезады, за коленцем знакомой улочки вдруг открывались заманчивые перспективы.
Шёл к Пантеону, но оттягивал встречу с чудом, там, где следовало свернуть налево, чтобы побыстрее выйти на площадь Ротонда, сворачивал направо, потом – делал по своему обыкновению изрядный крюк и, будто желая заблудиться, какое-то время шёл туда, куда глядели глаза; коричневый, за ним – тускло-вишнёвый фасад… внезапность утеплённой боковым солнечным светом охры между высокими окнами с обкладками из бледно-серого мрамора, глухая синева косой тени, рассекавшей по диагонали безвестный дворец надвое, на треугольные половинки, хмурую и мажорную – к затенённому крыльцу дворца подкатила карета, запряжённая парой чёрных лоснившихся лошадей в нарядных жёлто-зелёных попонах; задержаться? – рустованный первый этаж, фронтоны над блеском стёкол, массивный карниз, но взгляд метнулся в сторону, хотя там тоже русты, фронтоны, карнизы, там тоже смешения декоративных мотивов – они накладывались, подклеивались один к другому в видимых коротких отрезках улиц. Какого всё-таки цвета Рим? Вот красная охра стены и жёлтая охра пилястр, вот оранжевый фасад, один из бессчётных мазков римской картины. Оранжевый, но какой же сложный по цветовому составу, в нём и укрывистые сиена с охрой, и кармин, и марс коричневый, и какие-то неуловимо пригашающие яркость добавки; я шёл уже по терракотовой улочке. Растянутые оттенки терракоты – от густой и горячей, шоколадно-красной, до высветленной, почти что розовой; и не услышать чьих-то шагов, голосов, никто не попадётся навстречу, ничто не отвлечёт от подбора и смешивания красок. Мысли спутывались, в чувствах своих, вызванных увиденным, я никак не мог разобраться. Сколько раз настигало меня необъяснимое восхищение в этой точке? Не знаю, не считал, возможно, что именно здесь я за два месяца накопительных наблюдений ни разу и не был, именно по этой улочке, мимо этих красновато-коричневатых и розовых стен вообще раньше не проходил. Да я ничем по-отдельности и не восхищался, собственно, и восхищаться-то было нечем, разве что самой насыщенностью, сконцентрированностью отвердевших давным-давно озарений; череда пустынных, изобилующих неброскими каменными художествами пространств лишь предоставляла мне желанное убежище для уединения. Но и в этой случайной точке, чувствовал я, уплотнялся, оставаясь огромным, весь Рим, весь, Рим исподволь подавлял и восхищал меня своей безмерностью, многооттеночной многоцветностью, повелевал мною, мистически внушал мне, что я в минувшие времена всё-таки не раз бывал здесь, мне уже представлялось даже, что всё вокруг мне давно знакомо. Вполне бесцельно и безответственно я вновь заскользил взглядом по темноватым, многозначительно молчавшим фасадам, ощутив, однако, тайное присутствие в сумеречной тесноте ещё чего-то, невидимого. Если обходить стороной Пантеон, как я его обходил сейчас, об античности могла напомнить разве что невразумительная яма с развалинами Ареа Сакра, храмового центра Марсова поля, но вокруг простирались его, Марсова поля, земли, замощённые когда-то мрамором, загромождённые тенистыми портиками, бессчётными театрами, термами, стадионами; под этими плоскими булыжниками, тротуарными плитами, под моими подошвами, когда-то кипела жизнь. Античность похоронена, а до сих пор смерть её неизъяснимо гнетёт душу, тревожит память? Камни словно шептали мне в след: memento mori, memento mori. Мой взгляд уже не скользил беспечно по фасадам. Исчезла и лёгкость, с какой я взлетал на Пинчо. Где бы промочить горло? Машинально направляюсь в просвет за тёмно-коричневым углом. Нет, нет, только не к мосту Умберто, у которого разноязыко гудит старинная харчевня, приманка для иностранных путешественников, там легче лёгкого вовлечься в светскую болтовню, да и незачем мне упираться взором в тупой комод Дворца Правосудия, возведённого как раз напротив моста, раздражение от этой чуждой блаженному римскому пейзажу громадины, как уже было с неделю назад, вполне могло меня потянуть опять направо от Тибра – миновав массивное палаццо Боргезе, я, не понимая, что именно меня потянуло, забыв про Пантеон, опять покорно побрёл бы вдаль по Рипетта, по лучу трезубца, почти касавшемуся береговой дуги, побрёл бы мимо Мавзолея Августа, мимо церквей, не заметил бы как очутился вновь на площади Пополо… нет, я не забывал о Пантеоне, и, попятившись, я уже не чувствовал жажды – мне не хотелось пока покидать умиротворяющий таинственный дневной полумрак безымянных для меня улиц и переулков, где можно – надолго и счастливо – затеряться, чтобы затем, в полном соответствии с волнующим властным церемониалом, какому я подчиняюсь, обрести внезапную цель, беспрекословно, резко свернуть на площадь Навона, в узкий, но роскошный, театрально-солнечный, терракотово-умбристый зал под лазурным небом с обязательным обелиском, барочными, вставленными одна в другую неглубокими фонтанными чашами, где плещутся в неутомимом наслаждении символические фигуры, морские коньки, рыбины с приоткрытыми губастыми ртами и изумлённо выпученными глазами – ко всем трём фонтанам, если что-то не путаю, приложил искусную торопливую безупречно-мастеровитую руку вездесущий Бернини; не верится, что ещё недавно роскошная площадь была подсобным цехом римского гужевого транспорта, на ней мыли лошадей, экипажи… да, да, я не могу не задержаться у центрального фонтана «Четырёх Рек» с хитро укреплённым, будто ни на что не опиравшимся обелиском, вот и сведённые временем визави свидетельства жестокой уморительной вражды Лоренцо и Карло, сотворивших здесь в четыре руки изумительный пластический анекдот. Искусно встроенная в громоздкий дворец Памфили, темпераментно и изящно прорисованная церковь не иначе как для поддержания потешной интриги, пусть и по воле папы Иннокентия не помню какого номера, высилась как раз напротив фонтана, вот опасливо-защитные жесты аллегорических Нила и Ла-Платы, вполне прозрачные, вот и ответная ехидненькая ужимка Святой Агнессы, с игривым превосходством посматривающей на оскорбительный фонтан с фасада посвящённой ей церкви; иссохшая головка Агнессы хранится в хладной тиши подземной церковной крипты, но маску христианской мученицы, заколотой на арене кинжалом, до болезненности изобретательный Борромини с ужасающим и прелестным ощущением собственной правоты снабдил характерной мимикой и подключил к своей – неотделимой от изводивших узорчатых замыслов? – многолетней тяжбе с Бернини, понудил к бессрочной, задорной и едкой, в духе площадной комедии, весёлости, и тем самым мистическим образом вернул канонизированную девственницу к мирской жизни. А себе перерезал горло. Медленно прогулявшись под плеск фонтанов, я мог бы теперь взять правее, отклониться к палаццо Канчеллерия, чтобы ублажить глаз этим – таким одиноким в Риме и, пожалуй, единственным в своём роде! – воплощением ренессансного идеала, его непорочной чистотой и покоем. Ничего лишнего. Каково этому небесному каменному посланнику в окружении, где лишним ему могло показаться всё? На манер второпях всеми позабытого праведника, в белых скромных своих одеждах затесавшегося в разношёрстную безалаберную толчею безбожников, палаццо Канчеллерия со скорбным укором взирал на скопище неправильных форм. Забавно и грустно, прежде за строгими белыми стенами корпел трибунал кардиналов-канцлеров, нынче же палаццо Канчеллерия самим своим сдержанным совершенством осуждало расточительные вольности зодчих-отступников, которым, понятно, не суждено раскаяться; с искренним – или фальшивым – сожалением-смирением опущенные взоры, поджатые губы, и – безоглядная страстность… был какой-то привкус мелодрамы в отношениях стилей. И впрямь, почему бы не взять правее, не отклониться? Не пора ли глазу передохнуть и от невнятно-хмурых осыпающихся фасадов, и от сочно-терракотовой возбуждающей барочной роскоши Навоны, просветлиться выверенной золотыми пропорциями гармонией брамантовских линий и плоскостей, единственно-верными соотношениями простенков, интервалов между пилястрами? И затем – мгновенно – окунуться в бесшабашную солнечность Кампо-де-Фьори, Цветочного поля, исстари назначенного перетасовывать, как карты, картины публичных казней, увеселений. Правда и без казней, костров инквизиции сейчас здесь не заскучаешь – кабачки на все вкусы и по всему периметру поля, горы фруктов, всякая всячина сомнительного происхождения, с неистовой доброжелательностью к любопытным воспеваемая разбитными вралями-торговцами; они непрочь и наорать, корча жуткие рожи, на чересчур недоверчивых и расчётливых. На неряшливых лотках под серыми парусиновыми зонтами, навесами, рядом с экзотической снедью – меж страусовых яиц, ананасов, фиников – обманный хлам: облезлый и растрескавшийся перламутровый веер, украденный на балу у куртизанки Империи, почерневшие бронзовые подсвечники, помнившие кровосмесительные оргии в покоях папы-Борджа, эфес поломанной шпаги, ею закололи подленького французика, беспардонного фаворита королевы Христины. Не пора ли всё же пропустить рюмочку? Или выцедить глиняный кувшинчик вина? – добираясь сюда натощак, я вознаграждал себя за зрительское усердие ещё и ломтём тёплого хлеба, перегруженного подкопчённою ветчиной, белым сыром и зеленовато-розовыми кружками не успевшего созреть помидора. Амброзия жарки, варки. У стойки мирно бранятся кучера, грузчики, тут же какие-то чопорные старикашки при шляпах, перчатках, но с лихо заблестевшими, когда им наполнили рюмки, глазками, в углу, не замечают питейного бедлама, сражаются в шахматы, а рядом со мною шуршат газетами, спорят, тараща глаза и жестикулируя, аргументы свои выкрикивают, как лозунги, ловлю себя на том, что понимаю по-итальянски. – Джолитти не хочет войны из-за австрийских территорий, он за нейтралитет. – Нет, синьор, это не австрийские территории, это итальянские земли, их давно пора у автрийцев отвоевать, а Джолитти юлит. – Джолитти никогда нельзя было верить на слово, но сейчас он за войну, за войну, он фальшивый либерал, он заодно с непримиримыми социалистами. – И хорошо, что заодно, только союз Джолитти и Муссолини нас приведёт к победе, мы вернём земли, захваченные австрийцами. – Муссолини был против ливийской войны, забыли? – Теперь поумнел, понял, что пора проучить австрийцев… Боже, как все эти воинственные политические страсти-мордасти далеки от меня! За окном – ослик, жующий сено, повозка с высокими дощатыми бортами, натюрмортный лук-порей и бутыль масла на краю лотка, пышнотелая краснощёкая матрона с охапкою парниковых роз. И приятно зашумело в голове, и вновь потекли в разные стороны темноватые, хотя уже довольно оживлённые улочки; лавки, набитые таинственно мерцающей рухлядью, разваливающиеся фонтанчики с вымученной капелью, новорожденные, пока нежно-желтоватые листочки, льнущие к древней бархатной кладке в булыжных двориках, в растрескавшихся, осыпавшихся уличных тупичках. Площадь Парадизо. Кривой ствол. Лениво замираю в паутинно-синей тени ветвей у изогнутой оплывшей стены, если верить эффектно ткнувшему в замусоренную землю лакированной тростью зычноголосому чернокудрому предводителю нагнавшей меня экскурсии, под желтоватой стеной, под грязным исцарапанным цоколем – фундамент театра Помпея, славу которого увековечила натуральная сцена убийства Цезаря. Не время ли с издёвкой превращает мир в пошловатый театр, людей в актёров, загримированных навсегда? И ты, Брут? – с бесталанным пафосом век за веком вопрошает, как заведённый, бессмертный Цезарь. Стена залеплена афишами и плакатами. Вразброс – чёрно-белые афиши синематографа – «Кабирия», «Кабирия», после туринской премьеры смотрите в Риме. «Кабирия», ещё не показанная, наделала много шума своим героическим античным сюжетом, подробности которого пока что держатся в тайне, нетерпение по милости газет с афишами активно подогревается, и, думаю, вскорости доведено будет до кипения, но я не успею уже посмотреть сенсационную фильму. Огибаю стену. Опять «Кабирия», крупными буквами – Джованни Пастроне, Габриелле Д, Анунцио. Что они там напридумывали? А дальше, за рекламным обещанием – тоже крупными буквами – гастролей Тосканини, – плакат выставки Умберто Баччони с фото зрительно-динамичных его скульптур-агрегатов, рвущихся пронзать, крушить, вращаться и перемалывать. Футуристы, разрушители прошлого, бредят устремлённым движением, буравят грядущее. За скатом случайной крыши прочертился карниз палаццо Фарнезе, я засомневался – не чрезмерным ли получался крюк? Обратно, обратно, как славно, что Навона осталась замкнутой, цельной, что в патриотическом раже не проломили, как планировали, её фасады, чтобы открыть вид на уродливый, взгромоздившийся за Тибром дворец Правосудия. Не доходя до скруглённого угла площади, наложенного на дугу античного стадиона, у фонтана «Негр» сворачиваю в чёрную щель меж заглядевшимися на водные забавы домами, оставляю справа руины Ареа Сакра, чтобы начать, наконец, такое же долгое, такое же радостное, как и мои удаляющие плутания, возвращение к первоначальной, будто бы позабытой цели.
На сей раз я, терпеливый охотник за главным, отложенным на закуску зрелищем дня, подкрадываюсь к махине Пантеона сзади и чуть сбоку, его не видно пока… Редкостная для Рима готика, Святая Мария над Минервой. Обелиск, установленный, правда, почему-то на спине мраморного слона, опять Бернини; не посвящён ли монумент памяти слона, которого подарили папе и водили по Риму – я надумал справиться о слоне в путеводителе, однако в углу площади, между охристо-коричневыми домами уже виднелось могучее, напоминавшее о массивах древних крепостей, закругление глухой серой стены.
Огибаю Пантеон по границе довольно глубокого, огороженного толстыми парапетами рва. На площади с Рамсесовским обелиском, выметнувшимся из барочного распластанного цветка, недоверчиво застываю перед многоколонным портиком – колонны графитно-серые, как грифели гигантских карандашей.
Неужели таким Пантеон и был без малого два тысячелетия назад, сразу после пожара и адриановской перестройки?
На Форуме моё недоверие вызывали попытки схематично реконструировать облик теснившихся у Священной дороги храмов, а, застывая перед Пантеоном, я упрямо не верю в его фантастическую подлинность. Что менялось? Потрафили папскому капризу, прилепили, затем, лет эдак через двести, сбросили – победа Марса и Венеры с толпою прочих богов, незримо свой храм оберегавших? – нелепые, позорившие Бернини башенки, купол освободился от ослиных ушей. Что ещё? Отодрали фронтонный барельеф, какие-то позолоченные пластинки, пустили бронзу с портика на прославивший молодого Бернини соборный, с витыми колоннами, воздушный балдахин, на так, наверное, никогда и не выпалившие с замка Святого Ангела пушки, но – вот он, Пантеон, почти первозданный, лишь потемневший от времени. И Наполеону не дался, когда тот захотел его умыкнуть в Париж.
Впрочем, одной пушке нашлось применение, экстравагантная Христина пальнула в виллу Медичи, чтобы разбудить проспавшего свидание кардинала.
Мягкий сумрак, льющийся в круглое окно свет.
Сокращались кверху по ширине пояса кессонов, будто бы с учётом инженерных расчётов прорисованных современным мастером. Купол как образ неба, большое круглое окно в нём… небо за небом, образ небесной бесконечности? Под основанием купола – ещё два круговых яруса членений по высоте, золотисто-розовые, поблескивающие мрамором, бронзой; шушукались чёрные траурные старухи у трогательно-скромного надгробия Рафаэля, я снова задрал голову и снова не поверил глазам.
Сбоку донеслась сбивчивая, с форсированным прононсом французская речь; голос знакомый. Эвелина! – мадам-синьора, старенькие мосье с разинутыми ртами.
Я стоял поодаль, прислушивался.
– Император Адриан, – с заученным вдохновением излагала легенду Эвелина, – при возведении купола приказывал постепенно засыпать внутреннее пространство землёй, чтобы рабочие по мере подъёма купола могли доставать до верха очередного пояса кессонов, при этом в землю подмешивались золотые монеты, потом, когда конструкция купола поднялась, Адриан, знавший цену плебсу, разрешил всем, кто пожелает, искать и забирать золото, толпа быстро очистила Пантеон.
Какой неблагодарный закон усвоения! Сначала подвиги страстотерпцев, фантастические прорывы духа, творившие Рим в решающие его часы, затем – расхожие анекдоты. История, если дело сделано, с облегчением скалит зубы?
Когда я выходил из кофейни, в Святой Марии над Минервой зазвонили колокола; я осмотрелся – площадь будто бы перекрасили.
Соснин читал, не отрываясь.
Ему было хорошо знакомо поисковое состояние, близкое к трансу: одержимость поиском чего-то желанного, но неясного, чего-то, что так трудно понять и определить. В самом деле, что именно искал, что хотел найти или открыть дядя, импульсивно подчиняясь невнятным подсказкам Рима? В страстную невменяемость слепого поиска с широко раскрытыми глазами и сам Соснин не раз впадал, когда брёл вдоль Мойки, блуждал по Коломне, повелевавшими им так же, наверное, как улочки и площади вокруг Пантеона повелевали дядей; Соснин ведь тоже не столько рассматривал город как нечто внешнее, отдельное от него, сколько торопливо, слитно и едва ли не бессознательно впитывал всё, что видел, покорялся тайным силам и сигналам увиденного, которые непрестанно теребили воображение. И скорее всего нечто подобное тому, что испытывал Илья Маркович, испытывал бы и он, если бы сказочно вдруг перенёсся в Рим. И, возможно, писал бы о Риме так же, как писал дядя – с эмоциональной дотошностью, под диктовку переполненных глаз.
Родство душ?
Почему нет, ведь когда-то за окном шумел ливень, он стоял со скорбной миной у гроба Ильи Марковича и почудилось, что в него, бездушного, переселялась дядина душа, пусть не вся душа, частичка её; в ушах отозвался ритмичный стук молотка, такой далёкий. Заколачивали крышку гроба, затихал ливень. И разгоралось по пути на кладбище солнце. Увидел, вздрогнув, на неровном глинистом дне могилы рассечённого надвое лопатой дождевого червя, голубую лужицу с облаком.
Вечерело, ошеломлённый мощным великолепием Рима, я углубился в какие-то и вовсе богом забытые переулки и ощутил вдруг лёгкость, даже летучесть барочных церквушек, которые притулились в невзрачных тупичках, как статуи в нишах. Ничего не менялось здесь на протяжении послебарочных столетий. Губчатые, плотно пригнанные камни покоились на обжитых местах. Потемнелые лицевые фасады храмиков встречали показною пышностью прихожан. Однако послушные опрометчивому толчку фантазии, фасады эти, в неверном свете будто бы невесомые, окончательно утрачивали свою обманчивую устойчивость, чудесно отделялись от прилепившихся за входными порталами нефчиков с алтарями; отделялись и – сминались-размягчались-менялись. А фантазия взыгрывала, не знала удержу – я ввязывался в один из быстролётных римских сюжетов.
Не чересчур ли у дяди взыгрывала фантазия?
Раскрыл Вёльфлина: «появились новые определения признаков красоты – своенравие, своеобразие. Благосклонно принималось всё оригинальное, нарушавшее правила. Тяга к бесформенному стала всеобщей».
Пластичностью, текучестью каменные оболочки соперничали с материей – да, каменные драпировки, конечно… они действительно трепетали, как драпировки, примерялись к разным, податливым, заждавшимся их, но неведомым пока что пространствам, то развёртываясь в вольном, реющем, всеохватном поиске, то, ограничивая, пробно закрепляя найденное, упруго сжимались.
Форма жила сама по себе?
Я, по правде сказать, не страдавший ранее сверхчувственными способностями, уже не фантазировал – видел то, что творилось за притворной косностью травертина. Взламывалась драпировочная – лишь маскировочная! – плавность твёрдых перетеканий. Профилированные обломы с калейдоскопичностью сдвигались, распадались и рассыпались в бесформенностях; хаотичное дробление, камнепад. Но – обломы и складывались заново, перекладывались, беспорядок их промежуточных сочетаний обнажал исходный хаос художественных позывов, из которого рождалось барокко, одномоментно разбрасывая и собирая камни.
Нет, не приходилось сомневаться – не зря именно ему дядя незадолго до смерти попросил переслать свой дневник. Интуиция Илью Марковича не подвела, точно угадал с адресатом! Кто бы ещё взялся читать такое? А Соснин читал с нараставшим волнением, не мог оторваться. Да-а, позаботившись об адресате, дядя свою земную миссию завершил, спокойно мог умирать.
Звонил телефон.
снова Влади (с доверительной интонацией)
– Я от тебя не только обещанную «Справку» о правилах, лучше – законах – красоты, для убеждения комиссии и правосудия жду, это-то тебе – раз плюнуть, а не забыл приватную просьбу? Да, должок за тобою, Ил! Не в службу, в дружбу – раз, два, три, пионеры мы… Накатай конспектик главы о зодчестве убогих чухонцев. Помощники Хозяина в хвост и гриву гонят, и Салзанов туда же, ползучий гад, пролез в Смольный и – пресмыкается, жалит… вмиг перенял тамошние гнусные нравы, меня тоже вынудил на себя ишачить, для установочной к юбилею газетной статейки велел фактуру с цифровыми выкладками готовить, полночи я прокорпел. Да, «В гостях у северного соседа». Накатаешь к субботе? Не майся дурью, сосредоточься и – с чувством, толком, но – быстро. А о красоте пиши чётко, ясно, не вздумай напускать туману, дразнить гусей.
– Знаешь, что я уже не свидетель? Следователь прокуратуры меня вчера переквалифицировал в обвиняемого.
Пауза.
– Ну так как, знаешь?
– Не дрейфь, это юридическая рутина, не отвлекайся.
Скорлупа куполов, позвоночники колоколен.
Колоннады, раскинувшей члены, покой и нега… –
еле разбирая бледную машинопись, автоматически, краем глаза, читал Соснин.
привычка свыше
Да пусть он и собрал бы волю в кулак, расстарался, как мог, в усидчивости, сосредоточенности, всё равно вскоре засмотрелся бы на вспухавшее облако, открыл бы наугад тот ли, этот из десятка коричневых томов, которые, провоцируя, жались один к другому, и – провалился бы в долгие музыкальные лекции заики-Кречмара, истории болезней или объяснения влюблённого Ганса с Клавдией, рассматривал бы на просвет ещё пристальнее, чем Ганс, рентгеновский снимок её грудной клетки… его захватывала гулкая монотонность больших, ритмизованных самим временем книг.
А тут ещё почтовый подарок прошлого.
Рим, 29 марта 1914 года
Теперь – в палаццо Фарнезе, давно к нему подступался.
Вход – только по предварительной договорённости, я отправил письмо, дождался ответа-приглашения.
Рыцарский замок, облагороженный, перенесённый в город?
Соснин охотно взял романский след в планах ренессансных и раннебарочных дворцов, где, как в рыцарских замках, к парадным, сочившимся роскошью залам могли примыкать темницы.