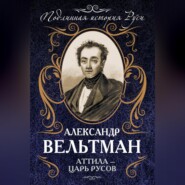По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Радой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты понимаешь меня, – продолжал Мемнон, – потому что ты любишь и любим!
Что было мне отвечать на его слова? Они сдавили мне сердце, и казалось, что вместо слез текла кровь из глаз моих… Я не мог и не хотел упрекать Мемнона за судьбу свою, не мог и смотреть на него, не в состоянии был выносить его взоров. «Безумен он, – думал я, – смеется он сам над своей судьбой или верх несчастия так же сладостен для человека, как верх счастия?»
– Неужели ты останешься здесь навсегда? – спросил я его.
– Куда ж мне ехать? Бежать от счастия? – отвечал он, смотря на меня с удивлением.
– У тебя есть родные, ты еще молод; ты обязан жить не для одного только себя, но и для других, принести какую-нибудь пользу людям…
– Я думал об этом, друг мой! – отвечал он. – У меня есть имение; я отдам все родным и бедным, мне ничего не нужно здесь…
Напрасно уговаривал я его возвратиться в свет, хотя слова мои и противоречили чувствам: я сам готов был бежать отовсюду, где живет мнимое земное счастие, отовсюду, где говорят о любви и надеждах, отовсюду, где люди могли бы спросить меня с участием: отчего ты мрачен? что тебе изменило на земле? Но я сравнил судьбу свою с судьбою Мемнона. Он имел право жаловаться на людей, а я на кого должен был роптать? Мне ни дружба, ни любовь не изменяли… Я все получил, чего желал… все, кроме сердца Елены!.. Оно не было в распоряжении людском… Елена ли виновата?.. О, обманутый самим собой, я погубил ее благо вместе с человеком, от которого оно зависело… Слова Вранковича: «над сердцем две воли – своя да Божья» – звучали над ухом, и серб, добрый серб, как вкопанный, стоял передо мною с стаканом в руках, повторяя: «Пий руйно вино, за здравье моей сестрицы! Была у меня сестра, да не стало!..»
– Ты счастлив! – повторял мне Мемнон. – Я рад, что ты обязан счастьем моей дружбе!
– Что это значит, Мемнон? – спросил я, когда ему подали вместо обеда хлеба и воды.
– Это моя обыкновенная пища, – отвечал он. – Я не чувствую потребности в другой, а потому и не употребляю.
– Не убийство ли это плоти?
– Нет! я отказываюсь только от наслаждений, которые она мне предлагает взамен духовных. Что мне в тучности и красоте ее, если я должен отдать все мои чувства и желания в рабство ее прихотям?.. Она, как хитрая жена, овладев волею своего мужа, расточит все богатство его с своими любимцами, лишит доброго имени, сведет с ума и погубит себя и мужа.
– Слаб тот муж, который из боязни, чтобы жена не овладела им, держит ее взаперти, на хлебе и на воде! – сказал я. – Мне кажется, согласия и взаимного довольствия должно добиваться в таком союзе.
– Друг мой, друг! – сказал Мемнон. – Она и он могут жить согласно, счастливо, роскошно, наслаждаться взаимно без греха, но… если он ослеплен и не видит уже ничего пред собою, не заставит ли любовь к нему и ее отказаться от всего?
– Бедный! не ты ослеплен, а она! – хотел я сказать, но в отдалении послышался звон колокола.
– К вечерне! – сказал Мемнон, вскочив с места, и, забывая о моем присутствии, он торопливо пошел.
– В монастырь, сударь, пошел! – сказал Никон, вздыхая.
Любопытство заставило меня идти вслед за Мемноном.
Монастырь был не далее версты от дома, в вершине лесистой лощины.
Я видел, как смиренно вошел Мемнон в церковь и стал у стенки. Сотворив несколько земных поклонов, не поднимая глаз, он поклонился на все стороны, хотя в храме почти никого еще не было. Монашенки пели на крылосах, и ряд их стоял у стены, против алтаря. Я замечал, куда обратит Мемнон взоры своя, но он был полон молитвы. Взоры его были поникнуты с какою-то боязнью взглянуть на все его окружающее.
Перед окончанием вечерни раздался колокольчик; сквозь толпы богомольцев-поселян прошли две монашенки, одна с кружкою, другая с серебряным блюдом.
Я смотрел, когда они приблизились к Мемнону, и, может быть, только я видел, как одна из них, поклонившись ему, приложила руку к груди и подняла взор к небу.
Надобно было видеть и ее и Мемнона, протянувшего руку к блюду, чтобы положить серебряную монету.
Она была полна красоты печальной. То был лик благочестия и смирения. Я смотрел на Мемнона, на нее, думал о судьбе еще трех существ и молился, не чувствуя, что слезы падали из глаз моих. Не в силах был я переносить долго положение Мемнона; на четвертый день я простился с ним.
– Торопись, – сказал он, – тебя ожидают объятия любви.
Я поехал. Слова Мемнона: «тебя ожидают объятия любви» – создавали в мыслях моих волшебные обители блаженства, посреди благоухающих рощей, на островах, обмываемых живыми струями серебряных вод. Чья-то жизнь посреди сих очарований полна была неги и взаимности. Вся природа, казалось, слушала, что шепчут друг другу два счастливых существа; поцелуй раздавался посреди благоговейного затишья, говора струй, шелеста листьев, песней птиц… Ах, Елена, Елена! все мои воздушные замки рушились… заглохла природа вокруг мрачных развалин… а эти развалины были мои надежды! Давно ли создавал я все это великолепие в мыслях своих? Если бы хоть память погибла о том, что тут было, если бы и она обросла плющом! Тут на коре пихты вырезано мое и ее имя вместе – они разрастаются нераздельно… На это имеет право только взаимность – срезать их!
Домой еду я – тороплюсь к жене… Как страшно это имя, когда нет при том мысли: «Она ждет меня! Сердце ее болит в разлуке со мною!»
IX
Вот открылась Москва в отдалении. Страшно было мне на нее смотреть!
Вот направо и налево шум – нет ни к чему внимания ни в душе, ни в чувствах!
Вот дом мой – толпа людей выбежала навстречу, провожает меня – нет ни к кому внимания ни в душе, ни в чувствах!
Я вбежал в свою комнату, сбросил с себя дорожное платье, сел, задумался; голова припала на руку…
– Что с тобою, мой друг? – раздалось подле меня.
То был тихий голос Елены; она припала ко мне на плечо и повторила вопрос свой.
– Здравствуй, Елена! – сказал я, боясь взглянуть на нее и не смея обнять ее.
Попечительно ухаживала Елена за мной. Она думала, что я болен, что меня разбила дорога.
«Как милы, радушны ее попечения! – думал я. – Если бы к участию жены придать участие любви! О, счастие мое было бы неземное! Но она не виновата: не меня избирала она для своего счастия!.. И она – страдалец на земле!»
Задумчив, молчалив стал я, не смел ласкать Елены, не смел называть ее своею – и моя ли она была? Имя мужа не дает права на чувства, и я не дерзал им пользоваться, не вынуждал не принадлежащего мне.
Мое обхождение невольно было почтительно с нею; я даже избегал быть вместе с Еленой.
Однажды случайно я вошел в ее комнату; она торопливо отерла слезы.
«Она плачет по нем! – подумал я. – Как свежо всегда воспоминание несчастной любви!»
Не желая нарушить ее горя… о! я испытал, как сладки минуты слез!., я хотел выйти.
– Друг мой, – сказала она, – сядь подле меня. Трепет пробежал по мне от слов, произнесенных с такой нежностью, какой никогда я не слыхивал.
Повинуясь Елене, я сел подле нее. Она взяла меня за руку.
– Ты совсем переменился с тех пор, как был у брата, – сказала она, приклоняясь к моему плечу.
– Нисколько, – отвечал я, не зная, что отвечать. – Нет! ты переменился, ты переменился ко мне… Ты меня не любишь! – продолжала она тихим голосом, смотря мне в глаза взорами, на которых навертывались слезы.
Какой страшный вопрос для того, кто любит! Я не знал, что говорить мне. Как было решиться сказать, что я знаю ее тайну? К чему ж ей любовь моя, если она любит другого? Неужели это притворство?
Я хотел скрыть от Елены и свое смущение, и ее собственную тайну.
Она снова взглянула на меня и, вскочив с места, принесла младенца – моего сына.
– За что ты так равнодушен к его матери? – произнесла она сквозь слезы.
Что было мне отвечать на его слова? Они сдавили мне сердце, и казалось, что вместо слез текла кровь из глаз моих… Я не мог и не хотел упрекать Мемнона за судьбу свою, не мог и смотреть на него, не в состоянии был выносить его взоров. «Безумен он, – думал я, – смеется он сам над своей судьбой или верх несчастия так же сладостен для человека, как верх счастия?»
– Неужели ты останешься здесь навсегда? – спросил я его.
– Куда ж мне ехать? Бежать от счастия? – отвечал он, смотря на меня с удивлением.
– У тебя есть родные, ты еще молод; ты обязан жить не для одного только себя, но и для других, принести какую-нибудь пользу людям…
– Я думал об этом, друг мой! – отвечал он. – У меня есть имение; я отдам все родным и бедным, мне ничего не нужно здесь…
Напрасно уговаривал я его возвратиться в свет, хотя слова мои и противоречили чувствам: я сам готов был бежать отовсюду, где живет мнимое земное счастие, отовсюду, где говорят о любви и надеждах, отовсюду, где люди могли бы спросить меня с участием: отчего ты мрачен? что тебе изменило на земле? Но я сравнил судьбу свою с судьбою Мемнона. Он имел право жаловаться на людей, а я на кого должен был роптать? Мне ни дружба, ни любовь не изменяли… Я все получил, чего желал… все, кроме сердца Елены!.. Оно не было в распоряжении людском… Елена ли виновата?.. О, обманутый самим собой, я погубил ее благо вместе с человеком, от которого оно зависело… Слова Вранковича: «над сердцем две воли – своя да Божья» – звучали над ухом, и серб, добрый серб, как вкопанный, стоял передо мною с стаканом в руках, повторяя: «Пий руйно вино, за здравье моей сестрицы! Была у меня сестра, да не стало!..»
– Ты счастлив! – повторял мне Мемнон. – Я рад, что ты обязан счастьем моей дружбе!
– Что это значит, Мемнон? – спросил я, когда ему подали вместо обеда хлеба и воды.
– Это моя обыкновенная пища, – отвечал он. – Я не чувствую потребности в другой, а потому и не употребляю.
– Не убийство ли это плоти?
– Нет! я отказываюсь только от наслаждений, которые она мне предлагает взамен духовных. Что мне в тучности и красоте ее, если я должен отдать все мои чувства и желания в рабство ее прихотям?.. Она, как хитрая жена, овладев волею своего мужа, расточит все богатство его с своими любимцами, лишит доброго имени, сведет с ума и погубит себя и мужа.
– Слаб тот муж, который из боязни, чтобы жена не овладела им, держит ее взаперти, на хлебе и на воде! – сказал я. – Мне кажется, согласия и взаимного довольствия должно добиваться в таком союзе.
– Друг мой, друг! – сказал Мемнон. – Она и он могут жить согласно, счастливо, роскошно, наслаждаться взаимно без греха, но… если он ослеплен и не видит уже ничего пред собою, не заставит ли любовь к нему и ее отказаться от всего?
– Бедный! не ты ослеплен, а она! – хотел я сказать, но в отдалении послышался звон колокола.
– К вечерне! – сказал Мемнон, вскочив с места, и, забывая о моем присутствии, он торопливо пошел.
– В монастырь, сударь, пошел! – сказал Никон, вздыхая.
Любопытство заставило меня идти вслед за Мемноном.
Монастырь был не далее версты от дома, в вершине лесистой лощины.
Я видел, как смиренно вошел Мемнон в церковь и стал у стенки. Сотворив несколько земных поклонов, не поднимая глаз, он поклонился на все стороны, хотя в храме почти никого еще не было. Монашенки пели на крылосах, и ряд их стоял у стены, против алтаря. Я замечал, куда обратит Мемнон взоры своя, но он был полон молитвы. Взоры его были поникнуты с какою-то боязнью взглянуть на все его окружающее.
Перед окончанием вечерни раздался колокольчик; сквозь толпы богомольцев-поселян прошли две монашенки, одна с кружкою, другая с серебряным блюдом.
Я смотрел, когда они приблизились к Мемнону, и, может быть, только я видел, как одна из них, поклонившись ему, приложила руку к груди и подняла взор к небу.
Надобно было видеть и ее и Мемнона, протянувшего руку к блюду, чтобы положить серебряную монету.
Она была полна красоты печальной. То был лик благочестия и смирения. Я смотрел на Мемнона, на нее, думал о судьбе еще трех существ и молился, не чувствуя, что слезы падали из глаз моих. Не в силах был я переносить долго положение Мемнона; на четвертый день я простился с ним.
– Торопись, – сказал он, – тебя ожидают объятия любви.
Я поехал. Слова Мемнона: «тебя ожидают объятия любви» – создавали в мыслях моих волшебные обители блаженства, посреди благоухающих рощей, на островах, обмываемых живыми струями серебряных вод. Чья-то жизнь посреди сих очарований полна была неги и взаимности. Вся природа, казалось, слушала, что шепчут друг другу два счастливых существа; поцелуй раздавался посреди благоговейного затишья, говора струй, шелеста листьев, песней птиц… Ах, Елена, Елена! все мои воздушные замки рушились… заглохла природа вокруг мрачных развалин… а эти развалины были мои надежды! Давно ли создавал я все это великолепие в мыслях своих? Если бы хоть память погибла о том, что тут было, если бы и она обросла плющом! Тут на коре пихты вырезано мое и ее имя вместе – они разрастаются нераздельно… На это имеет право только взаимность – срезать их!
Домой еду я – тороплюсь к жене… Как страшно это имя, когда нет при том мысли: «Она ждет меня! Сердце ее болит в разлуке со мною!»
IX
Вот открылась Москва в отдалении. Страшно было мне на нее смотреть!
Вот направо и налево шум – нет ни к чему внимания ни в душе, ни в чувствах!
Вот дом мой – толпа людей выбежала навстречу, провожает меня – нет ни к кому внимания ни в душе, ни в чувствах!
Я вбежал в свою комнату, сбросил с себя дорожное платье, сел, задумался; голова припала на руку…
– Что с тобою, мой друг? – раздалось подле меня.
То был тихий голос Елены; она припала ко мне на плечо и повторила вопрос свой.
– Здравствуй, Елена! – сказал я, боясь взглянуть на нее и не смея обнять ее.
Попечительно ухаживала Елена за мной. Она думала, что я болен, что меня разбила дорога.
«Как милы, радушны ее попечения! – думал я. – Если бы к участию жены придать участие любви! О, счастие мое было бы неземное! Но она не виновата: не меня избирала она для своего счастия!.. И она – страдалец на земле!»
Задумчив, молчалив стал я, не смел ласкать Елены, не смел называть ее своею – и моя ли она была? Имя мужа не дает права на чувства, и я не дерзал им пользоваться, не вынуждал не принадлежащего мне.
Мое обхождение невольно было почтительно с нею; я даже избегал быть вместе с Еленой.
Однажды случайно я вошел в ее комнату; она торопливо отерла слезы.
«Она плачет по нем! – подумал я. – Как свежо всегда воспоминание несчастной любви!»
Не желая нарушить ее горя… о! я испытал, как сладки минуты слез!., я хотел выйти.
– Друг мой, – сказала она, – сядь подле меня. Трепет пробежал по мне от слов, произнесенных с такой нежностью, какой никогда я не слыхивал.
Повинуясь Елене, я сел подле нее. Она взяла меня за руку.
– Ты совсем переменился с тех пор, как был у брата, – сказала она, приклоняясь к моему плечу.
– Нисколько, – отвечал я, не зная, что отвечать. – Нет! ты переменился, ты переменился ко мне… Ты меня не любишь! – продолжала она тихим голосом, смотря мне в глаза взорами, на которых навертывались слезы.
Какой страшный вопрос для того, кто любит! Я не знал, что говорить мне. Как было решиться сказать, что я знаю ее тайну? К чему ж ей любовь моя, если она любит другого? Неужели это притворство?
Я хотел скрыть от Елены и свое смущение, и ее собственную тайну.
Она снова взглянула на меня и, вскочив с места, принесла младенца – моего сына.
– За что ты так равнодушен к его матери? – произнесла она сквозь слезы.