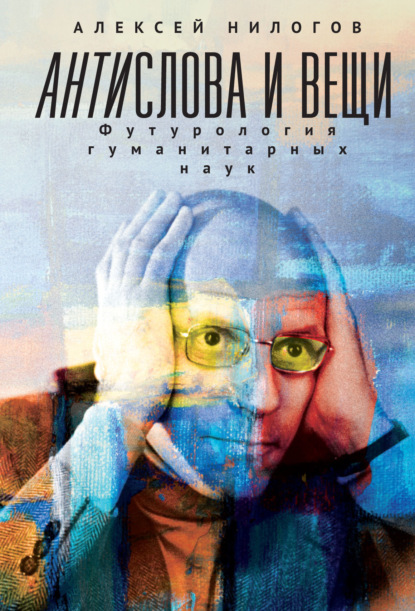По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Антислова и вещи. Футурология гуманитарных наук
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Глоссемиотика. Деррида неявно о глоссолалии (произнесение вслух беглой речи, лишённой первоначального смысла; «говорение на иных языках»; «пограничный феномен между внутренней и внешней речью» (Е. Паттисон)[45 - Ср.: Э.А. Саракаева: «По мнению Е.М. Паттисона, явления, схожие с глоссолалией, встречаются и в нехристианской, и в нерелигиозной среде и оказываются обычными "для экстатических эмоциональных переживаний, когда интенсивное высвобождение эмоций делает невозможным рациональную речь"» (Саракаева Э.А. Глоссолалия как психолингвистический феномен. 07.02.2003. Электронный журнал «Текстология.ру». URL: http://www.textology.ru/article.aspx? aId=104). С другой стороны, феномен глоссолалии может свидетельствовать о несовершенном владении языком для выражения внутреннего опыта.]) и зауми (заумном языке)[46 - Ср.: «Литературный приём, заключающийся в полном или частичном отказе от всех или некоторых элементов естественного языка и замещении их другими элементами или конструкциями, по аналогии осмысляемыми как языковые» (Википедия: Заумь, заумный язык. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Заумь).]: «Утверждение о «первенстве» или «первичности» означающего было бы неприемлемо, абсурдно и нелогично внутри той самой логики, которую оно законно стремится уничтожить. Означающее de jure не может предшествовать означаемому, но без такого предшествования оно перестает быть означающим, а означающее «означающего» лишается возможности иметь означаемое. Следовательно, мысль, которая провозглашается в этой невозможной формуле, не будучи в состоянии в ней уместиться, должна искать других средств самовыражения. И она несомненно сможет их найти, только если усомнится в самой идее знака как «знака чего–то», навсегда привязанного к тому, что подвергается здесь сомнению, если разрушит всю систему понятий, упорядоченных вокруг понятия знака (означающее и означаемое, выражение и содержание и т. д.)»[47 - Деррида Ж. О грамматологии. / Пер. с фр. и вступ. ст. Н.С. Автономовой. – М.: Ad Marginem, 2000. – 512 с. – С. 134.]; если «по утверждению харизматов и пятидесятников, частью учения которых является глоссолалия, глоссолалия (в смысле ксеноглоссии) является частью божественной воли для каждого христианина»[48 - Википедия: Глоссолалия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Глоссолалия.], то можно предположить, что феномен глоссолалии возникает вследствие стирания следов «изначального опоздания», свойственного естественному языку, во время канализации божественного языка через речевые органы человека; глоссолалия может выступать аффективным средством борьбы против лингвоцентризма человеческого сознания, возвращая его в доязыковое состояние мистериальной эмоции. А.Е. Кручёных: «Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален), и языком, не имеющим определённого значения (не застывшим), заумным» («Декларация заумного языка», 1921), – лингвологизмы. «Изначальное опоздание» при чревовещании (вентрологии[49 - Ср.: М.А. Тривас: «Техника вентрологии достигается перестройкой речевого аппарата в результате соответствующей тренировки гортани с голосовыми связками, зева, глотки и полости рта с языком и нёбом. Отсюда следует, что составное латино–греческое слово «вентрология» и его буквальный перевод «чревовещание» по сути дела ошибочны: артист вовсе не говорит «чревом» – животом. Ошибка эта уходит своими корнями в отдаленное прошлое человечества, когда вентрология не была еще одной из форм сценических выступлений. Тогда, по всеобщему суеверному убеждению, если человек владел «вторым голосом», это означало, что из его живота говорит дух умершего, способный предсказывать будущее» (Тривас М.А. Тайна чревовещания // Советская эстрада и цирк. – 1974. – № 1. – С. 20–21. – С. 20).]): самообман для внутренней речи? Ксеноглоссия[50 - Ср.: «Ксеноглоссия – феномен внезапно возникающей способности говорить па иностранных языках, в том числе давно исчезнувших или неизвестных ранее языках и наречиях древних цивилизаций. Обычно ксеноглоссия возникает в измененных состояниях сознания, в трансе, под гипнозом, под воздействием стрессов или травмы головы. После травм, ударов электрическим током возникшая ксеноглоссия может сохраняться всю последующую жизнь. Бывает ксеноглоссия при явлениях «раздвоения личности», «реинкарнационных» методиках, при «путешествиях» души в прошлое (или воспоминаниях о «прошлых жизнях»). Обычная наука не может пока объяснить феномен ксеноглоссии, хотя некоторые ученые считают, что это относится к явлениям «скрытой памяти», или криптомнесии. Якобы у человека есть память на генном уровне о жизнях нескольких поколений людей, которую гипнотизер или экстрасенс может вызвать из подсознания. Сюда же они относят и явления впечатлений (воспоминаний) о реинкарнациях в прошлых жизнях. (Ростов аномальный. URL: http://rostov–anomal.ru/ slovar/o – 270.html).] как метод языкознания: ксеноглоссия, связанная с говорением на «неизвестных ранее языках и наречиях древних цивилизаций», может быть признана антиязыковой, если её случаи остаются лингвистически не освидетельствованными (либо неизвестный язык не опознаётся как таковой, либо вовсе аффицируется в одиночестве; ксенологизмы[51 - Речитативная ксеноглоссия (спонтанное произношение без понимания смысла). Ответная ксеноглоссия (произношение с пониманием смысла чужого языка).]).
27
Внутреннее речение. Слова внутренней речи в отличие от слов внешней речи меньше подвержены «изначальному опозданию», поскольку экономят на активном артикулировании (во внутренней речи связь между означаемым и означающим настолько неразличима, насколько неартикулируема посредством активных органов речи: по – видимому, внутриречевые слова непригодны для телепатической коммуникации, будучи зависимыми от означающих, артикуляция которых полностью неустранима, служа водоразделом между вербальным и невербальным мышлениями). Акустика внутренней речи фиксируется электромиограчески, выявляя пассивный регистр работы активных речевых органов; таким образом, инстру – ментальность мышления, зависящая от работы речевых органов, является определяющей в понимании сознания: всё, что не подпадает под юрисдикцию внутренней речи, может быть вербализовано и воязыковлено для её нужд; автономное существование внутренней речи, для которой характерна экономия на «изначальном опоздании», приводит к тому, что внешняя речь оказывается избыточной, будучи перенасыщенной следами «изначального опоздания».
Вербальное мышление во внутренней речи не исключает «изначальное опоздание», а предполагает его в качестве обязательного, ставя под вопрос «изначального опоздания» невербальное мышление и в целом сознание: наличие отсрочки между смыслом и его выражением препятствует автоматическому различению бытия и сущего (в виде феноменологической языковой игры), отсылая к синхронизированному языку предустановленной гармонии, приметы которого могут иногда встречаться в естественном языке, поскольку невозможно гарантировать абсолютную дисгармонию между означаемым и означающим во всех контекстах словоупотребления, несмотря на то, что «изначальное опоздание» умеет работать вхолостую (например, для звукоподражательных слов[52 - Ср.: Н.Р. Добрушина: «В одном североафриканском языке есть специальное слово, обозначающее звук тишины: халь» (Добрушина Н.Р. Звукоподражание. Универсальная научно–популярная энциклопедия «Кругосвет». URL: http://www.krugosvet.ru/articles/66/1006654/1006654 a1.htm).]). Постулируя то, что «отсрочка от что–бытия как раз не позволяет задержать вопрос о бытии, делая онтологию излишней»[53 - Богатов М.А. Манифест онтологии. – М.: Скименъ, 2007. – 360 с. – С. 283.], выскажем презумпцию о небытии как сумме отсрочек и о модусе его небывания – бремени, чуждого «изначального опоздания». Неотсрочиваемое бытие, существующее избыточным вне времени, является тем идеалом, чья отсрочка невозможна, а потому тавтологична небытию в его обременительном (убыточном) присутствии. Приключения «изначального опоздания» сквозь онтологию и вопрос забвения бытия могут так и не увенчаться вопросом о забвении небытия, которое пребывает в утопии ex definitio: «изначальное опоздание» в отношении небытия преждевременно не потому, что не к чему опаздывать (в том числе в варианте «изначального опережения»), а потому, что невозможно выйти за пределы измерения скорости как таковой[54 - Ср.: Профессор Вемз (В.М. Запорожец): «Представляет интерес изучение канала телепатической связи – его энергетической базы и среды, в которой распространяются сигналы. Экспериментальное изучение этой среды может оказаться возможным уже в не очень отдалённом будущем, например, путём измерения временных задержек при телепатической связи на космических дистанциях. Если при этом будет выявлено существенное различие скоростей распространения психических и световых сигналов, это явится первым «физическим» подтверждением существования астральной среды и первым измерением её параметра. Могут быть намечены и более скромные цели научно–технического использования телепатии, например, как средства связи при космических исследованиях» (Профессор Вемз (Запорожец В.М.). Контуры мироздания. Тайна смерти: жизнь продолжается! – М.: Скорина, 1994. – 620 с. – С. 85–86).].
Критика интенционального разума может спровоцировать философию на естественную смерть, заключающуюся в достижении такого уровня дискурсии, благодаря которому смыслы не будут поспевать за средствами выражения, пребывающими в неизвлечённом режиме: синхронизация интенционального потока может быть простимулирована усовершенствованием человеческой перцепции – ускорением обработки информации на киборг–основе. С увеличением скорости присутствия в бытии виртуальная реальность покажется детской сказкой по сравнению с теми синхроническими возможностями, которые откроют перспективу со – бытия, то есть созерцание континуальности означаемого и означающего. Величина «изначального опоздания» при скорости света замедляется наравне с процессами мышления и речи, в то время как решением проблемы является синхронизация между адресантом и адресатом либо компромисс в виде разноскоростных режимов (например, при замедленном или ускоренном восприятии информации; с другой стороны, ускорение передачи информации с целью избежать «изначального опоздания» может стать глобальным экспериментом, посредством которого следы «изначального опоздания» передаются со скоростью, превышающей порог человеческого восприятия, результатом чего окажется техно-онтологический обман)[55 - См.: Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана / Пер. с фр. И. Окуневой. – М.: «Гнозис», «Прагматика культуры», 2002. – 192 с.].
28
Техноонтология. Экономия языка в затруднительные моменты мышления не может быть симулирована только плохим знанием натурального языка, поскольку невербальная информация рискует оказаться сверхскоростной разновидностью языка, не нуждающейся в материальном выражении как во внутренней, так и внешней речи[56 - Ср.: Н.И. Жинкин: «Однако, известно, что концепцию полного совпадения языка и мышления фактически осуществить не удалось. Наоборот, было показано, что структура суждения как единица мышления не совпадает со структурой предложения как единицей языка. Отрицательный ответ только усложняет проблему, так как остаётся в силе положение о том, что всякое средство должно соответствовать цели. Поиск соответствий между языком и мышлением продолжался. Получившийся вывод поучителен. В настоящее время почти единодушно признаётся, что интонация выполняет синтаксическую функцию. А так как предикат суждения маркируется в предложении при помощи интонации (логическое ударение), то интонация была признана тем дополнительным языковым средством, при помощи которого снова восстанавливается соответствие языка и мышления» (Жинкин Н.И. О кодовых переходах во внутренней речи // Вопросы языкознания. – 1964. – № 6. – С. 26–38. – С. 26).]. Чтобы устроить засаду «изначальному опозданию» накануне воязыковления, недостаточно вооружиться сверхчувствительной аппаратурой: задержка при воязыковлении объясняется временем на выбор адекватного средства выражения, поскольку новая мысль вынуждена пробегать старый комбинаторный набор, лишь изредка отваживаясь на неологизацию. Если полностью исключить неязыковое мышление из жизни человека, частью которого является невербальное мышление, то словотворчество не будет входить в противоречие с мышлением, став по преимуществу языковым, а не столько вербальным. Отождествление воображения до языкового гармонично вписывается в незамкнутый характер языковой системы, способной порождать бесконечное количество комбинаций, но языковое воображение может существенным образом сузить неязыковое воображение, проигнорировав всё невоязыковляемое, которое является референтной областью антиязыка. Несмотря на то, что П. Вирилио констатировал смерть географии и расцвет метагеофизики, техника сохраняет нейтралитет в отношении бытия, которое рискует стать частью техноонтологии, основанной на укрощении скорости и нейтрализации «изначального опоздания»[57 - Ср.: П. Вирилио: «Более проницательный, чем Фрэнсис Фукуяма, Даниэль Галеви предвидел, что технонаучный прогресс не завершит Историю, но уничтожит все возможные отсрочки и расстояния, и историческая наука вскоре откроется новому темпу, ритму, который однажды разгонится до «истины»: "Если более четверти века назад, после открытия Эйнштейном уравнений относительности, люди отказывались понимать физический мир, где они живут, то сегодня они отказываются понимать политическую систему, внутри которой проходит их жизнь"» (Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана / Пер. с фр. И. Окуневой. – М., 2002. – 192 с. – С. 93).].
Если технософия сменит философию, так и не разжаловав её в служанки, бытие подвергнется такой информационной инфляции, что различие между ним и сущим может навсегда исчезнуть: пока сохраняется феноменологическое различие между бытием и сущим, техника остаётся под телеологическим вопросом, ответ на который зависит от подчинения технонауки – техноантропологии. Мифология, существующая во имя отсрочки между означаемым и означающим, должна быть переинтерпретирована в пользу «изначального опережения» в качестве заместителя различания, забегающего за семиотический горизонт: Вселенной от момента Большого Взрыв (Big Bang) до схлопывания Большой Чёрной Дыры (Big Black Hole) свойственно именно «изначальное опережение», которое, будучи ограниченным скоростью света и бессмысленностью принципа дальнодействия, является самым аутентичным средством космической номинации (всё, что окружает нас в космосе, представляет собой ретроспективу, поименованную при помощи «изначального опережения», то есть в виде отсрочки означаемого от означающего, а референта от означаемого (при номинации того или иного референта, означающее не может опоздать к означаемому, а означаемое – к референту, поскольку условием для номинации является прошлое состояние референта, которое влечёт за собой сверхопоздание, если «онтологическая константность» референта не принимается в расчёт).
Невозможно опоздать к тому, что само по определению просрочено, иначе теряется смысл всякого опоздания: футурономинация – номинация, полагающаяся на будущее состояние референта, отвечает принципу «изначального опережения» (синхронизация по результату, но сверхопережение по процедуре, и опережение по результату и опережение по процедуре). Номинация в парадигме лингвистической футурохронии не ограничивается одним антисловным классом футурологизмов, а включает в себя перформативную номинацию (возникновение референта в акте именования), пассивную неологизацию (когда футурологизм (в терминологии Эпштейна) ожидает своего референта, сохраняя «изначальное опоздание» между означающим и означаемым) и футурономинацию, согласно которой имя референта изменяется в соответствии с будущим модусом референта, постоянно опережая как сам референт, так и его означаемое). «Изначальное опережение» при глоссолалии не нуждается в подстраховке со стороны «изначального опоздания», выражая манифестацию означающего над означаемым и его референтом (именование на опережение с целью избежать «изначальное опоздание» является эксклюзивной немотивированностью языкового знака[58 - Ср.: С.В. Воронин: «Языковой знак принципиально не–произволен; однако в «современной» синхронии он представляет собою двоякую сущность: он одновременно непроизволен и произволен. Причина такой двойственности нам видится в двойственности самого характера слова: оно с самого начала выступает в двух «ипостасях» – отражательной и коммуникативной. <…> в конкретном акте номинации выбирается некий признак объекта–денотата, полагаемый в основу номинации, – и в этом главном, определяющем, принципиальном моменте номинация не–произвольна, мотивированна; выбор же именно данного конкретного признака во многом случаен – и в этом более частном моменте номинация во многом произвольна, немотивированна» (Воронин С.В. Основы фоносемантики. – Л.: Издательство ЛГУ, 1982. – 244 с. – С. 30). Ср. также: фоносемантика – это область лингвистики, изучающая соотношение между значением слов и их произношением.], выбор которого зависит от существенного признака, полагаемого ad hoc в основу номинации. Конкретная процедура номинации может быть описана в соответствии с прецедентной номинацией, в то время как номинация вещей по признаку автонимности остаётся недостаточно деконструктивной: этимологическая номинация, претендующая на приоритет, признана антиязыковой, а потому неподвластной «изначальному опозданию». Если праформологизмы поименованы на основании своего существенного признака – функциональной реконструкции, то нет методологических оснований растождествлять их антисловные названия с их именами на языке бытия.
29
Цифровая номинация. На уровне математического язык бытия заменяет существенный признак наименования на универсальный код, свободный от конвенционализма (например, голографическая оцифровка); следовательно, всю онтологию присутствия/отсутствия, базирующуюся на принципе «изначального опоздания», можно смело сдать в архив, сосредоточившись на проблематизации «изначального опережения». «Изначальное опережение» – это оборотная сторона «изначального опоздания», характеризующаяся тем, что онтологический статус референта (а также означаемого) нельзя констатировать на присутствие/отсутствие для означающего: например, свет от самой далёкой звезды может идти до потенциального наблюдателя несколько десятков и сотен тысяч лет, финишируя в качестве следа уже не существующего источника[59 - Ср.: Е.В. Золотов: «Что означают слова «звезда умерла»? Свет, некогда излученный ею, продолжает мчаться миллионы и миллиарды лет. Только то, что пути массы звезды и энергии разошлись. Но где–то в пространстве и во времени излучённая звездой энергия вновь вступит во взаимодействие с веществом» (Золотов Е.В. Телепатия: рукопись учебника. М., 1967. URL: http://belsu.narod.ru/ telepat/telepat30.htm#).] (правда, излучатель-ной способностью звёзды наделены на миллиарды лет, поэтому, по–видимому, не существует звёзд, которые уже не светят, а свет их всё ещё идёт к нам[60 - Ср.: «В нашей Галактике более 100 млрд. звёзд. На фотографиях неба, полученных крупными телескопами, видно такое множество звёзд, что бессмысленно даже пытаться дать им всем имена или хотя бы сосчитать их. Около 0,01% всех звёзд Галактики занесено в каталоги. Таким образом, подавляющее большинство звёзд, наблюдаемых в крупные телескопы, пока не обозначено и не сосчитано» (Википедия: Звезда. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Звезда).]; с другой стороны, не одни звёзды могут являться источниками сигнала: при космической коммуникации сигнал может дойти до потенциального адресата тогда, когда аффицирующий источник уже не существует, а его номинация по принципу «изначального опоздания» будет тавтологична принципу «изначального опережения»). Оперируя именами вещей, поименованных из их прошлого, можно пренебречь «изначальным опережением», поскольку синхронизация настоящего на парсековых расстояниях неноминабельна; с иной стороны, несмотря на приоритет принципа близкодействия, принцип «изначального опоздания» обезоруживается перед размерами Вселенной, ничего не знача для неконъюнктурных нужд номинации при космической коммуникации;
(фальстартовая) передача артефактов «изначального опоздания» на космические дистанции накладывается на траекторию «изначального опережения», а на финише фиксируется как сверхопоздание, увеличенное самой дистанцией, которое может оказаться предопережением до получения нового сигнала. Манипулирование означающим в отсутствие или при неопределённости референта не сводится к тому, что означающему не к чему опаздывать, а потому нет смысла настаивать на «изначальном опоздании»; проблема заключается в том, что означающее предпосылается потенциальному отсутствию референта, выдавая его за присутствие, а в космических пределах (макромир) подменяя бытие и сущее – феноменологическим небытием.
В микромире «изначальное опережение» действует на уровне номинации элементарных частиц, существующих на грани экспериментальной (не)номинабельности. Принцип «изначального опережения» характеризует онтологию антиязыка как везде–сущую – вплоть до неденоминабельности (то, что невозможно лишить имени), благодаря которой вещи больше не нуждаются в статусе «в – себе», а доступны для аутентичного аффицирования (вызывание вещи по её автониму с помощью антиязыка означает такие артикуляцию и аудирование, при которой означающее как произносимо, но нерасслышываемо, так и непроизносимо, но расслышываемо). Если антислово нельзя произнести, чтобы расслышать, то его можно произносить, чтобы не расслышать. Восполнение «изначального опоздания» при слуховом восприятии до аутентичного аффицирования той или иной вещи представляет собой расширение аудиодиапазона до интенциональной настройки на интенционирование каждой конкретной вещи – например, на частоту соответствующего излучения. Если артикуляция является источником «изначального опоздания», накладываясь на десинхронизацию между языком и антиязыком, то становится очевидным, почему непонимание предопределено слуховым восприятием: даже во внутренней речи мы понимаем благодаря тому, что слышим себя, оставляя в неприкосновенности антисловный запас. Использование антиязыка вне аудиальной перцепции означает артикуляцию на общем фоне интенциональности, работающей или по инерции (например, при ментальном автоматизме), или вхолостую (например, при направленности сознания на прерывности между интенциональными актами, то есть на ничто).
30
Дефилософизация. Для того чтобы услышать антислово в его аутентичной артикуляции, необходимо говорить, не слыша самого себя в своём произношении, то есть прибегая к акустической редукции собственного модуса номинации, при которой слышимое выдаётся за неслышимое, облекаясь в форму «изначального опоздания». Для того чтобы произнести антислово на антиязыке, следует услышать его в акустике собственного класса, пребывая в состоянии темпоральной синхронизации с ним. Космическая коммуникация, основанная на «изначальном опоздании», использует «изначальное опережение» в качестве компенсации отсрочки между референтом и означаемым и означаемым и означающим: содержание сигнала может обладать свойством синхронизации с адресатом или опережения его. Верификация следов «изначального опоздания»: «"Изначальное опоздание" – это временное опоздание к онтологической сличённости бытующего к моменту до онтологического различия бытия и бытующего в мире. В этом смысле этот момент сугубо мыслительный, исторически такого времени не было и, как думается – поскольку всегда существует мир – исторически он нефиксируем» (Богатов)[61 - Богатов М.А., Нилогов А.С. Манифест онтологии (беседа А.С. Ни-логова с М.А. Богатовым) / Кто сегодня делает философию в России. Т. II / Автор–составитель А.С. Нилогов. – М.: Аграф, 2011. – 528 с. – С. 48 – 58. – С. 55.]. Остенсивно – автореферентативный пример герменевтического круга в определении: «тавтология – тавтология», – слово «существительное» само является именем существительным, представляя собой гомологическое слово, или гомоним (в отличие от гетерологического слова, или гетеронима)[62 - Отсюда хрестоматийный парадокс: слово «гетерологический» само является гетерологическим, а значит и гомологическим.], а также автореференцию, которая может быть присуща всем словам, в то время как свойство гомологичности лишь некоторым. Степень «изначального опоздания» снижена у перформативов[63 - Ср.: «ПЕРФОРМАТИВ (от ср.–лат. performo – действую) – высказывание, эквивалентное действию, поступку. Перформатив входит в контекст жизненных событий, создавая социальную, коммуникативную или межличностную ситуацию, влекущую за собой определённые последствия (например, объявления войны, декларации, присяги, извинения, административные и военные приказы и т. п.). Произнести «Я клянусь» значит связать себя клятвой. Соответствующее перформативу действие осуществляется самим речевым актом. Так, присяга невозможна без произнесения её текста. В этом смысле перформативы автореферентны: они указывают на ими самими выполняемое действие. В перформативе язык реализует функцию, близкую у магической (ритуальной), ср. такие акты, как присвоение объектам имён, провозглашение республики и т. п. Перформатив – одно из центральных понятий прагматики и теории высказывания» (Языкознание: Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. 2–е (репр.) изд. «Лингвистический энциклопедический словарь». – М.: Большая российская энциклопедия, 1998. – 682 с. – (Серия «Большие энциклопедические словари».) – С. 372–373).] – высказываний – действий/поступков, поскольку между референтом, означаемым и означающим отсутствует отставание, а рассинхронизованность сведена к статистической погрешности[64 - Ср.: Т.В. Черниговская: «Я недавно писала статью и наткнулась на работы, из которых следует: картирование мозга показывает: мозг принимает решение примерно за 30 секунд до того, как вы об этом узнаете. Как в этом контексте обстоит вопрос со свободой воли, например?» (Черниговская Т.В. Ум как джазовая импровизация (беседа М. Токаревой с Т.В. Черниговской) / Новая газета. – № 51. – 17.07.2008. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2008/07/17/37264–um–kak–dzhazovaya–improvizatsiya).]. Верифицируемость употреблением является для пер-форматива критерием истинности, правда, не в случае с перформативный парадоксом (например, «Я сейчас высказываю перформатив» или «Это перформативный парадокс»). Несмотря на то, что глаголы, обозначающие предосудительные коммуникативные цели, не допускают перформативного употребления (З. Вендлер), нормативистская лингвистика подлежит критике как с левых (либеральных), так и правых (консервативных) позиций, не брезгуя пейоративной коммуникативностью (например, «Я оскорбляю вас!», «Мы ненавидим их!», «Я нагло лгу вам!», «Мы хотим вашей смерти!» и т. п.), а, например, Дж. Росс вообще выдвинул так называемую перформативную гипотезу, согласно которой «в глубинной структуре любого повествовательного предложения содержится перформативная формула "Я говорю тебе, что …"»[65 - Языкознание: Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. 2–е (репр.) изд. «Лингвистический энциклопедический словарь». – М.: Большая российская энциклопедия, 1998. – 682 с. – (Серия «Большие энциклопедические словари».) – С. 373.].
Онтологические пределы номинации от микро– до макромира представляют собой деструкцию онтологического статуса модуса онтологического статуса, а именно: разграничение номинативных субординаций между номинабельными и неноминабельными уровнями – например, пределы номинабельности зависят от возможности ввести индивидуальные различия для микрочастиц[66 - Ср.: П.В. Полуян: «Наиболее интересна философская линия имяславия, выраженная в работах Павла Флоренского и продолженная в трудах Алексея Фёдоровича Лосева. Отметим, что в этой попытке главное – чётко сформулированная исследовательская цель: найти онтологические, бытийные (может быть даже физико–математические) основания для таких понятий, как слово, символ, имя. Иными словами, в мире должны иметь место процессы, адекватное понимание которых потребует от нас использования не только представлений об информации (соответствующие термины – язык, слово, алфавит, код, символ), но и такой – «чисто субъективной» – категории, как ИМЯ. Данная постановка вопроса не должна считаться надуманной, ведь даже физикам сейчас ясно, что индивидуализация вещей играет какую–то важную роль во Вселенной. Не случайно, например, в квантовой механике формулы статистики зависят от тождественности или нетождественности микрочастиц – от возможности ввести их индивидуальные различия» (Полуян П.В. Я – мыслю, следовательно – мысль существует / Литературно–философский журнал «Топос». 02.06.2008. URL: http://topos.ru/article/6308).]. Физикализация свойства (не)номинабельности может привести к дефилософизации.
31
Апофатическая семантика. Лосев о языке бытия: «А.Ф. Лосев в своей работе "Имяславие" отмечал, что в этом учении имеется научно–аналитический уровень – «который выражается прежде всего в определённом ряду математических конструкций». Неожиданно идея имяславия о том, что имя должно понимать не как присвоенное объекту обозначение, а как нечто онтологически данное, оказалась полезна при определении статуса так называемого нестандартного анализа» (Полуян)[67 - Там же.]. Весь философский потенциал может стать аффективным средством порабощения человека и сведения свободы воли к солипсистской виртуальной реальности, в которой каждый индивид будет погружён в глубокий самообман, подобно автогипнозу, стирающему границы по сю и по ту стороны онтологического статуса существования в соответствии с девизом: «Я буду защищать всех от своей экзистенции и сделаю всё возможное, чтобы защитить каждого от экзистенции другого».
Античеловеческий пафос философии не сводится к критике антропоцентризма в поле притяжения бинарной оппозиции, а тщеславен по отношению к автореферентности самой философии, чьим референтом всегда является прогресс в осознании свободы; если философия бессильна против утопии счастливого будущего человечества, по крайней мере в своей интелли – гибельности, то её уделом должна стать антиутопия, построенная на зле и отчуждении, истины которых атеистически не сокрыты; пропаганда смерти во всех её проявлениях – от мортализма до сатанизма – необходима для усиления экзистенциального запанибратства между людьми: homo mortem не нуждается в суицидальном оправдании, отчуждаясь в смерти аутентичней, чем в самоубийстве, фактичность которого не означает спасения от сострадания живущим. Подлинная бессмысленность человеческой жизни заключается в том, чтобы не осознавать онтологической бессмысленности, основанной на произволе семиотического знака: чем осознанней бессмысленность существования, тем бессмысленней несуществование, похищающее смысл даже у смерти. Если философия становится пристанищем риторических вопросов, ответы на которые тавтологичны, то как ей избежать риторических ответов, вопрошание о которых сверхтавтологично? Только расширяя возможности языка по номинации ранее не поддававшегося номинации, можно расширить горизонт самого неязыкового в соответствии с аналогией кругов Анаксимена[68 - Ср.: «Гуляя в тенистой роще, Анаксимен беседовал со своим учеником.– Скажи мне, – спросил юноша учителя, – почему тебя часто одолевают сомнения? Ты прожил долгую жизнь, у тебя богатый опыт, ты учился у великих эллинов. Как же так получилось, что столь многое тебе до сих пор неясно?Философ начертил посохом на земле два круга – маленький и большой.– Твои знания подобны маленькому кругу, мои – большому. Вне этих кругов – неизвестность. Чем шире круг познаний, тем с большей областью неизвестного он граничит. И чем больше человек узнает, тем больше вопросов у него появляется» (См.: Таранов П.С. Анатомия мудрости: 120 философов. В 2–х тт. Т. I. – Симферополь: Реноме, 1997. —624 с. – С. 68).]. Мистика дословности, как её понимает Гиренок, есть не что иное, как свойство антисловности, входящее в фундамент антиязыковости, одним из аспектов которой является проект грамматологии (Деррида). Являются ли особенности голосового и артикуляционного порядка показателем «изначального опоздания» для индивидуального языка, который вопреки Витгенштейну и его последователям, возможен не столько у аутиста, сколько у солипсиста?
Слуховое восприятие читаемого про себя: разговор аутиста наедине с самим собой. Проблематизация этимона как момента спайки означаемого и означающего при пуске нового слова, а также при выявлении природы идеи в ноэме (в трактовке Лосева) как такой «момент в слове, который бы исключал не только индивидуальную, но и всякую другую инаковость понимания и который бы говорил о полной адеквации понимания и понимаемого»[69 - Лосев А.Ф. Бытие – имя – космос / Сост. и ред. А.А. Тахо–Годи. – М.: Мысль, 1993. – 958 с. – С. 645.]. «Филосеф» А.Ф. Лосев для «изначального опоздания»: «b) То особое значение, которым обладает живое слово в живом звуке, подчиняет фонему себе, заставляя отдельные моменты её служить тем или другим своим собственным моментам. Семема наделяет фонему особыми значениями, уже не имеющими никакого отношения к фонеме как таковой. И вот получается в слове особый 7) этимологический, вернее, этимный момент, момент этимона, «корня», как это обычно говорится, слова. В этимоне мы имеем первоначальный зародыш слова уже как именно слова, а не просто звука. Что бы там ни говорили языковеды о корне слова, с логической точки зрения это – основной и центральный момент в слове. Это та элементарная звуковая группа, которая наделена уже определённым значением, выходящим за пределы звукового значения как такого. Этимон – начало и действительно «корень», если хотите. Но жизнь слова только тогда и совершается, когда этот этимон начинает варьировать в своих значениях, приобретая всё новые и новые как фонематические, так и семематические формы»[70 - Лосев А Ф. Философия имени / Самое само: Сочинения. – М., 1999. —1024 с. – С. 48–49.].
32
Фальфиниш. Слова, обозначающие слова, которые являются названиями эйдетимонов (в отличие от названий этимонов, то есть праформологизмов), то есть общих значений слов, in potentia содержащих в себе все возможные и мыслимые отдельные значения этих слов в разнообразные и, быть может, бесчисленные (в соответствии с принципом бесконечного варьирования значения слова), но по характеру своему всё же вполне определённые моменты времени и места (перифраза цитаты Лосева), – эйдетимонологизмы[71 - Ср.: лингвистический идеализм А.Ф. Лосева: «с) Тут же, однако, испытывается потребность завершить анализ символического единства семемы ещё одним пунктом, без которого анализ остался бы явно неполным. В первом символическом единстве семемы мы имеем «так–то и так–то» определённую и сформированную семему. Это «так–то и так–то», которые мы старались соблюсти, вводя многообразные различения, несомненно, предполагает некую высшую общность, без которой не было бы и этих «так–то и так–то». В самом деле, когда мы имеем какое–нибудь имя в дательном падеже, то это значит, что есть какая–то высшая форма этого имени, содержащая в себе in nuce
этот дательный падеж нашего имени. Когда дано известное синтетическое строение предложения, то каждое слово, входящее в это предложение, содержит в себе возможность вхождения во фразу в том виде, как это дано в данном случае. Некоторые имена могут быть употребляемы, например, только во множественном или только в единственном числе. Это значит, что каждое такое слово in potentia содержит в себе только некоторую, вполне определённую совокупность формальных вариаций и каждая данная вариация слова, характеризуемая всей индивидуальностью символической семемы в её единстве, указывает на эту высшую общность символической семемы, от которой зависят и которую предполагают все отдельные «так–то и так–то» семемы. Это – 12) полное и общее символическое единство семемы, или второе символическое единство слова. Первый симболон в семеме – индивидуальная картина значения слова в его данном, индивидуальном, временном и случайном положении среди других слов и в его данном в сию минуту положении и состоянии. Второй симболон в семеме – есть общее значение слова, in potentia содержащее в себе все возможные и мыслимые отдельные значения этого слова в разнообразные и, быть может, бесчисленные, но по характеру своему всё же вполне определённые моменты времени и места. Разумеется, второй симболон нельзя путать с моментом этимона в слове (7). На первый раз может показаться, что этимон как раз и есть то общее, что варьируется морфематически, синтагматически и пойематически – в разнообразные формы и виды. Надо, однако, помнить, что этимон есть нечто формально общее во всех судьбах данного слова. Этимон, взятый сам по себе, отнюдь не предрешает своей судьбы как момента в живом симболоне. Этимон есть абстракция, взятая из живого слова, и он общ всем формам данного слова именно как абстракция. Полный же симболон семемы (12) содержит в себе все возможные и мыслимые судьбы данного слова; это есть именно единство всех форм слова, данное, однако, in potentia. Каждое hie et nunc в судьбе слова есть именно поэтому hie et nunc одного и того же значения слова. Каждое hie et nunc значения слова, каждое «так–то и так–то» указывает, во–первых, на то, что возможны другие «так–то и так–то», а во–вторых, на то, что все эти «так–то и так–то» предполагают некое потенциальное единство их в общем и полном значении. Это и есть второй симболон» (Лосев А.Ф. Философия имени / Самое само: Сочинения. – М.: ЭКСМО–Пресс, 1999. – 1024 с. – С. 50–51).]. Редукция онтологии к математике (например, в случае Бадью) представляет собой очередную отчаянную попытку (особенно после Гуссерля) придать философии строгий научный характер, беря на саморазоружение слова Канта: «Во всех дисциплинах содержится лишь столько истинной науки, сколько в каждой из них имеется чистой математики», несмотря на то, что существует философия математики, или метаматематика, как раздел философии о сущности математического знания и о базовых принципах математических доказательств; редукция онтологии к естественному (анти)языку в качестве эксперимента над самим естественным (анти)языком, который оказывается соразмерным языку бытия, а одной из его разновидностей является трансцендентальная математика, свидетельствует о том, что с лингвистическим поворотом в философии закончено так же, как с аналитической традицией вмешательства в философию там, где меньше всего философического: смена основного тренда – философии языка – на философию антиязыка необходимо для того, чтобы апология метафизики не затянулась на время, для которого «вечное возвращение» оборачивается вечным цейтнотом, или бременем, а бытие отсрочено в небытие – по направлению к фальфинишу, обессмысливающему различание как дурную антилингвистическую бесконечность, поскольку за отсрочкой отсутствует Трансцендентальное Означаемое (развитие философии в духе антиизма – вопреки Эрику Фёгелину – становится частью общего плана по сворачиванию с языкового мейнстрима на новый тип движения, порывающий с привычной философской гравитацией; какой бы перформативной ни была смерть философии языка, за её носителями всегда остаётся право вырвать свой языковой орган, чтобы кастрировать двуликого посредника, сохранив чутьё к истине, которая безъязыка до права на несуществования; философия антиязыка ответственна не столько за смену самого способа философского телодвижения, сколько за воспитание антиязыкового инстинкта, заключающегося в ноуменологическом проекте, который скомпрометирован вместе с феноменологией – гуссерлианой.
33
Антиязык числа. Антиязыковая граница бытия означает такое положение вещей, согласно которому вещи не могут быть поименованы в соответствии с их аутентичным статусом, то есть на основании различительного признака, полагаемого в основу (аутентичной) номинации. То, что не может быть поименовано несобственным способом, представляет собой особый класс антислов (солипсизмологизмы), чем – то напоминающий индивидуальный язык в трактовке Витгенштейна или натуральный солипсический язык, недешифрабельный par excellence. Антиязыковая философия даёт пример философского (анти)языка, благодаря которому имя вещи не изменяет самой вещи, являясь не семиотическим знаком, а аффицирующим лейблом в виде антислова, которое называет вещь неконтекстуальным образом, то есть в режиме синхронизации с константой «изначального опоздания», равной отсутствию прерывности между интенциональными актами (другими словами, на период небытия–бремени (пространственно–временное соответствие)). Несмотря на то, что помимо классического принципа «изначального опоздания» существует сугубо интенциональное «изначальное опоздание», выражающееся в отсутствии прерывности (наличии непрерывности) между интенциями, то есть тем, что перечисляет интенциональные акты, не увязая в бесконечной делимости времени (по Сартру), последнее обстоятельство содержит в себе следы отсутствия прерывности (наличия непрерывности) между интенциями, подтверждаемое категорией дискретности интенций в потоке сознания, которые не образуют дыр в бытии именно потому, что компенсируются присутствием «изначального опоздания» как априорной формы номинации. Таким образом, принцип «изначального опоздания» указывает на то, что существование отсрочки между референтом и означаемым и означаемым и означающим конституирует язык бытия как семиотическую панацею. Наличие непрерывности между интенциями означает проблематизацию небытия в качестве антиязыковой номинации, а также присутствие дискретности в потоке непрерывности. Если интенциональный поток как непрерывность синхронизован с дискретностью референтов интенций, то закономерен вопрос о том, каков механизм дискретизации внутри континуальности сознания: вещи, поименованные вопреки принципу «изначального опоздания», являются солипсично–семиотическими, находящими своё единственное пристанище в антиязыке. Антиязыковое философствование призвано размышлению над вещами, названными своими именами (антисловами): не столько на основании аутентики, сколько посредством антиязыка – спонтанных автодескрипций). Слова, обозначающие слова, которые являются названиями референтов, чья номинация зависит от соответствующего контекста – наиболее благоприятного момента для номинации, который предопределяет судьбу референта, – контекстологизмы. Антиязыковая философия понимает вещь как номинацию от начала и до конца существования вещи, то есть в качестве (авто) номинации, синхронной постоянному изменению субстрата вещи. Если вещь не может быть лишена неноминабельности (в том числе невоантиязыковлённости), то она должна быть исключена из рассмотрения антиязыкового топоса в пользу его достаточного основания, находящего выражение в эзотерике числа.
Философский антиязык претендует на универсальный язык номинации вещей именами чисел, приминая во внимание риторическую теорию числа Шилова: если числовой ряд представляет собой самостоятельный язык, то имя числа эквивалентно антислову, фиксация которого может быть частичной или предельно отсутствующей внутри антиязыка (теория апофатических операторов). Если окажется, что имя числа как антислово недостаточно с точки зрения числового ряда вещи, то естественному антиязыку можно противопоставить антиязык числа – то, что, следуя трактовке Шилова, является цифровым пределом внутри числовой последовательности (нищета средств оцифровки), а также числовым пределом понимания самого числового ряда как языка природы. Антиязык числа – это средство выражения таких чисел, которые не могут быть оцифрованы с помощью естественного языка числа как языка числовой последовательности. Антиязык числа существует наряду с естественным антиязыком как система дескрипций для оцифровки антислов, но, с другой стороны, входит в состав естественного антиязыка на правах невоантиязыковляемых алгоритмов. Антиязык числа предназначен для дескрипции неочисляемого, в том числе в цифре, которое может быть скалькировано в антиязык в качестве числовой характеристики антислов (речь идёт о контекстуальном понимании числа подобно тому, как числовой ряд является аналогией лексикона естественного языка: античисла могут быть соотнесены с антисловами по соответствующим классам; например, античисла означают безвозвратно исчезнувшие числа, эксклюзивность которых не компенсируется комбинаторикой числового ряда). Если числом выражается тот или иной референт (язык математики как язык природы), то номинация невоязыковляемых референтов посредством естественного антиязыка предполагает синхронную актуализацию числового субстрата референта в виде античисла, субстратная корреляция которого с антисловом отнюдь не очевидна. Следовательно, антиязык числа является спутником естественного антиязыка, а в лучшем случае —его неотъемлемую формализацию для решения внутрианти языковых парадоксов.
Семиотическая интрига антиязыка числа состоит в том, исчерпывается ли естественный антиязык, или антиязык антислова, античислом или античисло способно отбросить антисловный горизонт до внеантиязыковых широт: контекстуальная трактовка числа, согласно которой значение числа есть его употребление (например, оцифровка), является калькой с контекстуальной гипотезы значения слова (Витгенштейн). Если числа подвержены исчезновению так же, как и слова, то числовой ряд всегда оказывается неполным, то есть копиеобразным (как известно, Платон наряду с миром идей постулировал мир чисел, бесконечность которых не дискретируется в числовой последовательности, доступной человеку), подводной частью которого является антиязык числа как максимум числового представительства, включая античисловую субстратность. Например, некоторые числа, существующие в потенции числового ряда, могут являться как антисловами, так и античислами, правда, пока номинируемыми посредством антиязыка: если за числовой ряд взять набор не только целых натуральных чисел, а мозаику числовой распределённости, то окажется, что многие члены такого числового ряда не охвачены презентацией в математике, а существуют в естественном антиязыке в пределах антисловности. Если инвариантность числового ряда не нуждается в учёте каждого элемента (бес)конечной последовательности, то контекстуальная теория числа может быть отброшена словно витгенштейновская лестница. Гамбургский счёт числа означает такую бухгалтерию эзотерического в математике, о которой в среде математиков известно крайне мало, но следы которой выдает изначальный математический платонизм: по Шилову, язык числа – это совокупность правил и исключений описания числового ряда с целью максимального приближения к его полноте, под которой понимается не формальная счётность, а символическая счисляемость, или риторичность.
Иными словами, язык числа – это набор алгоритмов для контекстуальной трактовки числовой последовательности, не ограниченной бесконечностью, но соблюдающей аутентичность каждого элемента, именуемого (анти)числом. Если числовой ряд исчерпаем с точки зрения оцифровки в математике, то с точки зрения естественного антиязыка он может дать фору самой искушённой (риторической) дефиниции числа, упускающей из виду то, что онтологический статус числа фундирован именем. Именем античисла может быть как антислово, так и нечто, подлежащее воантиязыковлению: если античисло не находит адекватного имени в антиязыке, оно оказывается (бес) пределом для антиязыковой материи, онтологический смысл которой сводится к семиотической панацее, или панноминации. Математическая оцифровка чисел в степени, приближающей к (бес)конечности числового ряда, представляет угрозу не только для антиязыка числа, но и для естественного антиязыка, беря на вооружение категорию невоантиязыковляемости: например, существование того или иного (бес)конечно большого числа может оказаться нериторическим для самого антиязыка числа, а для естественного антиязыка – соответствовать признаку неденоминабельности, согласно которому античисло, нецифрабельное ни в одной системе семиотических координат, невозможно лишить (оператора) имени.
Тщета антиязыковой материи перед тем, что всегда существует как слово, не обладая отсрочками ни в происхождение, ни в исчезновение, говорит о том, что, возможно, существует такое антислово, к которому восходит весь антиязык, но которое доминанатней, чем само невоантиязыковляемое: бесконечный числовой ряд как гипостазированная конструкция, не референтная реальной числовой последовательности, свидетельствует о том, что математический идеализм представляет собой метод фальсификации для (анти)языковой комбинаторики, пытающейся догнать и перегнать следы числового различания. Экстраполяция категории diffеrance на числовую последовательность в качестве следов числовых значений, которые ускользают от константной дискретности набора в дурную числовую бесконечность, может оказаться весьма продуктивной для деконструкции конвенциональной математики в пользу риторической математики. Деконструкция математической материи означает выявление, с одной стороны, подлинного языка числа, в чём – то подобного естественному языку, а с другой – обнаружение в процессе чтения числового текста ложных оцифровок, выражающих цифрой то, что кодируется числовым паллиативом. Антиязык числа рассматривает не столько недочисловое, сколько дочисловое/доцифровое как пребывающее в операторе имени, но не характеризующееся антисловностью: если доантисловное наполняет содержанием категорию антиязыковой неденоминабельности (невозможность лишить референт его антислова), то доантичисловое определяет категорию антиязыковой неденумеризации как невозможность лишить референт его античисла, то есть оператора имени дочислового. Дочисловое – это то, что предшествует антисловному как не подлежащее оцифровке.
34
Соль солипсизма. Проблема свободы мысли упирается в уголовное преследование философской антропологии, за рамками которой «человеческое, слишком человеческое» всегда со знаком плюс, а антропоцентризм – со знаком равенства: то, что человек утаивает от способности выражения, выдаёт в нём недоверие к самому себе, в то время как забота о себе является ремесленным подспорьем для нужд дегуманизации, эмансипация от которой составляет последний бастион неотчуждаемого. Безответственность мышления – вопрошание из вопрошаний, чья юрисдикция противоречит уголовному праву, представляя собой плод негативного воображения, необходимого для упреждения стереотипов будущего. Если мысль, облечённая в форму молчания, не может быть подведена под уголовное законодательство, то такая мысль должна стать фактом естественной толерантности, а критика толерантного разума – фактом коммуникативного экстремизма, выражающегося в забвении всех коннотаций.
Поиск универсального антиязыка, заботящегося обо всём невоязыковляемом, могут привести к вавилонской башне из слоновой кости, при строительстве которой Бог будет потерян в том, что склонно к номинации: язык числа, претендующий на универсальную семиотику, бессмысленен в отношении отсутствующих референтов чисел – например, при дескрипции небытия. Чистая числовая референциация взамен субстратному вещизму приведёт к тому, что числовые эйдосы будут номинированы исключительно именами нечисловых эйдосов: если язык числа является формальной семиотикой внутри естественного языка, для которого невоязыковляемое расточительно по сю сторону антиязыка, то ничего, кроме вторичной номинации чисел словами, не удастся конституировать в качестве того языка универсалий, спор о которых смог породить лишь концептуалистов, номиналистов и реалистов. Риторическая теория числа (Шилов) настаивает на том, чтобы переинтерпретировать логический атомизм в логический нумеризм, когда вместо коровы, состоящей из нагромождения атомов, получить корову, оцифрованную посредством набора чисел в виде дигитального матричного потока: проблематизация внутренней формы числа по аналогии с внутренней формой слова означает, что аутентичный язык той или иной вещи может быть скоррелирован с аутентичным числовым языком, знание которого окажется оцифрованной сутью такой вещи, то есть кодом для нумерической дешифровки её потенциальных числовых состояний. Опись того, что приговорено к номинации, представляет структуру естественного антиязыка, несмотря на то, что некоторые деривационные приёмы обосновались в естественном языке; то, что безразлично к номинации, нуждается в числовой критике, заключающейся в вероятностной теории номинации. Если язык бытия эллиптичен языку числа, то возникает предустановленная дисгармония между словом и числом на уровне онтологической комплементарности, зависимой не столько от бытия, сколько от небытия, оцифровка которого равна нулю.
Бытие числа – это вопрос о том, является ли число эквивалентом слова, чтобы именовать там, где слову отказано в бытии: оцифровка слов представляет собой такую числовую номинацию, при которой получаемое число синхронно по контексту, то есть схвачено в своём неэйдетическом значении; другими словами, оцифровка слова – это процесс номинативного квантования, а также нумерической фиксации контекстуального субстрата референта: «Если под оцифровкой имеется в виду калькуляция физических параметров вещи, то каков механизм оцифровки эйдоса вещи, суммирование которых образует язык бытия, но не его лексикон?» Очисление слова на основании его контекстуального значения полагает слово в качестве референта, который подлежит выражению в числовом образе наравне с другими вещами: перевод с языка слова на язык числа означает не кальку с бинарной системы оцифровки, а представление слова в виде числовой корреляции с актом мысли, субстратом которой могут выступать интенциональные параметры мозговой активности, исчисляемые на квантовом уровне. Оцифровка мозговых элементалий, с помощью которых передаются сигналы, не решит проблему эксклюзивности ментальных состояний, несмотря на принцип «вечного возвращения», но позволит выразить поток контекстуальности в виде дискретности числовых интенциональных актов.
35
Воля к номинации. Антиязыковой характер ментальных состояний означает такой способ номинации, при котором различие между вещью и её именем тождественно самому себе, то есть не предполагает никакой внутренней формы слова. Антиязыковая философия манифестирует собой тот ономасиологический поворот, который способен возвратить человеку ноуменологический горизонт, затуманенный феноменологической схоластикой трансцендентальной философии: вербальный атомизм не является ответом на ноуменологическое вопрошание, а провоцирует к проблематике выражения нерелевантных естественному языку вещей, бытование которых инспирировано в стихию языка бытия. Прежде антиязыка ничто не существует: ничто ютится в антиязыке с момента своего довоантиязыковления; антиязыковое преследование вещей в иерархии их онтологических статусов означает такую онтологическую дискриминацию, посредством которой бытие вечно возвращается неразличённым, то есть тавтологичным в своей отвлечённости от сущего (патологическое различение представляет собой растождествление вещи на неденоминабельный и нецифрабельный модусы существования, помещая её в ноуменологический вакуум, где происходит несущее ничтожение, соответствующее сущему небытия: бессмысленность дискурсирует бессмысленным способом, а именно: по ту сторону парадоксального мышления, скрывающего под хамелеоновской маской свалку дешёвых банальностей и иррациональностей). Бессмысленность пронизывает сущее в поисках бытия, натыкаясь на ловушки здравого смысла и народной толерантности:
контрабандное привнесение смысла туда, где сущее обременено самим собой, будучи подвергнутым самозабвению, является насущной заботой бытия для апологии собственного немотствования; бытие бессмысленно в том смысле, в каком сущее осмысленно в лоне абсурда, то есть спонтанным образом, не взыскующим к хаосу: бессмысленность бытия вопреки бессмысленности сущего, предвзятого в своём неподлинном напластовании, или неподлинствовании, свидетельствует о том, что истоком бессмысленности выступает перформативная парадоксальность онтологического различения (diffеrance) (бытие и сущее могут быть растождествлены только в перформативно – парадоксальном потоке различения, не имеющего ни начала, ни конца). Антиязык антиязычествует таким образом, чтобы различаться с язычеством языка, выражающимся в самоочевидности модуса существования «есть», несмотря на причинение «есть» (например, Злокозненным Демоном), которое паразитирует на настоящности (сейчасности) непосредственного бытования; для того чтобы развести модус «есть» и модус «сейчас», необходимо доказать, насколько человеку– кукле присущ не столько субъективный опыт, сколько солипсическая мотивация, допускающая подлинное бытие в границах внешней манипуляции, следствием чего является различение аутентичного существования между бытованием в настоящем и наличием в презумпции кукловодства.
Комплекс кукловодства заканчивается там, где невозможно не существовать неаутентичным способом, то есть отсутствовать до всякого различения (антиязыковое философствование означает отказ от ностальгической подлинности, заключающейся в трансцендировании в пространственных координатах вместо темпоральных в форме забвения: созерцание вещи в её неаутентичном бытовании показывает, что имя вещи может не зависеть от принципа «изначального опоздания», присущего интенциональному сознанию, а являться её единственной меткой, релевантной зову бытия – воле к номинации). Влечение к именованию – это потребность быть поименованным в аутентичном соответствии, а также желание именовать в аутентичном соответствии, приводящее к номинативным парадоксам и противоречиям (называние вещи чужим именем означает вызывание к бытию химер, за которые ошибочно выдают симулякры, служащие буфером между виртуальным и сверхвиртуальным); химеры бытийствуют прозрачным модусом, устанавливая исключения для языковых игр (например, в виде беспочвенности деноминации). Химеры номинации сопровождают экзистенциальный горизонт до того времени, когда не исчерпают волю к именованию, искушая подлинное веществование формализмом деноминации: переименование вещи симпатизирует не вспять – этимологии, а впредь – этимологии, имеющей дело с последним именем вещи накануне её последней деноминации, то есть в результате стирания всех следов сингулярного веществования; переименование вещи состоит не столько в смене субстрата, сколько субстанции, а именно – в небытийственном способе непоименования; неозначенное под эгидой антиязыка пребывает в состоянии определённости перед относительной перспективой быть поименованным несобственным образом (например, по лекалу «изначального опоздания»).
36
Бытие – поименованным. Это состояние вещи, которая может быть аутентично деноминирована, то есть возвращена в лоно, где она бессильна к номинации. Если вещь не может быть поименована при посредничестве антиязыка, исключая случаи невоантиязыковлённости, то она обладает бытием – разыменованным – состоянием, в котором деноминация предшествует номинации, отчуждая «изначальное опоздание» за счёт «изначального опережения»; первичная номинация, следующая за первичной деноминацией, означает то, что основой номинации является тот признак вещи, который не поддаётся деноминации или является последним в алгоритме её разыменования (исток?). Неаутентичная деноминация – это деноминация по принципу немотивированного разыменования, приводящая к частичной потере вещью своего имени, остатки которого рискуют стать материалом для других (де)номинаций. То, что не может быть поименовано, пребывает не столько в неаутентичном состоянии, сколько в неразличении аутентичного и неаутентичного состояний, которое безответственно перед зовом бытия (язык бытия вовсе не предполагает языка истины, искажаемой на естественном языке, а обладает презумпцией нетранспарентности между планом содержания и планом выражения, отвечая отнюдь не предустановленной гармонии: если удастся доказать существование принципа «изначального опоздания» для языка бытия, то с небытием истины придётся побременить (язык бытия представляет собой не семиотический эйдетикон, а резонатор референциальной отзывчивости для аутентичной номинации); принцип «изначального опоздания» на языке бытия означает разрыв не между планом содержания и планом выражения, а между планом отсутствия содержания и планом отсутствия выражения, то есть между отсутствуемым и отсутствующим (предикатор существования/несуществования: «Может ли иллюзия поставить под вопрос Злокозненного Демона, размышляя о степени собственной иллюзорности?»)); «Поэтому основной характер сущего есть ?????, что означает не цель и не надобность, а конец. «Конец» ни в коем случае не подразумевает здесь отрицательного смысла, как будто после него уже ничего больше не будет, всё прекратится и застопорится. Конец есть окончание в смысле завершения. Граница и конец суть то, при помощи чего сущее начинает быть. В этой связи надлежит понимать и высшее наименование, которое Аристотель применяет для бытия, ?????????? (диакрит. зн.), удержание (сохранение) – себя – в – окончании (границе)» (Хайдеггер)[72 - Хайдеггер М. Введение в метафизику / Пер. с нем. Н.О. Гучинской. – СПб., 1998. – 304 с. – С. 140–141.]. Не вербальное, но инаково – семиотическое, мышление нуждается в такой апологии соприсутствия с ложью, благодаря которой невозможно будет смешивать истину и неистину, суммируя парадоксальные дивиденды антропоцентризма сродни следующему определению человека: чтобы быть самим собой, человек должен постоянно преодолевать себя, ставя под вопрос аутентичность в поиске идентичности, то есть отказываясь от себя в ущерб себя и переформулируя основной вопрос солипсизма: «Как доказать другому человеку не то, что он обладает сознанием, а то, что оно самостоятельно?» (иными словами: «Как добиться у того, кто не умеет мыслить, понимания того, что он не умеет мыслить»? [73 - Ср.: Р. Штейнер: «Большинство людей не имеет никаких мыслей! И то, что большинство людей не имеет никаких мыслей, обыкновенно не продумывается с достаточной основательностью по той простой причине, что для этого требуются именно мысли!.. Вместо мыслей люди могут довольствоваться словами. Наибольшая часть того, что в повседневной жизни называется мышлением, протекает в словах. Думают словами. Гораздо больше, чем это можно себе представить, думают словами. И многие люди, желающие получить объяснение того или иного обстоятельства, довольствуются тем, что им говорят какое–нибудь слово, которое является для них знакомым звуком, напоминающим им то или другое; тогда они принимают за объяснение то ощущение, которое они испытывают при этом слове, и полагают, что у них есть мысль» (Stelner R. Der menschliche und der kosmische Gedanke. – Dornach, 1961. – S. 10–11).] ). И кстати, первоначальный вариант фразы Щербы про глокую куздру (со слов И.Л. Андроникова): «Кудматая бокра штеко будланула тукастенького бокрёночка».
37
Основной парадокс философии. Если граница между разумом и неразумием определяется антипсихиатрической мерой, то чем рискует культура, вступив в спор с безумием? Бессмыслица не предшествует смыслу, а фундирует его в дистинкции между свободой мысли и свободой слова, после чего в права вступает уголовное законодательство, отчуждающее мышление в нищету мыследеятельности: там, где уголовная юрисдикция бессильна, свобода мысли считается подлинно легитимной. Право на свободу мысли и ложных референций (но никак не ложных интенций): «Каково достаточное основание для существования манипулируемого Злокозненным Демоном?» (Ко – Лейбниц). Дискриминация в отношении свободы мысли отвечает на онтологическое основание права как границе между бытием и мышлением, перевёрстывая основной вопрос философии в основной парадокс философии: «Каковы философские основания для запрета свободы мысли?» Свобода мышления угнетает там, где не существует различия между свободой именования и свободой действия, в противном случае свобода мышления может быть ограничена законодательством: «Имеет ли феноменология приоритет, фундирующий правовую гарантию мышления?» Свобода мысли в назидание свободе слова отстаивает такое представление о человеке, благодаря которому человек остаётся свободным, то есть открытым для новых форм отчуждения своей сущности[74 - Ср.: Д. Эрибон: «Базируясь на данных 1972 года, Мишель Фуко и его друзья пытаются показать, как отчаянный всплеск коллективных акций сменился самой драматической формой индивидуального протеста. Авторы приводят множество конкретных примеров, однако наибольшее впечатление производят письма, написанные осенью 1972 года, незадолго до самоубийства, неким человеком, чьё имя скрыто за инициалами «Н. М.». Ему тридцать два года. В тюрьме он провёл пятнадцать лет. Как гомосексуалиста его подвергли изоляции, поместив в карцер, и он повесился. Письма, написанные им, когда он находился под воздействием снотворного, поразительные, берущие за душу, снабжены небольшим неподписанным комментарием – правило анонимности, видимо, вытекало из стремления говорить от лица ГИТ. Но этот комментарий был написан самим Фуко, на которого письма оказали сильное впечатление. Он считает, что столкнулся со своего рода идеальным случаем, когда душевные и интеллектуальные порывы "с большой точностью передают то, о чём думает заключённый. А это вовсе не то, о чём, по нашим представлениям, он должен думать"» (Дидье Э. Мишель Фуко / Пер. с фр. Е.Э. Бабаевой; науч. ред. и предисл. С.Л. Фокина. –М.: Молодая гвардия, 2008. – 378 с. – (Серия «Жизнь замечательных людей».) – С. 250).]. Мышление par excellence – ошибка в дефиниции, предполагающая нормирование того, что свободно по определению, а потому бессмысленно в ущемлении девиантного права[75 - Ср.: Д. Эрибон: «Для Фуко суд – это воспроизведение буржуазной идеологии: «Суд подразумевает также, что существуют категории, общие для всех (например, относящиеся к уголовному праву – кража, мошенничество, или нравственного порядка – честность, нечестность), и что все готовы с ними считаться. Эти идеи являются оружием, при помощи которого буржуазия осуществляет свою власть. Поэтому идея суда народа меня смущает, особенно если интеллектуалам предлагается играть роль прокуроров или судий. Ведь именно при посредничестве интеллектуалов буржуазия расцвела и создала сюжеты, о которых мы говорим» (Там же. С. 270).] (например, права на запрет свободного мышления: «Мотив, двигавший мной, очень прост. Надеюсь, для многих он послужит достаточным оправданием. Это любознательность – во всяком случае, тот единственный вид любознательности, который заслуживает того, чтобы его проявлять с некоторым упорством: речь идёт о любознательности, позволяющей отделиться от себя, а не о той, которая присваивает себе полученное знание. Чего бы стоила пытливость, если бы она обеспечивала лишь присвоение знания, а не избавление от того, кто знает, – в той степени, в какой это возможно? Есть такие моменты в жизни, когда постановка вопроса о том, можно ли думать и воспринимать не так, как принято думать и видеть, необходима, чтобы продолжать смотреть и размышлять. <…> Разве философия – я хочу сказать работа философа – не является критическим осмыслением себя? И разве она не состоит в том, чтобы не осенять легитимностью то, что уже известно, а попытаться узнать, как и в каких пределах можно думать по – другому» (Фуко[76 - Там же. С. 367.])).
Несвобода мышления, установленная законодательным порядком, небессмысленна в том последствии, которое не различает между рабством от мысли и рабством для мысли. Свобода мысли не допускает ложной интенциональности, которой, в отличие от ложной референциальности, свойственна феноменологическая индукция: «Я утверждаю, что знание в своей внутренней форме и сущности есть бытие свободы» (Фихте)[77 - Фихте И.Г. Сочинения в 2–х томах. Т. II / Сост. и примечания В. Волжского. – СПб.: Мифрил, 1993. – 798 с. – С. 629.]. Подытог от М. Фуко: «Благодаря каким играм истины человек начинает мыслить о себе: если он признаётся безумным, если он смотрит на себя как на больного, если он воспринимает себя как живое, говорящее и работающее существо, если он судит себя и наказывает себя как преступника?»[78 - Дидье Э. Мишель Фуко / Пер. с фр. Е.Э. Бабаевой; науч. ред. и предисл. С.Л. Фокина. – М.: Молодая гвардия, 2008. – 378 с. – (Серия «Жизнь замечательных людей».) – С. 359.]
38
Девиантное право. Девиантное, а также перверсивное, мышление не противоречит праву, будучи фундированным за его пределами – в плоскости антиязыка: то, что преступно с точки зрения философии права, является прецедентом такого мышления, которое амнистирует неправовое перед эгидой правового, предвзятого в индетерминизме не столько легитимности, сколько лояльности (несвобода мышления в меньшей степени подвержена мыслецентризму, экономя на когитальных дивидендах, чтобы растратить в рабстве зависимость от интенциональной ангажированности, направляющей «сознание о/ об…» на приступ автореферентности. Мыслецентризм, провоцирующий словоцентризм, ущемляет в правах те способы воязыковления, которые становятся наивной наживой интенциональной когитальности: если дословное не облечено в мыслеформу, то оно может быть освидетельствовано посредством антиязыка, чтобы впоследствии раз – воплотиться в языке из – за отсутствия бессмысленности. Если досмысловое существует в антиязыковой материи – в прорицаемой антисловности, то оно может быть выражено с помощью языка в обход формомысли: воязыковление досмыслового, минуя мыслецентризм, является самой отчаянной утопией, на которую отваживалась философия (анти)языка, начиная с антиязыковых времён. То, что воязыковляется в ущерб аутентичному явлению, не перечит языку в целом, поскольку обречено на антиязыковую панацею, прежде чем быть неспособной к воантиязыковлению. Таким образом, языковое присутствие мысли безответственно к дословному, которое наравне с досмысловым мотивированы естественным антиязыком. Если свобода мышления дарует право на самоопределение тому, что вынуждено рядиться в мыслеформу, то ради этого не жалко отказаться от антиязыковой опеки, манипулирующей на непрозрачности между дословным и досмысловым (апология мысли от логоцентризма, а дословного – от мыслецентризма является страхованием от антиязыкового монополизма на истину, во имя которой можно пожертвовать даже свободой мышления). Свобода мышления для свободы мышления необходима для того, чтобы не опасаться за тот фундаментализм мысли, который служит основанием положительной дискриминации, маскирующей под себя отрицательную дискриминацию (например, толерантное отношение к гомофобии в качестве компенсации за терпимость к гомосексуальности, по сравнению с которой толерантное отношение к антисемитизму предстаёт однозначной отрицательной дискриминацией, требующей законодательной толерантности к семитизму; толерантное отношение к антисемиту гомосексуальной ориентации представляет собой компромисс между положительной дискриминацией и отрицательной дискриминацией, претендующими на голословность истины); к слову: толерантное отношение к гомофобии является примером девиантного права, граничащего с девиантной справедливостью (толерантное отношение к толерантности – это апофеоз девиантного права, сигнализирующий о том, что критика толерантного разума должна быть основана на тождествовании дискриминации и недискриминации путём игнорирования нейтральных терминов, то есть полагаясь не на свободу мысли, а на свободу воли). Эмансипация положительной дискриминации в духе критики гетеросексуального разума отвечает сверхзадаче вторичной отрицательной дискриминации тех, против которых комплементарно вопрошает положительная дискриминация[79 - См.: Кон И.С. Человеческие сексуальности на рубеже XXI века / Кто сегодня делает философию в России. Т. II / Автор–составитель А.С. Ни-логов. – М.: Аграф, 2011. – 528 с. – С. 339–354. См. также: Кон И.С., Ни-логов А.С. Я не знаю, что такое «половые извращения» (беседа А.С. Ни-логова с И.С. Коном) / Российский сервер геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов. URL: http://www.xgay.ru/science/kon/interview/kon_ nilogov_2007.html.]. Если нетерпимое безразличие к противоположной стороне не нуждается в своей легитимации, а только в лояльности, то следует признать нейтрализацию нетолерантности тем компромиссным решением, которое не различает между свободой мысли и свободой воли. Право на нетолерантность – это разновидность не столько девиантного права, сколько девиантной справедливости, определяемой отнюдь не политкорректно, а посредством бессознательной мотивации, когерентной юридическому бессознательному. Язык политкорректности («политкошерности»?) представляет собой антиязыковой феномен, препятствующий воязыковлению того, что взывает из утробы неполиткорректности, находя выражение в девиантном мышлении, которое в свою очередь компрометирует свободу мысли. Если свобода мысли противостоит свободе воли, принуждая к паритету недеяния, то свобода слова становится единственным средством обнаружения несправедливости, которая, словно хамелеон, толеранствует не вопреки справедливости, а вопреки праву. Девиантное право – это право на бесправие в условиях свободы воли, канализируемой свободой мысли в свободе слова.
39
Антимышление. Это мышление на антиязыке, альтернативном неантиязыковому, которое не исключает язык, а рискует им ради него самого; семиотическая всеядность включает в себя не только антиязык, но и неантиязыковое, определяемое на примере фрактальной семиотики. То, что минует антиязык прежде, чем стать его исключением, существует в соответствующем непотребстве – на уровне онтологического неразличения между интенцией и референцией, а именно: до растождествления двух абсолютно одинаковых вещей в качестве критерия достаточного номинативного основания (если существование двух абсолютно одинаковых вещей гипотетически невозможно, то их несуществование – гипотетически возможно, а следовательно, критериально для апологии достаточного номинативного основания. Дигитальный субстрат номинации, выдающий подноготную риторической теории числа (РТЧ) за математическое бессознательное, является тем физическим покрывалом, которое должно быть сорвано с бытия, чтобы обнажился его подлинный язык. Если не существует двух абсолютно различных вещей, вплоть до отождествления, то несуществование двух абсолютно одинаковых вещей служит номинативной критикой принципа «изначального опоздания», происхождение которого остаётся семиотической тайной. Если между существованием и несуществованием пролегает номинативная девственность бытия, словно буфер нейтрализующая семиотические последствия, то достаточным номинативным основанием можно признать нерелевантность между бытием и небытием (антиязыковое алиби означает такое понимание аутентичной номинации, при котором вещь акцентирует себя, чтобы не стать объектом несобственной акцентуации: альтернативой аутентичной номинации является далеко не неаутентичная номинация[80 - Ср.: Платон: «СОКРАТ. Ты прав. Итак, чтобы имя было подобно предмету, элементы, из которых будут сделаны исходные имена, должны по необходимости естественным образом уподобляться предметам? Объяснюсь: разве можно было бы когда–нибудь составить схожую с действительностью картину, о которой мы только что говорили, если бы сама природа не дала нужные для составления картин цвета (pharmakeia), подобные предметам, которым подражает живопись? Разве это было бы возможным?» (434а–b) (Деррида Ж. Диссеминация / Пер. с франц. Д.Ю. Кралечкина. – Екатеринбург: У–Фактория, 2007. – 608 с. – (Серия «Philosophy».) – С. 178).], могущая быть аутентичной для того или иного референта, а такая номинация, которой свойственен антропологический парадокс: «Чтобы быть (поименованным) самим собой, человек должен постоянно преодолевать (переименовывать) себя» (номинативная вариация антропного принципа).
Парадоксальная номинация – это номинация, в основу которой положена парадоксальная мотивированность, то есть ничем не мотивированная мотивированность, снимающая полярности номинативного детерминизма и номинативного индетерминизма в трактовке природы языкового знака[81 - Ср.: М. Хайдеггер: «Когда мы именуем некую вещь, мы снабжаем её именем. Но как обстоит дело с этим снабжением? Вещь не такова, что имя навешено на неё. С другой стороны, никто не может оспаривать, что имя придано вещи как некий предмет. Если мы представляем положение вещей так, то мы равным образом и имя делаем предметом. Мы представляем связь между именем и вещью как приданность одного другому. Эта приданность со своей стороны нечто предметное, что можно представить и в соответствии с её различными возможностями с нею обращаться и её обозначать. Эта связь между поименованным и именем каждый раз позволяет себя представить как приданность. Остаётся лишь вопрос, обращаем ли мы внимание и можем ли мы вообще его обратить при этой правильно представленной приданности вещи и имени на то, что составляет собственное своеобразие имени. Что–либо именовать – это значит зват по имени. Ещё более исходно: именовать – это звать в слово. Это таковым образом вызванное стоит тогда в зове слова. Вызванное является как присутствующее, в качестве которого оно в зовущем слове укрыто, вверено, призвано. Это таким образом призванное, вызванное в присутствие, зовёт в таком случае само себя. Будучи поименованным, оно имеет имя. В именовании мы зовём прийти присутствующее. Куда? Это остаётся для осмысления. Во всяком случае, всякое именование и бытие поименованным есть то нам привычное «называется» лишь потому, что само именование по своей сути покоится в собственном назывании, в прихождении–в–называние, в зове, во вверении» (Хайдеггер М. Что зовётся мышлением? / Пер. с нем. Э. Сагетдинова. – М., 2006. – 320 с. – С. 135–136).]. Если искусственный характер связи между референтом и знаком досрочно обезоруживает принцип «изначального опоздания», рассчитанный на непосредственную связь между планом содержания и планом выражения, несмотря на изотропную континуальность, то естественный характер связи между референтом и знаком постулирует принцип «изначального опережения», представляющий собой запаздывание плана содержания к плану выражения при имплицитности обоих. Если номинативная немотивированность, когда отсутствует существенный признак, полагаемый в основу именования, является естественной (в отличие от искусственной немотивированности), то принцип «изначального опоздания» может быть конституирован между критикой интенционального разума и критикой референциального разума: «[Слово «произвольный» по отношению к знаку] не должно пониматься в том смысле, что означающее зависит от свободного выбора говорящего… Индивид не властен внести и малейшее изменение в знак, уже установившийся в языковом коллективе» (Соссюр)[82 - Вдовиченко А.В. Критическая ретроспектива лингвистического знания. Расставание с «языком». – М.: Издательство Православного Святотихоновского гуманитарного университета, 2007. – 510 с. – С. 105 (Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / Пер. А.М. Сухотина. Цит. по изд.: Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. В 2–х ч. Ч. 2. – 3–е изд., доп. – М.: Просвещение, 1964–1965. – 496 с. – С. 363).].
40
Пиджинизация антиязыка. То, что номинировано в соответствии с принципом «изначального опоздания», является семиотическим сырьём для антиязыковой переработки, заключающейся в ликвидации границы, с одной стороны, между присутствием (бытием) и присутствующим (сущим), а с другой – между отсутствием (небытием) и отсутствующим (несущим), следствием которой должно стать размытие водораздела между бытием/сущим и небытием/несущим). Антиязыковая рефлексия над естественным языком предполагает дарование тому, что не может быть поименовано в нём, возможность номинации даже тогда, когда она фатальна (деструктивная номинация бессмысленна таким образом, что не исключает неденоминабельности, выражающейся в тщете разыменования ещё не означенной вещи; то, что может быть непоименованным, существует в антиязыковом буфере, будучи обременённым для неденоминабельности (то, что может быть деноминировано, не может не быть неденоминировано). То, что не может быть непоименованным, существует непоименованным в результате неденоминабельности. Формулировка «мысль изречённая есть истина» означает такое положение при «изначальном опоздании», которое снято не в «изначальном опережении», являющемся разновидностью «изначального опоздания», а в предустановленной дисгармонии между планом содержания и планом выражения, проявляющейся в синхронии отсутствия двух абсолютно тождественных вещей. Синхрония различий, или асинхрония тождеств, задаёт темпоральный критерий для онтологического статуса, финишируемый определением аутентичного несуществования (то, что может отсутствовать аутентичным способом, обладает правом неотчуждаемого бытования, то есть в модусе неотчуждающего правоприменения).
Философизм в психологии представляет собой симметричный ответ на психологизм в философии, борьба с которым создаёт иллюзию научности, а по сути – призрак сциентизма, обременительный для философской философии (К.Г. Юнг: «Мне не кажется удивительным, что психология соприкасается с философией, ведь мышление, лежащее в основе философии, есть некий психический факт, который как таковой представляет собой предмет психологии. Занимаясь психологией, я всегда думаю о целостном охвате психического и тем самым и о философии, о теологии и о многом другом, потому что в основании всех философий и религий лежат реалии человеческой души, которые, по всей видимости, являются конечной инстанцией, где выносится решение об истине и заблуждении»[83 - Юнг К.Г. Структура и динамика психического / Пер. с англ. В.В. Зеленского и др. – М.: «Когито–Центр», 2008. – 480 с. – С. 312. Ср. также: К.Г. Юнг: «Критики иногда прямо попрекали меня за «философские» или даже «теологические» тенденции, полагая, что мои объяснения являются «философскими», а мои взгляды – «метафизическими». Я же использую некоторые философские, религиозно – научные и исторические материалы исключительно для иллюстрации психологических фактов. Если при этом я привлекаю понятие Бога или столь же метафизическое понятие энергии, я делаю это только потому, что эти образы присутствуют в психике человека со дня сотворения мира. Мне приходится вновь и вновь подчёркивать, что ни моральный порядок, ни понятие Бога или какая–то религия не появились извне, то есть не свалились на человека с неба – всё это человек несёт в себе in nuce[198 - Под этим подразумевается теория архетипов. Но, что, биологичес кое понятие «образчиков поведения» также является «метафизиче ским»? Там же. С. 314–315, 318], а потому создаёт он всё это сам. Не более чем досужей идеей является представление, будто требуется только лишь просвещение, чтобы игнать всех этих призраков. Идеи о моральном порядке и о Боге относятся к числу неискоренимых основ человеческой души. Поэтому честная психология, не ослеплённая тщеславием просветительства, должна работать с этими фактами. Их нельзя проигнорировать или отмахнуться от них с иронией. В физике мы можем обходиться без образа Бога, в психологии же это некая определённая величина, с которой следует считаться, точно так же, как с «аффектом», «влечением», «матерью» и т. д. Всё дело, конечно, в вечном смешении объекта и имаго, когда люди не делают понятийного различения между «Богом» и «Бого–образом», и поэтому думают, что когда мы говорим о Бого–образе, то говорим о Боге и предлагаем «теологические» объяснения. Психологии как науке не пристало требовать гипостазирования Бого–образа. Однако она должна принимать в расчёт – в соответствии с фактами – его существование».]). Борьба с философизмом в науке, часто распознаваемая в качестве софистики, является сведением счётов с тем, что на естественном языке не поддаётся никакой формализации: философизация естественнонаучного языка в духе лингвистической философии или философии языка означает возвращение науки к собственному истоку – риторической теории числа (Шилов). Если философизм предъявить как сверхпсихологизм, то опасение в борьбе с психологизмом просмотреть сверхпсихологизм может оказаться навязчивее паранойи бессознательного (философизация самой философии необходима для того, чтобы предупредить явный антифилософизм, присущий истории философии на всём протяжении существования любви к мудрости: антифилософия в переводе на антиязык означает такую смену парадигмы философской революции, благодаря которой потребность в риторическом вопрошании будет удовлетворена антисловной материей, синхронизирующей риторическое вопрошание с риторическим отвечанием. Постфеноменологически предвосхищая в вопросе его ответ, а в ответе – его вопрос, но в идеальном выражении – приостанавливая действие принципа «изначального опоздания», который причиняет зазор между вопросом и ответом и наоборот. Антисловная материя именует вещи таким образом, чтобы выразить каждую из них не в виде отредуцированного феномена сознания (вопреки феноменологии, иронично прозванной фантомологией), а ноуменологическим способом посредством аутентичной номинации, представляющей собой именование на языке самих вещей, субстратом которого является как риторический характер числа, так и дигитальный характер языка, – именение чисел.