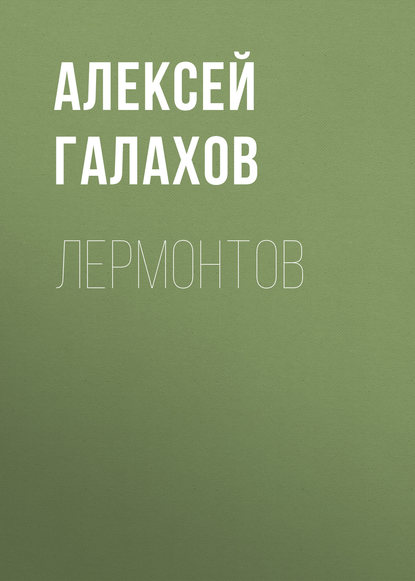По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лермонтов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда в последнем акте драмы выходит на сцену «Неизвестный», эта как бы олицетворенная совесть Арбенина, напоминающая ему прошлые, за семь лет до того случившиеся события, или, по выражению самого Арбенина, «грехи минувших дней», что слышим мы от него? Мы слышим упреки в мрачных, роковых свойствах души его:
….В твоей груди уж крылся этот холод.
То адское презренье ко всему,
Которым ты гордился всюду.
Не знаю, приписать ею к уму
Иль к обстоятельствам – я разбирать не буду
Твоей души, – ее поймет лишь Бог.
Эти два элемента, управляющие течением жизни Арбенина, внешняя судьба и личная природа, весьма значительны. Та и другая имеют значение роковой силы, и в своем влиянии на казненную обстановку героя до того сливаются, что трудно положить между ними какие-либо границы: судьба служит как бы второю природой, которой избежать невозможно, и природа восходит на высоту судьбы, от которой также нет спасения. Присущие ему естественные силы и господствующая над ним сила сверхъестественная образуют ту сферу Фатализма, в которой вращаются герои Лермонтова, и в которую веровал сам Лермонтов. Нельзя, без пособия этих элементов, объяснять такой характер, каков Арбенин; еще менее можно оправдать его, если нравственным судом потребуется он к допросу и ответу. Страданиями очищается человек, чтобы ни было их причиною, сам ли он или другие люди и обстоятельства; но затруднение в том, что читатель видит только указание голого факта, то-есть страданий, и при том отвлеченное, выраженное общими признаками, но не видит причин и побуждений, объясняющих факт. Главными побуждениями пребывають, как и прежде, природа и судьба, не подлежащие людской расправ.
Как лицо, на жизни которого тяготеет таинственная сила рока, Арбенин может быть уподоблен героям тех поэтических произведений, в которых завязкой и развязкой события управляет судьба. Это уподобление находим в статье Грановского Песни Эдды о Нифлунгах: «В сумрачном мире скандинавской поэзии мы встретим образы, дивно отмеченные трагическою красотою страдания, носящие в себе такой избыток сил и скорби, что их можно принять за могучих прадедов выродившагося и слабодушного страдальца, который сделался типическим героем новейших литератур.» Грановского, т. I, стр. 479). Присоединим сюда небольшую оговорку, как защиту героев Лермонтова: конечно, в сравнении с великими мужами Эдды, Арбенин не отличается значительною величиною; гордый ум его под конец изнемог, и в сумашествии находит он спасение от сознательных несчастий; но все же нельзя назвать его страдальцем слабодушным, особенно когда поставишь его рядом с хилыми, болезненными натурами, выведенными на сцену во многих произведениях европейских литератур, в том числе и нашей, под именами человека лишнего, больного, и тому подобных.
Мы сказали, что горьки были последствия изломанной жизни Арбенина. Одно из них особенно, своим печальным интересом, возбуждает сочувствие мыслящих людей. Зловещие признаки его показались еще в десятилетнем мальчике Саше, привыкшем «побеждать страдания тела грезами души». Там оно было произведением болезни, укрепившей мощь духа. Умственный рост дитяти, быстрыми и сильными побегами, обогнал рост физический. Такая несоразмерность в развитии составных элементов человека крайне опасна: в дальнейшем ходе своем приводит она к совершенной апатии, постепенно ослабляя напряженность и свежесть естественных ощущений, омрачая бытие вечным надзором мысли, безотвязным анализом, преждевременным знанием дела, забегающим вперед самого дела. В подобном состоянии жить тяжело: жизнь и скука знаменуют одно и то же. Герой Маскарада страдает этою болезнию, корень которой в спешном развитии души. На помощь его опыту пришла и мысль, как анализ опыта: он все видел, все перечувствовал, все узнал.
Романа не начав, он знал уже развязку,
И для других сердец твердил
Слова любви, как няня сказку.
Потому именно несчастна связь его с Ниной. Его ужасает противоположность между ним и женой его: она взглянула только на заглавный лист в огромной книге жизни, а он прочел ее и начала до конца, прочел не только строки, но и между строками. Ничего больше не узнает он, смысл её разоблачен вполне. Закрыв ее, он восклицает: какая старая и пустая пита!
Многие писатели поставляли на вид не нормальный перевес духа над телом, искренно жалея о том, кому досталось изведать это злое несчастие. Баратынский усмотрел подобные явления и искусстве, вредящие искусству. Поэтов, постоянно заботящийся о мысли, называет он бедными художниками.
Все мысль да мысль! Художник бедный слова!
О жрец её! Тебе забвенья нет!
Все тут да тут и человек, и свет,
И смерть, и жизнь, и правда без покрова.
«Стремитесь к чувственному, советует он, не переступая за грань его. Пред обнаженным мечом мысли бледнеет земная жизнь.»
Перевес духовного развития над чувственным, развития, ори котором незрелость одного сталкивается с старостью другого, при котором жизнь, неисчерпанная годами, исчерпывается мыслью, при котором душа как бы «совершает свой подвиг прежде тела», есть нравственная болезнь новых людей, бывшая неизвестною древним. Болезнь эта растет с годами; к ней можно отнести то самое, что сказал Пушкин о печали минувших дней: «чем старее она, тем сильнее». Не годы жизнь, а наслажденье, говорит полный очарования юноша; не годы жизнь, а мысль о жизни, говорят люди, дошедшие до состояния Арбенина. Мы увидим, какие широкие размеры приняла новая нравственная болезнь в дальнейших созданиях Лермонтова.
С большею подробностью описан характер Измаил-Бея и восточной повести того же имени. Лицо это взято не из европейского мира: Измаил – горец, равно как горцы же действуют и в Мцыри, и в Хаджи-Абреке. Несмотря однако ж на различные условия национальной жизни, характер остался решительно тот же. Из-под одежды боевого Черкеса выглядываегь знакомый нам Арбенин. Самое разительное между ними сходство – власть судьбы, которую они испытывают. Да и в самом герое восточной повести есть тоже роковое: отношения его к другим, влияние, производимое на все, что ему соприкосновенно, чисто Фаталистические. То и другое сознает он сам. По поводу сближения своего с людьми, которое не обходится им даром, он горестно говорит, что «все любящее его увлечено за ним вслед, что его дыханье губить радость, что он не властен щ». Но приноса невольные жертвы себе, как судьбе, он в то же время и сам жертва судьбы:
Бывают люди: чувства – им страданья;
Причуда злой судьбы – их бытие.
Чтоб самовластье показать свое,
Она, порой, кидает их межь нами.
Так, древле, в море кинул царь алмаз;
Но гордый камень в свой урочный час
Ему обратно отдан был волнами!
И детям рока места в мире нет;
Они его пугают жизнью новой,
Они блеснут, и сгладится их след,
Как в темной туче след стрелы громовой.
Толпа дивится часто их уму,
Но часто обвиняет, потому
Что в море бед, как вихри их ни носят,
Они пособий от рабов не просят;
Хотят их превзойти в добре и зле,
И власти знак на гордом их челе.
От фатализма раждается в душе Измаила холодное спокойствие: он знает, что положенного предела переступить нельзя, что людская вражда не постигает главы, постигнутой уже роком, который не уступает своих жертв земным судиям. Но этому мужу судьбы природа дала непобедимый ум, окрепший в борьбе; при нем всегда на страже гордая мысль и холод сомнения; он не желает ни усладить, ни позабыть страданий: он мечтает только победить, хотя победить не может.
Но здесь снова возникает вопрос, который мы уже предлагали: отчего эти страдания? какая причина грусти, этого жестокого властелина людей, в таком человеке, каков Измаил? Правда, он создан для великих страстей; но все им испытанное – враги, друзья, изгнанье, не могли осудить его на те страдания, которые являются только на вершине утонченной европейской цивилизации, не могли привести его ни к анализу, и к сомнению, атому лютому врагу новых людей. Вопрос, гош предложенный, снова остается без ответа. Для решения его не имеется надлежащих объяснений, а есть только Факт, который рассказать не трудно: юный летами, Измаил стар опытом;
Старик для чувств и наслажденья,
Без седины между волос;
сердце его сделалось мертвым; на душе лежит бремя тяжелых дум; уста привыкли к проклятью; он лишний между людьми. Часто обманутый, он боялся,
…верить только потому,
Что верил некогда всему, –
причина, одинаковая у него с боярином Оршей, который также не удивлялся злу и не верил добру,
Не верил только потому,
Что верил некогда всему.
Страдания Измаила еще сильнее страданий Арбенина и выражены превосходными стихами. Выдающийся пункт мучения – известные моменты, которые однакож не сокрушают могучих мучеников.
Видали ль вы, как хищные и злые
К оставленному трупу, в тихий дол,
Слетаются наследники земные,
Могильный ворон, коршун и орел?
Так есть мгновенья, краткия мгновенья,
Когда, столпясь, все адские мученья
Слетаются на сердце и грызут!
Века печали стоят тех минут…
Лишь дунет вихрь, и сломится лилея:
Таков, с душой кто слабою рожден;
Не вынесет минут подобных он.
Но мощный ум, крепясь и каменея,
Их превращает в пытку Прометея!
Не сгладит время их глубокий след;
Все в мире есть – забвенья только нет!
Самозабвенье, покой, нужные в таком безотрадном положение, не даются великим страдальцам. Герои невыразимой печали, они в то же время герои неотразимой мысли: вот трое капитальное сходство между Измаилом и Арбениным. А где мысль, там не стихает живая боль человека. «Я глупо создан, восклицает Печорин: – ничего не забываю, ничего». С другой стороны, герои так горды, что хотят пряно смотреть в ужасное лицо страдания и принимать его удары, презирая их. Судьба, говорит Демон (в поэме того же имени), не дала мне забвенья, да я и не взял бы его.
Из толпы мыслей, преследующих Измаила, замечательна также мысль о скоротечности жизни, о ничтожестве. Два раза встречаем мы ее: однажды при взгляде Измаила на родные горы, в другой раз – при смертельной ране, им полученной.
Забыл он жизни скоротечность;
Он, в мыслях мира властелин,
Присвоить бы желал их вечность.
……………………….
Ужель степная лишь могила
Ничтожный в мире будет след
Того, чье сердце столько лет
Мысль о ничтожестве томила?
….В твоей груди уж крылся этот холод.
То адское презренье ко всему,
Которым ты гордился всюду.
Не знаю, приписать ею к уму
Иль к обстоятельствам – я разбирать не буду
Твоей души, – ее поймет лишь Бог.
Эти два элемента, управляющие течением жизни Арбенина, внешняя судьба и личная природа, весьма значительны. Та и другая имеют значение роковой силы, и в своем влиянии на казненную обстановку героя до того сливаются, что трудно положить между ними какие-либо границы: судьба служит как бы второю природой, которой избежать невозможно, и природа восходит на высоту судьбы, от которой также нет спасения. Присущие ему естественные силы и господствующая над ним сила сверхъестественная образуют ту сферу Фатализма, в которой вращаются герои Лермонтова, и в которую веровал сам Лермонтов. Нельзя, без пособия этих элементов, объяснять такой характер, каков Арбенин; еще менее можно оправдать его, если нравственным судом потребуется он к допросу и ответу. Страданиями очищается человек, чтобы ни было их причиною, сам ли он или другие люди и обстоятельства; но затруднение в том, что читатель видит только указание голого факта, то-есть страданий, и при том отвлеченное, выраженное общими признаками, но не видит причин и побуждений, объясняющих факт. Главными побуждениями пребывають, как и прежде, природа и судьба, не подлежащие людской расправ.
Как лицо, на жизни которого тяготеет таинственная сила рока, Арбенин может быть уподоблен героям тех поэтических произведений, в которых завязкой и развязкой события управляет судьба. Это уподобление находим в статье Грановского Песни Эдды о Нифлунгах: «В сумрачном мире скандинавской поэзии мы встретим образы, дивно отмеченные трагическою красотою страдания, носящие в себе такой избыток сил и скорби, что их можно принять за могучих прадедов выродившагося и слабодушного страдальца, который сделался типическим героем новейших литератур.» Грановского, т. I, стр. 479). Присоединим сюда небольшую оговорку, как защиту героев Лермонтова: конечно, в сравнении с великими мужами Эдды, Арбенин не отличается значительною величиною; гордый ум его под конец изнемог, и в сумашествии находит он спасение от сознательных несчастий; но все же нельзя назвать его страдальцем слабодушным, особенно когда поставишь его рядом с хилыми, болезненными натурами, выведенными на сцену во многих произведениях европейских литератур, в том числе и нашей, под именами человека лишнего, больного, и тому подобных.
Мы сказали, что горьки были последствия изломанной жизни Арбенина. Одно из них особенно, своим печальным интересом, возбуждает сочувствие мыслящих людей. Зловещие признаки его показались еще в десятилетнем мальчике Саше, привыкшем «побеждать страдания тела грезами души». Там оно было произведением болезни, укрепившей мощь духа. Умственный рост дитяти, быстрыми и сильными побегами, обогнал рост физический. Такая несоразмерность в развитии составных элементов человека крайне опасна: в дальнейшем ходе своем приводит она к совершенной апатии, постепенно ослабляя напряженность и свежесть естественных ощущений, омрачая бытие вечным надзором мысли, безотвязным анализом, преждевременным знанием дела, забегающим вперед самого дела. В подобном состоянии жить тяжело: жизнь и скука знаменуют одно и то же. Герой Маскарада страдает этою болезнию, корень которой в спешном развитии души. На помощь его опыту пришла и мысль, как анализ опыта: он все видел, все перечувствовал, все узнал.
Романа не начав, он знал уже развязку,
И для других сердец твердил
Слова любви, как няня сказку.
Потому именно несчастна связь его с Ниной. Его ужасает противоположность между ним и женой его: она взглянула только на заглавный лист в огромной книге жизни, а он прочел ее и начала до конца, прочел не только строки, но и между строками. Ничего больше не узнает он, смысл её разоблачен вполне. Закрыв ее, он восклицает: какая старая и пустая пита!
Многие писатели поставляли на вид не нормальный перевес духа над телом, искренно жалея о том, кому досталось изведать это злое несчастие. Баратынский усмотрел подобные явления и искусстве, вредящие искусству. Поэтов, постоянно заботящийся о мысли, называет он бедными художниками.
Все мысль да мысль! Художник бедный слова!
О жрец её! Тебе забвенья нет!
Все тут да тут и человек, и свет,
И смерть, и жизнь, и правда без покрова.
«Стремитесь к чувственному, советует он, не переступая за грань его. Пред обнаженным мечом мысли бледнеет земная жизнь.»
Перевес духовного развития над чувственным, развития, ори котором незрелость одного сталкивается с старостью другого, при котором жизнь, неисчерпанная годами, исчерпывается мыслью, при котором душа как бы «совершает свой подвиг прежде тела», есть нравственная болезнь новых людей, бывшая неизвестною древним. Болезнь эта растет с годами; к ней можно отнести то самое, что сказал Пушкин о печали минувших дней: «чем старее она, тем сильнее». Не годы жизнь, а наслажденье, говорит полный очарования юноша; не годы жизнь, а мысль о жизни, говорят люди, дошедшие до состояния Арбенина. Мы увидим, какие широкие размеры приняла новая нравственная болезнь в дальнейших созданиях Лермонтова.
С большею подробностью описан характер Измаил-Бея и восточной повести того же имени. Лицо это взято не из европейского мира: Измаил – горец, равно как горцы же действуют и в Мцыри, и в Хаджи-Абреке. Несмотря однако ж на различные условия национальной жизни, характер остался решительно тот же. Из-под одежды боевого Черкеса выглядываегь знакомый нам Арбенин. Самое разительное между ними сходство – власть судьбы, которую они испытывают. Да и в самом герое восточной повести есть тоже роковое: отношения его к другим, влияние, производимое на все, что ему соприкосновенно, чисто Фаталистические. То и другое сознает он сам. По поводу сближения своего с людьми, которое не обходится им даром, он горестно говорит, что «все любящее его увлечено за ним вслед, что его дыханье губить радость, что он не властен щ». Но приноса невольные жертвы себе, как судьбе, он в то же время и сам жертва судьбы:
Бывают люди: чувства – им страданья;
Причуда злой судьбы – их бытие.
Чтоб самовластье показать свое,
Она, порой, кидает их межь нами.
Так, древле, в море кинул царь алмаз;
Но гордый камень в свой урочный час
Ему обратно отдан был волнами!
И детям рока места в мире нет;
Они его пугают жизнью новой,
Они блеснут, и сгладится их след,
Как в темной туче след стрелы громовой.
Толпа дивится часто их уму,
Но часто обвиняет, потому
Что в море бед, как вихри их ни носят,
Они пособий от рабов не просят;
Хотят их превзойти в добре и зле,
И власти знак на гордом их челе.
От фатализма раждается в душе Измаила холодное спокойствие: он знает, что положенного предела переступить нельзя, что людская вражда не постигает главы, постигнутой уже роком, который не уступает своих жертв земным судиям. Но этому мужу судьбы природа дала непобедимый ум, окрепший в борьбе; при нем всегда на страже гордая мысль и холод сомнения; он не желает ни усладить, ни позабыть страданий: он мечтает только победить, хотя победить не может.
Но здесь снова возникает вопрос, который мы уже предлагали: отчего эти страдания? какая причина грусти, этого жестокого властелина людей, в таком человеке, каков Измаил? Правда, он создан для великих страстей; но все им испытанное – враги, друзья, изгнанье, не могли осудить его на те страдания, которые являются только на вершине утонченной европейской цивилизации, не могли привести его ни к анализу, и к сомнению, атому лютому врагу новых людей. Вопрос, гош предложенный, снова остается без ответа. Для решения его не имеется надлежащих объяснений, а есть только Факт, который рассказать не трудно: юный летами, Измаил стар опытом;
Старик для чувств и наслажденья,
Без седины между волос;
сердце его сделалось мертвым; на душе лежит бремя тяжелых дум; уста привыкли к проклятью; он лишний между людьми. Часто обманутый, он боялся,
…верить только потому,
Что верил некогда всему, –
причина, одинаковая у него с боярином Оршей, который также не удивлялся злу и не верил добру,
Не верил только потому,
Что верил некогда всему.
Страдания Измаила еще сильнее страданий Арбенина и выражены превосходными стихами. Выдающийся пункт мучения – известные моменты, которые однакож не сокрушают могучих мучеников.
Видали ль вы, как хищные и злые
К оставленному трупу, в тихий дол,
Слетаются наследники земные,
Могильный ворон, коршун и орел?
Так есть мгновенья, краткия мгновенья,
Когда, столпясь, все адские мученья
Слетаются на сердце и грызут!
Века печали стоят тех минут…
Лишь дунет вихрь, и сломится лилея:
Таков, с душой кто слабою рожден;
Не вынесет минут подобных он.
Но мощный ум, крепясь и каменея,
Их превращает в пытку Прометея!
Не сгладит время их глубокий след;
Все в мире есть – забвенья только нет!
Самозабвенье, покой, нужные в таком безотрадном положение, не даются великим страдальцам. Герои невыразимой печали, они в то же время герои неотразимой мысли: вот трое капитальное сходство между Измаилом и Арбениным. А где мысль, там не стихает живая боль человека. «Я глупо создан, восклицает Печорин: – ничего не забываю, ничего». С другой стороны, герои так горды, что хотят пряно смотреть в ужасное лицо страдания и принимать его удары, презирая их. Судьба, говорит Демон (в поэме того же имени), не дала мне забвенья, да я и не взял бы его.
Из толпы мыслей, преследующих Измаила, замечательна также мысль о скоротечности жизни, о ничтожестве. Два раза встречаем мы ее: однажды при взгляде Измаила на родные горы, в другой раз – при смертельной ране, им полученной.
Забыл он жизни скоротечность;
Он, в мыслях мира властелин,
Присвоить бы желал их вечность.
……………………….
Ужель степная лишь могила
Ничтожный в мире будет след
Того, чье сердце столько лет
Мысль о ничтожестве томила?