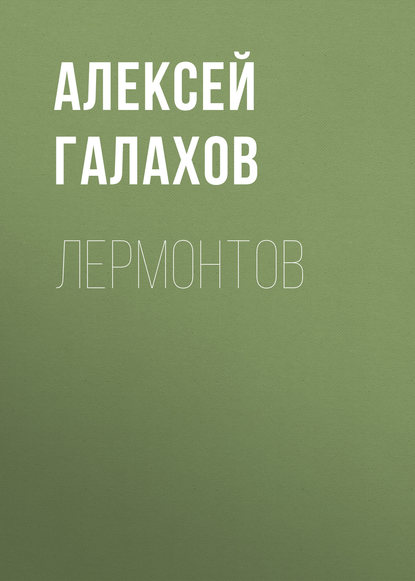По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лермонтов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не странно слышать эту мысль от человека, пораженного сомнением, которое сделалось обиходною монетой в переходные времена цивилизации; но как понять ее в устах Черкеса? Впрочем, мы обратимся к ней в последствии и постараемся объяснить её значение.
Рассказ Мцыри энергически выражает стремление к простору и свободе того гордого и могучего горца, которого хотели запереть в монастыре, как орла в клетке. Шести лет привезенный русским генералом из гор в Тифлис и сильно заболевший, Мцыри томился без жалоб, не обнаруживал мук даже слабым стоном, отвергал пищу и с гордым безмолвием дожидался смерти. Как видите, он не уступает ни Измаилу, ни Арбенину в могучих силах духа, укрепленных, а не ослабленных болезнию, что мы уже заметили. Попечения монаха спасли его от смерти. В последствии окрестили его; он вырос, сделался послушником и уже готовился изречь обет монашества, как вдруг одною осеннею ночью, при смутном воспоминании о родных горах и воле, убежал из монастыря. Через несколько дней нашли его без чувств в степи. Принесенный в обитель, он перед смертью развязывает чернецу повесть своего бегства и своих ощущений вне монастырских стен.
Черта наиболее замечательная в рассказе – инстинктивное стремление к бурной жизни, пламенная жажда волнений. Две жизни, подобные той, которая проведена в монастыре, Мцыри готов отдать за одну, полную тревог:
Я знал одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келлий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской.
Это бурное сердце, не знающее и не желающее покоя, бьется также неровно и порывисто, как у Арбенина и Измаила. Описывая грозу в дремучем лесу, Мцыри с восторгом восклицает:
… О! я, как брат,
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил….
Скажи мне, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне в замен
Той дружбы краткой, но живой,
Меж бурным сердцем и грозой?
К Измаилу и Арбенину Мцыри относится так же, как один момент жизни относится к целой жизни. Мцыри умирает во цвете лет, не искушенный опытом, подобно двум первым. Рассказ его передает нам один акт, в котором обнаружились свойства могучего духа; но те же самые свойства обнаружились бы при подобном событии у Арбенина и Измаила. Форма проявления характера могла быть различна; самый характер сохранился бы неизменным.
Неизменность характера, действительно, и сохранилась, как мы видим в поэме: Боярина Орша. Удивительное пристрастие и одному и тому же типу! Ни время, ни пространство не действуют на него. Как в горце, несмотря на все пламенное отличие его от Европейцев, явился Европеец Арбенин, так в Арбенине, жителе нашего века, современнике Лермонтова, явились боярин Орша и Арсений, живший во время оно (так начинается поэма), в царствование Иоанна Грозного. Разумеется, при такой выдержанной любви к одному образу, преследовавшему воображение и мысль поэта, нельзя и требовать верно-поэтического, согласного со всеми временными и местными условиями действительности, воспроизведения лиц и событий, которые берутся из разных эпох и разных стран. Каков бы ни был родовой характер, он не лишен способности изменяться. Явления этого рода, как ступени последовательного его осуществления, не похожи друг на друга, как похожи две капли воды: и движение времени, и цвет местности кладут на них особенные отличия, так что каждое явление, не теряя родового или видового признака, тем не менее, по своим характеристическим принадлежностям, есть нечто индивидуальное, статья особая. Что же сказать, например, о таких характерах, которые возможны только в известную эпоху, при известной степени человеческого развития, и которых сформирование произошло как бы на наших глазах или, по крайней мере, на памяти ближайших наших предшественников? Откуда зашли они в век Иоанна Грозного или в пределы Кавказа? Выговариваем это замечание не с тем, чтобы поставить в вину Лермонтову его уклонения от истории в частности или от действительности вообще. Напротив, такой недостаток, в настоящем случае, имеет еще свою цену. При рассуждении о поэте нам нужен идеал, в котором выразилось духовное настроение известного общества, в известную эпоху. Чем сходственнее разные личности, как единичные явления одного и того же рода, тем легче осматривается и удобнее определяется самый род.
Таких личностей в поэме Орша две: сам Орша и Арсений. По положению своему, они враги; по своим характерам – натуры родственные. Неравенство лет, конечно, не значит здесь ничего. У Орши угрюмый, крутой нрав, никогда не слабевший перед бедами. Сходство его с Арбениным, выраженное почти тожественными стихами, мы указали выше. Другое сходство – страшная мстительность. Поступок его с дочерью еще ужасное, чем поступок Арбенина с женой. Нина, отравленная, мучится не долго, но дочь Орши умирает медленною голодною смертью, запертая в башне, где видалась с Арсением. В битве с врагами, Орша падает героем, не изменяя ни силе непреклонного нрава, ни чувству непреклонного мщения.
Арсений – второй экземпляр Мцыри, с прибавкою житейской опытности. Рассказ его о себе не толю изложением, но целыми тирадами повторяет по местам рассказ Мцыри. Справедливо будет предположить, что последний, как более обработанный, передает тот образ, который в первом, еще неясно обозначившемся очерке, зачался в фантазии поэта. Это две концепции одного и того же характера: одна, набросанная без отделки, другая – более отделанная. Из монастыря Арсений убежал к шайке разбойников,
бесстрашных, твердых как булат;
Людской закон для них не снят;
Война – их рай, а мир – их ад.
Кто в этих чертах не распознает героев Лермонтова, непреклонных и тревожных, которых воображение, как у Саши Арбенина, еще с детства наполнялось «понятиями противообщественными»? Гордый вид и гордый дух, не смиряющийся перед судьбой, и эта самая судьба, как грозная тень Банко, все это есть в Арсении, и все это не новость для того, кому знакомы Измаил и Арбенин. Подобно Измаилу, Арсений молод; но эта молодость у них обоих отягощена бессменною думой, силою которой жизнь изживается в немногие годы, и грядущее сулит только повторение прошлых страданий:
… рассмотрев его черты,
Не чуждые той красоты,
Невыразимой, но живой,
Которой блеск печальный свой
Мысль неизменная дала,
Где все, что есть добра и зла
В душе, прикованной к земле,
Отражено как на стекле, –
Вздохнувши, всякий бы сказал,
Что жил он меньше чем страдал.
Мысль последнего стиха нам уже известна из слов Арбенина (в Маскараде). К довершению сходства, укажем на бесцельную жизнь Арсения; увидав остов своей возлюбленной, пожелтевший и покрытый прахом, он заключает поэму такими словами:
Иду отсюда навсегда,
Без дум, без цели, без труда,
Один с тоской.
Если Мцыри изображает один акт из жизни могучего духа, то Хаджи-Абрек изображает одну страсть такого же духа. Страсть эта – мщение. Абрек мстит убийце своего брата, Бей-Будату, убивая его любовницу Ленду. Но эта обязанность кровавой отплаты, обычная варварским племенам, не дает однакож права видеть в Абреке человека дикого: он думает и чувствует, как разочарованный Европеец нового времени. Похоронив все, чему он верил, и что любил, Абрек находит блаженство в сладострастии преступлений. На мщение смотрит он единственно, как на утешение в несчастий, как на замену счастья. С другой стороны, Арбенин, при всем своем европеизме, по чувству мщения нисходит на степень дикаря: подозрения равны для него доказательствам; он не знает тогда ни жалости, ни помилования:
Когда обижен – мщенье, мщенье!
Вот цель его тогда, и вот его закон!
Средства мщения у Арбенина и Хаджи-Абрека различны, но сила мщения одинакова: в этом они сходятся как нельзя больше.
На всех этих фигурах мрачных и вместе обольстительных невыразимою красотой, которой «неизменная мысль дала печальный блеск свой», лежит печать не только фатализма, но и демонической силы. Поэтому одна из поэм Лермонтова носит название Демон. Герой её принадлежит к сфере бесплотных; но это различие несущественное: в образе его соединяются черты, которыми наделены человеческие лица, выведенные в других поэмах и повестях Лермонтова. Демону придается эпитет «печальный». Его печаль бессменна и бесконечна; она
Мечтаний прежних и страстей
Несокрушимый мавзолей.
Подобно Арсению, блуждает он «без цели и приюта», пустыня души его одно и то же с грудью Измаила, «опустошенною тоской». Он не чужд воспоминания лучших дней, когда он «верил и любил, не зная ни страха, ни сомнения, когда душе его не грозил унылый ряд веков». Что для падшего духа – века, то для человека – годы; пространство времени обширнее, но свойство жизни, в большем или меньшем времени совершающейся, одинаково: это свойство – уныние. Сея зло без наслаждения. Демон наскучил злом. Скука – болезнь его, наравне с душевными болезнями такой человеческой природы, какою одарены Арбенин, Измаил и Печорин. С гордостию смотрел злой дух на творение, и при этом взгляде на чаде его не отражалось ничего, кроме холодной зависти:
Природы блеск не возбудил
В груди изгнанника бесплодной
Ни новых чувств, ни новых сил,
И все, что пред собой он видел,
Он презирал, он ненавидел.
В бесплодной груди Измаила не зараждается также ничего, кроне ненависти и презрения. К тому же он и «изгнанник», только из родины, а не с неба; но для падшего ангела небо было родиной. Оба они, и Демон и Измаил, страдают сомнением, горький плод которого – бессмертная мысль, неизбежная дума. Им желалось бы «забыть незабвенное», но где взять для этого сил? Что Арбенин говорил о себе Нине, то самое, почтя теми же словами, говорит Тамаре Демон:
Какое горькое томленье
Жить для себя, скучать собой
И этой долгою борьбой,
Без торжества, без примиренья,
Всегда желать и не желать,
Все знать, все чувствовать, все видеть
И все на свете презирать.
Минуты страданий Измаила, стоящие веков печали, испытываются и Демоном в большей еще силе, невыносимой для человеков:
Что повесть тягостных лишений,
Трудов и бед толпы людской,
Грядущих, прошлых поколений
Перед минутою одной
Моих непризнанных мучений!
Наравне с Печориным, Измаилом и Арбениным, Демон Лермонтова способен пробуждаться для чувств: при виде княжны Тамары он ощутил в себе «неизъяснимое волнение». Образ его отмечен тою красотою, которой неизменная мысль как особенный блеск:
Рассказ Мцыри энергически выражает стремление к простору и свободе того гордого и могучего горца, которого хотели запереть в монастыре, как орла в клетке. Шести лет привезенный русским генералом из гор в Тифлис и сильно заболевший, Мцыри томился без жалоб, не обнаруживал мук даже слабым стоном, отвергал пищу и с гордым безмолвием дожидался смерти. Как видите, он не уступает ни Измаилу, ни Арбенину в могучих силах духа, укрепленных, а не ослабленных болезнию, что мы уже заметили. Попечения монаха спасли его от смерти. В последствии окрестили его; он вырос, сделался послушником и уже готовился изречь обет монашества, как вдруг одною осеннею ночью, при смутном воспоминании о родных горах и воле, убежал из монастыря. Через несколько дней нашли его без чувств в степи. Принесенный в обитель, он перед смертью развязывает чернецу повесть своего бегства и своих ощущений вне монастырских стен.
Черта наиболее замечательная в рассказе – инстинктивное стремление к бурной жизни, пламенная жажда волнений. Две жизни, подобные той, которая проведена в монастыре, Мцыри готов отдать за одну, полную тревог:
Я знал одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келлий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской.
Это бурное сердце, не знающее и не желающее покоя, бьется также неровно и порывисто, как у Арбенина и Измаила. Описывая грозу в дремучем лесу, Мцыри с восторгом восклицает:
… О! я, как брат,
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил….
Скажи мне, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне в замен
Той дружбы краткой, но живой,
Меж бурным сердцем и грозой?
К Измаилу и Арбенину Мцыри относится так же, как один момент жизни относится к целой жизни. Мцыри умирает во цвете лет, не искушенный опытом, подобно двум первым. Рассказ его передает нам один акт, в котором обнаружились свойства могучего духа; но те же самые свойства обнаружились бы при подобном событии у Арбенина и Измаила. Форма проявления характера могла быть различна; самый характер сохранился бы неизменным.
Неизменность характера, действительно, и сохранилась, как мы видим в поэме: Боярина Орша. Удивительное пристрастие и одному и тому же типу! Ни время, ни пространство не действуют на него. Как в горце, несмотря на все пламенное отличие его от Европейцев, явился Европеец Арбенин, так в Арбенине, жителе нашего века, современнике Лермонтова, явились боярин Орша и Арсений, живший во время оно (так начинается поэма), в царствование Иоанна Грозного. Разумеется, при такой выдержанной любви к одному образу, преследовавшему воображение и мысль поэта, нельзя и требовать верно-поэтического, согласного со всеми временными и местными условиями действительности, воспроизведения лиц и событий, которые берутся из разных эпох и разных стран. Каков бы ни был родовой характер, он не лишен способности изменяться. Явления этого рода, как ступени последовательного его осуществления, не похожи друг на друга, как похожи две капли воды: и движение времени, и цвет местности кладут на них особенные отличия, так что каждое явление, не теряя родового или видового признака, тем не менее, по своим характеристическим принадлежностям, есть нечто индивидуальное, статья особая. Что же сказать, например, о таких характерах, которые возможны только в известную эпоху, при известной степени человеческого развития, и которых сформирование произошло как бы на наших глазах или, по крайней мере, на памяти ближайших наших предшественников? Откуда зашли они в век Иоанна Грозного или в пределы Кавказа? Выговариваем это замечание не с тем, чтобы поставить в вину Лермонтову его уклонения от истории в частности или от действительности вообще. Напротив, такой недостаток, в настоящем случае, имеет еще свою цену. При рассуждении о поэте нам нужен идеал, в котором выразилось духовное настроение известного общества, в известную эпоху. Чем сходственнее разные личности, как единичные явления одного и того же рода, тем легче осматривается и удобнее определяется самый род.
Таких личностей в поэме Орша две: сам Орша и Арсений. По положению своему, они враги; по своим характерам – натуры родственные. Неравенство лет, конечно, не значит здесь ничего. У Орши угрюмый, крутой нрав, никогда не слабевший перед бедами. Сходство его с Арбениным, выраженное почти тожественными стихами, мы указали выше. Другое сходство – страшная мстительность. Поступок его с дочерью еще ужасное, чем поступок Арбенина с женой. Нина, отравленная, мучится не долго, но дочь Орши умирает медленною голодною смертью, запертая в башне, где видалась с Арсением. В битве с врагами, Орша падает героем, не изменяя ни силе непреклонного нрава, ни чувству непреклонного мщения.
Арсений – второй экземпляр Мцыри, с прибавкою житейской опытности. Рассказ его о себе не толю изложением, но целыми тирадами повторяет по местам рассказ Мцыри. Справедливо будет предположить, что последний, как более обработанный, передает тот образ, который в первом, еще неясно обозначившемся очерке, зачался в фантазии поэта. Это две концепции одного и того же характера: одна, набросанная без отделки, другая – более отделанная. Из монастыря Арсений убежал к шайке разбойников,
бесстрашных, твердых как булат;
Людской закон для них не снят;
Война – их рай, а мир – их ад.
Кто в этих чертах не распознает героев Лермонтова, непреклонных и тревожных, которых воображение, как у Саши Арбенина, еще с детства наполнялось «понятиями противообщественными»? Гордый вид и гордый дух, не смиряющийся перед судьбой, и эта самая судьба, как грозная тень Банко, все это есть в Арсении, и все это не новость для того, кому знакомы Измаил и Арбенин. Подобно Измаилу, Арсений молод; но эта молодость у них обоих отягощена бессменною думой, силою которой жизнь изживается в немногие годы, и грядущее сулит только повторение прошлых страданий:
… рассмотрев его черты,
Не чуждые той красоты,
Невыразимой, но живой,
Которой блеск печальный свой
Мысль неизменная дала,
Где все, что есть добра и зла
В душе, прикованной к земле,
Отражено как на стекле, –
Вздохнувши, всякий бы сказал,
Что жил он меньше чем страдал.
Мысль последнего стиха нам уже известна из слов Арбенина (в Маскараде). К довершению сходства, укажем на бесцельную жизнь Арсения; увидав остов своей возлюбленной, пожелтевший и покрытый прахом, он заключает поэму такими словами:
Иду отсюда навсегда,
Без дум, без цели, без труда,
Один с тоской.
Если Мцыри изображает один акт из жизни могучего духа, то Хаджи-Абрек изображает одну страсть такого же духа. Страсть эта – мщение. Абрек мстит убийце своего брата, Бей-Будату, убивая его любовницу Ленду. Но эта обязанность кровавой отплаты, обычная варварским племенам, не дает однакож права видеть в Абреке человека дикого: он думает и чувствует, как разочарованный Европеец нового времени. Похоронив все, чему он верил, и что любил, Абрек находит блаженство в сладострастии преступлений. На мщение смотрит он единственно, как на утешение в несчастий, как на замену счастья. С другой стороны, Арбенин, при всем своем европеизме, по чувству мщения нисходит на степень дикаря: подозрения равны для него доказательствам; он не знает тогда ни жалости, ни помилования:
Когда обижен – мщенье, мщенье!
Вот цель его тогда, и вот его закон!
Средства мщения у Арбенина и Хаджи-Абрека различны, но сила мщения одинакова: в этом они сходятся как нельзя больше.
На всех этих фигурах мрачных и вместе обольстительных невыразимою красотой, которой «неизменная мысль дала печальный блеск свой», лежит печать не только фатализма, но и демонической силы. Поэтому одна из поэм Лермонтова носит название Демон. Герой её принадлежит к сфере бесплотных; но это различие несущественное: в образе его соединяются черты, которыми наделены человеческие лица, выведенные в других поэмах и повестях Лермонтова. Демону придается эпитет «печальный». Его печаль бессменна и бесконечна; она
Мечтаний прежних и страстей
Несокрушимый мавзолей.
Подобно Арсению, блуждает он «без цели и приюта», пустыня души его одно и то же с грудью Измаила, «опустошенною тоской». Он не чужд воспоминания лучших дней, когда он «верил и любил, не зная ни страха, ни сомнения, когда душе его не грозил унылый ряд веков». Что для падшего духа – века, то для человека – годы; пространство времени обширнее, но свойство жизни, в большем или меньшем времени совершающейся, одинаково: это свойство – уныние. Сея зло без наслаждения. Демон наскучил злом. Скука – болезнь его, наравне с душевными болезнями такой человеческой природы, какою одарены Арбенин, Измаил и Печорин. С гордостию смотрел злой дух на творение, и при этом взгляде на чаде его не отражалось ничего, кроме холодной зависти:
Природы блеск не возбудил
В груди изгнанника бесплодной
Ни новых чувств, ни новых сил,
И все, что пред собой он видел,
Он презирал, он ненавидел.
В бесплодной груди Измаила не зараждается также ничего, кроне ненависти и презрения. К тому же он и «изгнанник», только из родины, а не с неба; но для падшего ангела небо было родиной. Оба они, и Демон и Измаил, страдают сомнением, горький плод которого – бессмертная мысль, неизбежная дума. Им желалось бы «забыть незабвенное», но где взять для этого сил? Что Арбенин говорил о себе Нине, то самое, почтя теми же словами, говорит Тамаре Демон:
Какое горькое томленье
Жить для себя, скучать собой
И этой долгою борьбой,
Без торжества, без примиренья,
Всегда желать и не желать,
Все знать, все чувствовать, все видеть
И все на свете презирать.
Минуты страданий Измаила, стоящие веков печали, испытываются и Демоном в большей еще силе, невыносимой для человеков:
Что повесть тягостных лишений,
Трудов и бед толпы людской,
Грядущих, прошлых поколений
Перед минутою одной
Моих непризнанных мучений!
Наравне с Печориным, Измаилом и Арбениным, Демон Лермонтова способен пробуждаться для чувств: при виде княжны Тамары он ощутил в себе «неизъяснимое волнение». Образ его отмечен тою красотою, которой неизменная мысль как особенный блеск: