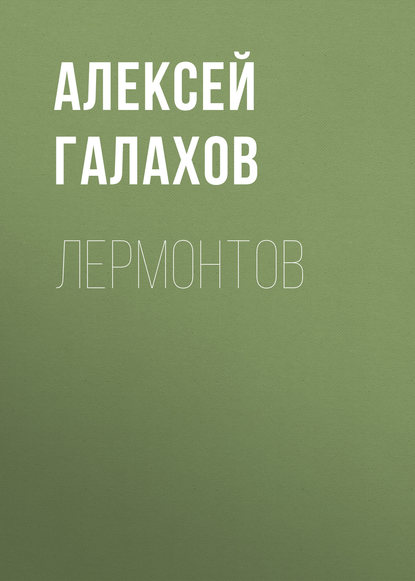По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лермонтов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И тот, кто крик сей услыхал,
Подумал верно, иль сказал,
Что дважды из груди одной
Не вылетает звук такой.
Стихи эти заимствованы из того места Конрада, где он тушит лампаду и тем дает знать Альдоне о своей гибели. Но Мицкевич в свою очередь подражал Паризине:
Какой это мучительный крик рассек воздух – крик ужаса и безумия, подобный воплю матери, которой дитя поражено внезапным и смертельным ударом! Он восходит к небу, как стон души, пытаемой адским мучением. То был крик женщины; никогда отчаяние не исторгало ужаснейшего, и все, его слышавшие, пожелали, чтоб он был последний.
Картину запустения Гассанова дворца, по смерти Лейлы (в поэме Гяур), Лермонтов перенес в поэму Демон, разумеется с изменениями, при описании замка, в котором жил отец Тамары, Гудал. Как там «отшельник-паук медленно растягивает по стенам свою широкую сеть», так и здесь
Седой паук, отшельник новый,
Прядет сетей своих основы.
Несмотря на различие обстоятельств, тон описания умершей Тамары, её похорон и могилы, напомнит читателю те же самые предметы в Абидосской невесте, при описании смерти Зюлейки.
Относительно постройки пиес должно указать на сходство Измаил-Бея с Ларой, одной из самых замечательных личностей, созданных Байроном. Измаил и Лара, оба воротились на родину после долгого отсутствия; оба облечены в какую-то таинственность. Лермонтов особенно интересовался изгнанниками или скитальцами, находя в них, вероятно, известное отношение к своей судьбе. Он и себя самого называет странником, подобным Байрону, который в странствовании Чайльд-Гарольда изобразил значительную долю своей личности. Калед, паж Лары, соответствует юноше Селиму, разделявшему военные труды и опасности Измаила. Тот и другой – переодетые женщины; имя первой неизвестно, имя второй Зара. Сцена, когда Калед находится безотлучно при умирающем Ларе, есть и в Измаиле, который тоже ранен и за которым ухаживает Зара. Эццелин, незнакомец, явившийся на праздник в замке Лары, напоминает Неизвестного в Маскараде.
Сонет поэмы Боярин Орша, по отношениям между главными действующими лицами, подходить и к Абидосской Невесте и к Паризине. Арсений, которого Орша взял к себе ребенком и отдал под строгий надзор иноков, и к которому он обращается с такими жестокими словами:
……найденыш без креста,
Презренный раб и сирота,
представляет Селима, сына Абдаллы, отравленного родным его братом Гиафиром. Гиафир также клеймит Селима позорными названиями: «сын рабы, сын жены неверной». Любовь Зюлейки к Селиму, раздражившая отца её Гиафира, то же что любовь дочери Орши к Арсению, возбудившая ужасное мщение отца. Прибавим, что Арсений – атаман разбойничьей шайки, как Селим предводитель пиратов.
Но отношения Орши к Арсению находят более близкий образец в Паризине. Как Арсений похож характером на Оршу, при всем различии лет и отсутствии родственных связей; так Гуго, побочный сын Азо, похож на своего отца: «Вот плод твоей незаконной любви», говорит судимый сын отцу обвинителю: – «она наказала тебя, даровав тебе сына, совершенно на тебя похожого! Подобно твоей, моя душа не терпит никакого ига!» Гуго свел преступную связь с Паризиной, женою своего отца; Арсений влюблен в дочь Орши. Над обоими производится суд. Паризина не вынесла казни, которой была свидетельницей, равно как и дочь Орши не вынесла угрюмого взгляда отца.
Мцыри, как мы уже видели, двойник Арсения и по характеру и по некоторым обстоятельствам жизни. Сходство обнаруживается кроме того многими местами рассказа, выражаемого иногда одинаковыми стихами. Но самое содержание и тон рассказа заставляют видеть в Мцыри подражание Мазепе и еще более Шильйоскому Узнику. В первой поэме представлены ощущения, испытанные Мазепою в то время, как дикий конь мчал сгопо степи и в лесу; во второй поэме ощущения, испытанные узником в долголетнее его заключение. Так и Мцыри есть повесть впечатлений, которые пережила душа юного послушника вне монастырских стен, на воле и просторе. Самая форма рассказа – одни мужские стихи (которые Лермонтов разнообразит иногда вставкою немногих женских) – одинакова в в Узнике и Мцыри.
Желая показать, на сколько подражание имело место в создании главного лица, заметим, что нельзя думать, будто каждый характер, выведенный Лермонтовым, есть снимок с одного какого-нибудь характера в творениях Байрона. Процесс подражания совершался иначе. Поэт наш или соединял в один образ черты, принадлежащие разным личностям, или свойствами, как составными элементами одной и той же личности, наделял разных героев. При таком способе действия образ мог бы выйти не органическим и следовательно не поэтическим; но как между героями Лермонтова нет существенного различия, так и герои Байрона существенно сходны между собою: все они, говорит Вальтер Скотт, Чайльд-Гарольды. Суждение это относится и к Лермонтову: все его создания – Печорины. Единый тип, у обоих поэтов, сохраняет свои неприкосновенность при всем различии возрастов, общественного положения, времени и места. Различия эти не что иное, кат Формы, в которые воплотился один и тот же идеал.
Измаил-Бей и Арбенин (в Маскараде) легко распознаете! в Манереде и Ларе. Чело Манфреда покрыто морщинами и волосы побелели, но не от времени: он едва достиг зрелого возраста, и аббат удивляется в нем сочетанию юности тела с отжившим сердцем: короче, это – старик для чувств и наслажденья, без седины между волос, как сказано в Измаиле. бессменная мысль – такое же мучение Манфреда, как и наших двух героев: а мое усыпление (говорит он) не сон, а продолжение непрерывной моей мысли. Таинственный голос поет ему: «в недрах самого глубокого сна твой дух будет бодрствовать: есть тени, которым не исчезнуть! есть мысли которых не прогнать!» Страдания Манфреда бессмертного свойства: другие не вынесли бы того и в сновидении, что он выносит наяву. В сердце его нет ни надежды, ни желания, ни остатка любви, к чему бы то ни было. Потребность жизни давно и навсегда им утрачена: когда гении предлагают ему власть могущество, долгие дни, он отвечает: что мне в долгих днях? Мои и так тянутся слишком долго. Не знаю, говорил он в другом месте, какою властию осужден я на существование, если только существовать значит носить в себе бесплодное сердце, быть могилою собственной души.
Измаил, муж судьбы, на ряду с Печориным и Арбениным, с тяжелым чувством признается Заре, что все его любящее увлечено за ним невольно, что его дыхание губит радость, что ему не дано власти щадить. Такова же исповедь и Манфреда, существа рокового: «Удары мои падали на тех, кто любил меня, кого любил я наиболее; мои объятия были роковые.» И не только объятия, но и страдания были роковые, ему самому и другим. Но разве одни, его любящие и любимые им, испытывают тяжесть этого гибельного могущества? Нет: я подобен пустынному ветру, которого дыхание палит и пожирает, который живет только в пустыне, дует только на бесплодных песках, гуляет на диких волнах его; никого не ищет он, если его никто не ищет, но его прикосновение смертельно всему, что с ним ни встретится.
Лара тоже в силе, если не в цвете возраста, хотя утомление и время провели на челе его морщины – печать потухших страстей, честолюбия, славы, любви, волновавших некогда его сердце. В груди его, равно как в груди героев Лермонтова, бывает возврат глубоких и необъяснимых чувств, которыми на мгновение освещается мрачный его образ. Он горд, но не гордостию пылких лет: холодный вид, презрение к хвале и сарказм, поражающий сердце язвительными стрелами – вот что замечают в Ларе, и однако ж юность его была не такова. (Но разве таковы были сначала Арбенин, Печорин и Радин, несмотря на свою молодость?) В юности Лара кипел деятельностию и жизнию, жадный к удовольствиям, не презирающий битв; женщины, поле сражения, океан, все, что обещало наслаждения или опасности, испытано им поочередно; он искал награды не в однообразной и холодной среде, а в избытке радости или скорби: только в напряженности волнения находил он приют от своей мысли. Буря его сердца с презрением улыбалась легкому столкновению стихий; доводя все до излишка, невольник всех крайностей, как он воспрянул от чудовищного сна? Увы, он молчит об этом, но он проснулся для того единственно, чтобы проклинать увядшее сердце, которое не хотело сокрушиться в конец.
Таково свойство всех людей подобного рода, которые, как сказано в Измаиле, «хотят превзойти ближних в добре и зле», не по гордости только, но и по стремлению к крайностям. Фея называет Манфреда «человеком крайностей в добре и зле» Вспомните Арбенина и Печорина: последнему за его крайние переходы из одной противоположности в другую удивлялся Максим Максимыч, и видел в этом признак крайне странного человека. Этою чертой он снова примыкает к Ларе, который иногда превосходил веселостию самый веселый круг; но при дальнейшем наблюдении оказывалось, что улыбка его, мало-помалу исчезая, обращалась в сарказм. Ни ему, ни другим его братьям по духу, мрачным и печальным фигурам, смех вообще не приличен. Малейшую сердечную слабость Лара подавлял, как недостойную своей могучей и гордой природы. Он как бы обрек себя добровольному наказанию за то, что в былое время сердечные привязанности возмущали его покой: то был муж постоянно бодрствующей скорби, осужденный ненавидеть, потому что много любил. Поставив, вместо «любви и ненависти», «верование и неверие», мы получим известные уже нам стихи из Орши;
Добру давно не верил он,
Не верил только потому,
Что верил некогда всему,
или такие же стихи из поэмы Измаил:
Боялся верить только потому,
Что верил некогда всему.
Герои Байрона и Лермонтова не следуют в жизни проложенными путями: гордая душа их (берем в пример Лару) не в силах низойти до обыкновенных размеров эгоизма; они умеют иногда жертвовать своими интересами в пользу других, но не из сожаления или чувства долга, а по какой-то исключительной превратности ума, который побуждает их делать именно то, чего другой не захотел бы сделать на их месте. Вследствие этого они или возвышаются над людьми, или нисходят на низшие ступени. Так им нравится резкое отличие от всего, их окружающего. Другой пример – Манфред, раскрывающий таким образом особенность своего характера: «С самой юности рассудок мой уклонялся от обычного пути людей; я смотрел на землю не их, а иными глазами. Их честолюбие не было моим честолюбием; цель их существования не была моею целью; моя радости, печали, страсти, дух, все из меня делало им чуждого.»
В этом желании вознестись над породою обыкновенных смертных, конечно, участвует наиболее дух высокомерия. Гордость – общее достояние Манфреда, Гяура, Гуго, Альпа, Люцифера, Прометея. Непреклонные и независимые, они не умеют ни вздыхать, ни жаловаться; они способны только получать желаемое, или умирать. Какое бы огорчение ни лежало на душе их, душа не унижается пред толпою. Прометеи нового мира, они страшатся только одного, чтобы небо не узнало их страданий, чтобы самое эхо не подслушало их болезненных стонов.
А между тем страдания так ужасны, что самые камни могли бы вопиять о них. Нет пыток, равных казни, на которую душа их осуждена собственным своим судом. Их ад внутри их самих, что и говорит Маферед аббату. Он уподобляет себя древесному стволу, пораженному на проклятом корне, годном только на то, чтобы давать чувствовать чувство разрушения. Сильнейшие муки ничто в сравнении с душевною пустынею Гяура, с отчаянием и скукою ничем не занятого сердца. Тоска Селима тяжелее самого безумия; это червь вечно бодрствующий, никогда ни умирающий; это мысль, омрачающая сияние солнца: она страшится тени, бежит света, вращается вокруг бьющагося сердца и неумолимо терзает его. Азо не знал ни слезы, ни улыбки; на величественном челе его горячая соха скорби преждевременно провела морщины, эти раны измученной души; ему остались бессонные ночи, тяжкие дни, сердце мертвое к осуждению и похвале, сердце, убегающее себя самого, неспособное ни к смирению, ни к забвению, и преданное в жертву мыслям, в добычу самым напряженным волнением. Покой – заветный эдем их, врата которого не растворяются пред ними. Он больше чем эдем. Я не хочу блаженства избранных, восклицает Манеред: мне нужен покой, а не рай. Так и Лермонтов искал «свободы и покоя», хотя тревожная натура не мирится даже и с предметом своего пламенного желания, утверждая, что ей не надобно «покоя, мира и забвения».
Последнюю несостоятельность зла Манеред видит в том, что он отказался от оправдания своих поступков перед самим собою. Но если не оправдывать, то надобно по крайней мере объяснить такие характеры, каковы Манеред и Лара. О первом из них аббат отзывается следующим образом: «этот человек мог бы быть благородным созданием. У него есть сила, которая могла бы произвести прекрасное целое при разумном сочетании элементов. В настоящем же своем составе, эти элементы – ужасный хаос, смутная смесь тени и света, духа и праха, страстей и чистых мыслей, преданных необузданной борьбе, иногда недеятельных, иногда разрушительных.» Лара, как Печорин и Арбенин, слагал ответственность на природу и судьбу: «сохраняя гордость и отказываясь обвинять самого себя, он приписывав свои проступки телесной ободочке, которую природа даровала в пищу червям и в темницу душе; наконец он уже не различав добра от зда, и действия води принимав за творения судьбы.»
В предыдущей статье было замечено, что на всех «роковых» лицах, представленных Лермонтовым, лежит печать демонизма. То же видим и в героях Байрона. Таков, например, Гяур: «если когда-нибудь дух тьмы принимал на себя человеческий образ, то верно принимав он образ Гяура, который не принадлежит ни земле, ни небу.» Демон Лермонтова – этот нини б ангел-небожитель, ужасный дух ада – не тот же ли Гяур? На челе его печать проклятия – Каинова печать, начертанная такими буквами, которых не стирает время. Существа, в роде Гяура, занимают как бы серединное место между духами света и духами тьмы: это – Каины, любящие беседовать с Люцифером. А сам Люцифер (в поэме Байрона: Каин) красотою своею напоминает красоту Арсения, «которой блеск печальный свой мысль неизменная дала.» Половину его бессмертия составляет горесть. Вечность и могущество не принесли ему счастья. На вопрос Каина: «счастливы ли вы?» он отвечает: «нет».
Некоторые черты Конрада взяты для портрета Печорина: он крепкого телосложения, хотя и не владеет геркулесовскою силою; рост его обыкновенный, в нем есть нечто благородное отличающее его от толпы; наружность его высказывает приличие и осторожность, которая как бы избегает взоров и внушает почтение и страх; взгляд надменный, не допускающий фамильярности и вместе с тем не преступающий обычной вежливости. Этими-то средствами приобрел он повиновение своей шайки. Хотелось ли ему нравиться, – он умел с таким искусством владеть собою, что его мягкость изгоняла страх из сердца тех, кто внимал ему; никакая любезность других не могла равняться прелести его речей, и нежные звуки его голоса, как бы от души идущие, производили неотразимое обаяние. Что Радин говорит княгине Вере (драма: Два Брата), а Печорин княжне Мери, оба оправдывая свой характер и поступки, то частию находим в изображении свойств Конрада: природа не назначила ему повелевать отверженцами общества, быть ужаснейшим орудием преступления; душа его претерпела великия перемены, прежде чем он вступил в открытую войну с людьми и сделался вероломным перед небом. Свет обманул его; непреклонный и гордый, он не мог склоняться перед другими и побеждать самого себя; даже добродетели его содействовали разочарованию и обману: он проклял их, как причину своих бедствий, вместо того, чтобы обвинять вероломных изменников. Если ненависть блистала в зловещем взоре Конрада, надобно было сказать «прости» надежде и жалости. Так и Арбенин, оскорбленный, не знает ни прощения, ни жалости: цель и закон его в то время – единственно мщение. Аристократизм наружности, равно как и происхождения, ценится и Байроном и Лермонтовым: в Конраде есть нечто отличное от толпы; вид Мансреда обнаруживает знатность рода; у Печорина была маленькая «аристократическая» ручка, и черные усы его и брови, при светлом цвете его волос, служили знаком хорошей породы.
Тревога и волнение врожденны всем исчисленным нами лицам. Они невольные скитальцы: природа и судьба вручает им страннический посох. То чувство, которое выражено Лермонтовым в Парусе и которое объясняется инстинктивным влечением к беспокойству, живет в сердце Чайльд-Гарольда: «я морская трава, брошенная с вершины скалы на пенистые волны океана, плывущая повсюду, куда увлекает ее течение воды, повсюду, куда несет ее дыхание бури…» «Для деятельных душ покой есть ад… и это-то было причиною моей гибели. Есть душевный огонь, который не остается в тесных пределах своих, но порывается постоянно переступить черту умеренности; воспламененный, он не потухает более; ему нужна отважная судьба; он утомляется покоем; он под властию внутренней лихорадки, роковой для всех, кого она пожирает…» «Самые смелые морские плавателя направляют свой парус к гостеприимной пристани; но есть пловцы, заблудившиеся на волнах вечности: корабль их плывет все далее и далее, нигде не бросая якоря.» Другими словами, но то же самое говорит Печорин в заключении повести Княжна Мери. Мы выписали их в предыдущей статье.
Таким образом все черты характера, нами представленного: разочарование, апатия, скука, преждевременное знание, перевес духа над телом, неумирающая мысль, как главная причина мучительных, убийственных страданий, непреклонная гордость, роковая сила судьбы и природы, несмиряемое волнение жизни, демонизм… являются в различных по имени, во тождественных по значению героях Байрона: Ларе, Конраде, Альпе, Азо, Гуго, Гяуре, Селиме, Манфреде, Каине и Люцифере. Отсюда перешли они в создания Лермонтова – Оршу, Арсения, Мцыри, Арбенина, Хаджи-Абрека, Измаила-Бея, Печорина, Демона, тоже неодинаковые именем, но одинаковые сущностью. Как первые могут быть названы видоизменениями Чайльд-Гарольда, так и вторые суть в большей или меньшей степени Печорины. И как сам Байрон отразился в лице Чайльд-Гарольда, что, между прочим, можно заключить и по лирическим его пиесам, так и лицо Печорина есть отражение Лермонтова, как позволено утверждать на основании лирических же стихотворений нашего поэта.
Поэтому вопрос о значении поэзии Лермонтова обращается в вопрос о значении поэзии Байрона или Байроновской. Название это, характеризуя известное поэтическое направление, господствовавшее в первые десятилетия нашего века, заимствовано от имени лица, в творениях которого выразилась с наибольшею полнотою и силою сущность направления. Не Байрон начал его, но он – главный его представитель.
Если, по выражению Гервинуса, каждое новое время заводит новые песни, то, конечно, таким, по преимуществу, новым временем был конец XVIII и начало XIX века. Им завершился прежний порядок вещей.
Значение этой реформы, начатой еще прежде XVIII века, но совершенной XVIII веком, заключается в устранении того, что препятствовало естественному и полному развитию человеческой личности. Из области мысли и чувства изгнаны были все побуждения, которые не подлежали сознательному анализу. Разум явился главным судиею общественных и частных дел. Все, ему противоречащее, отвергалось как заблуждение, преследовалось как неправда; все, согласное с его законами, принималось как истина, ценилось как право. Сущность просвещения, умственного направления эпохи, долженствовала выразиться такою формулой: существует и обязывает лишь то, что сознается и предписывается разумом.
Так как личность задерживалась в своем развитии средневековыми авторитетами, то, для её освобождения, восьмнадцатый век вооружился началом противоположным, отвержением авторитетов. Самый принцип авторитета был потрясен в своем основании. Вражда к тому, перед чем дотоле благоговели, равно простерлась и на предметы, оказавшиеся действительно несостоятельными, и на предметы, удержавшие при себе истинное содержание. Дух времени действовал только разрушительно, извергая, вместе с гнилыми элементами, и элементы истинные, здоровые и крепкие.
Борьба средневековых начал с руководительным началом XVIII то века, борьба авторитета и разума, предания и сознания, проникла всюду. С одной стороны явились усилия защитить неприкосновенность старого, с другой – стремительный напор уничтожить его. Между ними нашлось место и для третьей партии, как переходного члена от старого к новому, бессильного впрочем для примирения враждующих.
Но дело разрушения отстоит еще далеко от дела созидания. Если борьба старого с новым, кончившаяся торжеством последнего, не оставила на месте битвы ничего, хроме развалин или пустоты, положение общества принадлежит к самым печальным историческим явлениям. За отрицанием должно следовать положение. Без начала, без основного убеждения не возникает и не держится ничего.
Девятнадцатый век открывается именно шаткостию состояния. С одной стороны отринутый авторитет; с другой начало нового порядка, не определенное в правах и границах, не вступившее в полноту устрояющего действия и может-быть еще надолго обреченное неустройству. Заметим вообще, что как бы ни был велик нравственный момент в жизни народа, возносящий его над эгоизмом и подвигающий его к героическим жертвам, он, как момент, не представляет сильных ручательств в своей благонадежности. Дух народа облагораживается только оседлостию нравственных начал и основанных на них государственных учреждений. И здесь привычка составляет вторую натуру. При одновременном же, спешном самооблегчении дух человеческий весьма часто теряет центр тяжести и становится способным к частым падениям. Вследствие указанных причин водворилось в жизни своего рода временное правление, которому предстояло много забот. Эпоха, отмеченная характером такого смутного и печального провизория, носит обыкновенно название эпохи переходной[1 - Geschichte der franz?sischen National-Litteratur (1789-1837), v. Mager, 1837. Erster Band. – Gesch. der franz. Liter. 1789, von Julian Schmidt, 1857. Erste Lieferung.].
В переходные эпохи историческое существование народов переживает такой же перелом, какой совершается и в жизни отдельного человека, когда он из бессознательного возраста вступает в период сознании, период разрыва между прошлым, которое коренилось на авторитете, и будущим, где авторитет утрачивает свою непогрешимость и силу. Сумрачное состояние духа, необходимое при таком разрыве, в котором, по словам поэта, мы лишаемся прежней цели надежд, не имея цели новой, есть, по учению прогрессистов, предвестие света, более блистательного, потому что он более истинен. За сумраком последует не ночь, а рассвет. Солнце, временно западающее, восстанет снова и несомненно. Так и во временном сумраке переходных эпох человечества. Потрясения внутренния и внешния подобны мукам родов, предвещающим нового человека, грядущего в мир. Когда падают авторитеты, как падали кумиры богов в языческих храмах, тогда потрясенное общество имеет действительно вид храма, в котором, как сказал Мицкевич, «жить боги не хотят, а человек не смеет». Но рано или поздно храм должен населиться, общество должно устроиться. Каждый мыслящий знает это, и время поможет его незнанию.
Как отразилось действие переворота на людях, захваченных его потоком? Каково было духовное настроение молодого поколения, поколения переходной эпохи, увидевшего себя на развалинах прежнего общества?
При умственной пытливости исчезла вера в прежние идеалы, но и не установилась еще твердая уверенность в истине идеалов новых. Разрушительная сила совершила свой подвиг; дело силы созидающей крылось в будущем: дух сомнения овладел человеком, у которого было много предметов искомых, и мало предметов найденных.
Желание подвергнуть все бывшее и существующее критике мысли развило в сильнейшей степени способность аналитическую. Не только исторические явления, но и малейшие действия и чувства отдельного человека подвергались умственному суду.
Долговременною борьбою с авторитетом приобретен навык в искусстве отвержения и непризнания. К предметам своего исследования анализ становился большею частию отрицательно и сделался силен отрицанием.
Замечая вокруг себя или ослабленные, или окончательно павшие основы прежней жизни, мысль не знает на чем утвердиться, тогда как в человеке существует врожденная потребность твердых начал: отсюда – отчаяние, высшая степень духовной болезни, её кризис, за которым должны следовать или здоровый исход или неминуемая смерть.
При сомнении во всем, что было прежде предметом твердых убеждений и сладостных верований, нет места покою, наслаждениям мирной жизни: отсюда – волнения, тревоги.
Разочарованные во всем, что прежде так легко и так приятно очаровывало, многие пытались обратиться назад, вступит снова в ту область, из которой вышли собственною волею: плодом попыток было горько-безплодное сожаление о старине.
Другие, при неполном разуверении, вкусили еще более горький плод – чувство мертвенного равнодушие, апатии. Они предоставили судьбе вести дело, куда ей угодно и как она умеет.
Эта апатия имела своим источником сколько сознание невозможности что-нибудь сделать, столько же и неспособность ха делу. Усиленное развитие ума, постоянное стремление к анализу и критике сообщили мыслящей силе человека чрезмерный перевес над его силою деятельною, волею. Свежесть и энергия жизни понижались соразмерно возвышению умственной пытливости. Человек стал нерешителен, раздумчив, осторожен, боязлив. На значительную сумму колебаний и сомнений приходилось мало твердого желания, еще меньше решительного действия.
От преждевременного знания жизни и неспособности к жизни деятельной произошла скука, эпидемическая болезнь переходного времени.
Подумал верно, иль сказал,
Что дважды из груди одной
Не вылетает звук такой.
Стихи эти заимствованы из того места Конрада, где он тушит лампаду и тем дает знать Альдоне о своей гибели. Но Мицкевич в свою очередь подражал Паризине:
Какой это мучительный крик рассек воздух – крик ужаса и безумия, подобный воплю матери, которой дитя поражено внезапным и смертельным ударом! Он восходит к небу, как стон души, пытаемой адским мучением. То был крик женщины; никогда отчаяние не исторгало ужаснейшего, и все, его слышавшие, пожелали, чтоб он был последний.
Картину запустения Гассанова дворца, по смерти Лейлы (в поэме Гяур), Лермонтов перенес в поэму Демон, разумеется с изменениями, при описании замка, в котором жил отец Тамары, Гудал. Как там «отшельник-паук медленно растягивает по стенам свою широкую сеть», так и здесь
Седой паук, отшельник новый,
Прядет сетей своих основы.
Несмотря на различие обстоятельств, тон описания умершей Тамары, её похорон и могилы, напомнит читателю те же самые предметы в Абидосской невесте, при описании смерти Зюлейки.
Относительно постройки пиес должно указать на сходство Измаил-Бея с Ларой, одной из самых замечательных личностей, созданных Байроном. Измаил и Лара, оба воротились на родину после долгого отсутствия; оба облечены в какую-то таинственность. Лермонтов особенно интересовался изгнанниками или скитальцами, находя в них, вероятно, известное отношение к своей судьбе. Он и себя самого называет странником, подобным Байрону, который в странствовании Чайльд-Гарольда изобразил значительную долю своей личности. Калед, паж Лары, соответствует юноше Селиму, разделявшему военные труды и опасности Измаила. Тот и другой – переодетые женщины; имя первой неизвестно, имя второй Зара. Сцена, когда Калед находится безотлучно при умирающем Ларе, есть и в Измаиле, который тоже ранен и за которым ухаживает Зара. Эццелин, незнакомец, явившийся на праздник в замке Лары, напоминает Неизвестного в Маскараде.
Сонет поэмы Боярин Орша, по отношениям между главными действующими лицами, подходить и к Абидосской Невесте и к Паризине. Арсений, которого Орша взял к себе ребенком и отдал под строгий надзор иноков, и к которому он обращается с такими жестокими словами:
……найденыш без креста,
Презренный раб и сирота,
представляет Селима, сына Абдаллы, отравленного родным его братом Гиафиром. Гиафир также клеймит Селима позорными названиями: «сын рабы, сын жены неверной». Любовь Зюлейки к Селиму, раздражившая отца её Гиафира, то же что любовь дочери Орши к Арсению, возбудившая ужасное мщение отца. Прибавим, что Арсений – атаман разбойничьей шайки, как Селим предводитель пиратов.
Но отношения Орши к Арсению находят более близкий образец в Паризине. Как Арсений похож характером на Оршу, при всем различии лет и отсутствии родственных связей; так Гуго, побочный сын Азо, похож на своего отца: «Вот плод твоей незаконной любви», говорит судимый сын отцу обвинителю: – «она наказала тебя, даровав тебе сына, совершенно на тебя похожого! Подобно твоей, моя душа не терпит никакого ига!» Гуго свел преступную связь с Паризиной, женою своего отца; Арсений влюблен в дочь Орши. Над обоими производится суд. Паризина не вынесла казни, которой была свидетельницей, равно как и дочь Орши не вынесла угрюмого взгляда отца.
Мцыри, как мы уже видели, двойник Арсения и по характеру и по некоторым обстоятельствам жизни. Сходство обнаруживается кроме того многими местами рассказа, выражаемого иногда одинаковыми стихами. Но самое содержание и тон рассказа заставляют видеть в Мцыри подражание Мазепе и еще более Шильйоскому Узнику. В первой поэме представлены ощущения, испытанные Мазепою в то время, как дикий конь мчал сгопо степи и в лесу; во второй поэме ощущения, испытанные узником в долголетнее его заключение. Так и Мцыри есть повесть впечатлений, которые пережила душа юного послушника вне монастырских стен, на воле и просторе. Самая форма рассказа – одни мужские стихи (которые Лермонтов разнообразит иногда вставкою немногих женских) – одинакова в в Узнике и Мцыри.
Желая показать, на сколько подражание имело место в создании главного лица, заметим, что нельзя думать, будто каждый характер, выведенный Лермонтовым, есть снимок с одного какого-нибудь характера в творениях Байрона. Процесс подражания совершался иначе. Поэт наш или соединял в один образ черты, принадлежащие разным личностям, или свойствами, как составными элементами одной и той же личности, наделял разных героев. При таком способе действия образ мог бы выйти не органическим и следовательно не поэтическим; но как между героями Лермонтова нет существенного различия, так и герои Байрона существенно сходны между собою: все они, говорит Вальтер Скотт, Чайльд-Гарольды. Суждение это относится и к Лермонтову: все его создания – Печорины. Единый тип, у обоих поэтов, сохраняет свои неприкосновенность при всем различии возрастов, общественного положения, времени и места. Различия эти не что иное, кат Формы, в которые воплотился один и тот же идеал.
Измаил-Бей и Арбенин (в Маскараде) легко распознаете! в Манереде и Ларе. Чело Манфреда покрыто морщинами и волосы побелели, но не от времени: он едва достиг зрелого возраста, и аббат удивляется в нем сочетанию юности тела с отжившим сердцем: короче, это – старик для чувств и наслажденья, без седины между волос, как сказано в Измаиле. бессменная мысль – такое же мучение Манфреда, как и наших двух героев: а мое усыпление (говорит он) не сон, а продолжение непрерывной моей мысли. Таинственный голос поет ему: «в недрах самого глубокого сна твой дух будет бодрствовать: есть тени, которым не исчезнуть! есть мысли которых не прогнать!» Страдания Манфреда бессмертного свойства: другие не вынесли бы того и в сновидении, что он выносит наяву. В сердце его нет ни надежды, ни желания, ни остатка любви, к чему бы то ни было. Потребность жизни давно и навсегда им утрачена: когда гении предлагают ему власть могущество, долгие дни, он отвечает: что мне в долгих днях? Мои и так тянутся слишком долго. Не знаю, говорил он в другом месте, какою властию осужден я на существование, если только существовать значит носить в себе бесплодное сердце, быть могилою собственной души.
Измаил, муж судьбы, на ряду с Печориным и Арбениным, с тяжелым чувством признается Заре, что все его любящее увлечено за ним невольно, что его дыхание губит радость, что ему не дано власти щадить. Такова же исповедь и Манфреда, существа рокового: «Удары мои падали на тех, кто любил меня, кого любил я наиболее; мои объятия были роковые.» И не только объятия, но и страдания были роковые, ему самому и другим. Но разве одни, его любящие и любимые им, испытывают тяжесть этого гибельного могущества? Нет: я подобен пустынному ветру, которого дыхание палит и пожирает, который живет только в пустыне, дует только на бесплодных песках, гуляет на диких волнах его; никого не ищет он, если его никто не ищет, но его прикосновение смертельно всему, что с ним ни встретится.
Лара тоже в силе, если не в цвете возраста, хотя утомление и время провели на челе его морщины – печать потухших страстей, честолюбия, славы, любви, волновавших некогда его сердце. В груди его, равно как в груди героев Лермонтова, бывает возврат глубоких и необъяснимых чувств, которыми на мгновение освещается мрачный его образ. Он горд, но не гордостию пылких лет: холодный вид, презрение к хвале и сарказм, поражающий сердце язвительными стрелами – вот что замечают в Ларе, и однако ж юность его была не такова. (Но разве таковы были сначала Арбенин, Печорин и Радин, несмотря на свою молодость?) В юности Лара кипел деятельностию и жизнию, жадный к удовольствиям, не презирающий битв; женщины, поле сражения, океан, все, что обещало наслаждения или опасности, испытано им поочередно; он искал награды не в однообразной и холодной среде, а в избытке радости или скорби: только в напряженности волнения находил он приют от своей мысли. Буря его сердца с презрением улыбалась легкому столкновению стихий; доводя все до излишка, невольник всех крайностей, как он воспрянул от чудовищного сна? Увы, он молчит об этом, но он проснулся для того единственно, чтобы проклинать увядшее сердце, которое не хотело сокрушиться в конец.
Таково свойство всех людей подобного рода, которые, как сказано в Измаиле, «хотят превзойти ближних в добре и зле», не по гордости только, но и по стремлению к крайностям. Фея называет Манфреда «человеком крайностей в добре и зле» Вспомните Арбенина и Печорина: последнему за его крайние переходы из одной противоположности в другую удивлялся Максим Максимыч, и видел в этом признак крайне странного человека. Этою чертой он снова примыкает к Ларе, который иногда превосходил веселостию самый веселый круг; но при дальнейшем наблюдении оказывалось, что улыбка его, мало-помалу исчезая, обращалась в сарказм. Ни ему, ни другим его братьям по духу, мрачным и печальным фигурам, смех вообще не приличен. Малейшую сердечную слабость Лара подавлял, как недостойную своей могучей и гордой природы. Он как бы обрек себя добровольному наказанию за то, что в былое время сердечные привязанности возмущали его покой: то был муж постоянно бодрствующей скорби, осужденный ненавидеть, потому что много любил. Поставив, вместо «любви и ненависти», «верование и неверие», мы получим известные уже нам стихи из Орши;
Добру давно не верил он,
Не верил только потому,
Что верил некогда всему,
или такие же стихи из поэмы Измаил:
Боялся верить только потому,
Что верил некогда всему.
Герои Байрона и Лермонтова не следуют в жизни проложенными путями: гордая душа их (берем в пример Лару) не в силах низойти до обыкновенных размеров эгоизма; они умеют иногда жертвовать своими интересами в пользу других, но не из сожаления или чувства долга, а по какой-то исключительной превратности ума, который побуждает их делать именно то, чего другой не захотел бы сделать на их месте. Вследствие этого они или возвышаются над людьми, или нисходят на низшие ступени. Так им нравится резкое отличие от всего, их окружающего. Другой пример – Манфред, раскрывающий таким образом особенность своего характера: «С самой юности рассудок мой уклонялся от обычного пути людей; я смотрел на землю не их, а иными глазами. Их честолюбие не было моим честолюбием; цель их существования не была моею целью; моя радости, печали, страсти, дух, все из меня делало им чуждого.»
В этом желании вознестись над породою обыкновенных смертных, конечно, участвует наиболее дух высокомерия. Гордость – общее достояние Манфреда, Гяура, Гуго, Альпа, Люцифера, Прометея. Непреклонные и независимые, они не умеют ни вздыхать, ни жаловаться; они способны только получать желаемое, или умирать. Какое бы огорчение ни лежало на душе их, душа не унижается пред толпою. Прометеи нового мира, они страшатся только одного, чтобы небо не узнало их страданий, чтобы самое эхо не подслушало их болезненных стонов.
А между тем страдания так ужасны, что самые камни могли бы вопиять о них. Нет пыток, равных казни, на которую душа их осуждена собственным своим судом. Их ад внутри их самих, что и говорит Маферед аббату. Он уподобляет себя древесному стволу, пораженному на проклятом корне, годном только на то, чтобы давать чувствовать чувство разрушения. Сильнейшие муки ничто в сравнении с душевною пустынею Гяура, с отчаянием и скукою ничем не занятого сердца. Тоска Селима тяжелее самого безумия; это червь вечно бодрствующий, никогда ни умирающий; это мысль, омрачающая сияние солнца: она страшится тени, бежит света, вращается вокруг бьющагося сердца и неумолимо терзает его. Азо не знал ни слезы, ни улыбки; на величественном челе его горячая соха скорби преждевременно провела морщины, эти раны измученной души; ему остались бессонные ночи, тяжкие дни, сердце мертвое к осуждению и похвале, сердце, убегающее себя самого, неспособное ни к смирению, ни к забвению, и преданное в жертву мыслям, в добычу самым напряженным волнением. Покой – заветный эдем их, врата которого не растворяются пред ними. Он больше чем эдем. Я не хочу блаженства избранных, восклицает Манеред: мне нужен покой, а не рай. Так и Лермонтов искал «свободы и покоя», хотя тревожная натура не мирится даже и с предметом своего пламенного желания, утверждая, что ей не надобно «покоя, мира и забвения».
Последнюю несостоятельность зла Манеред видит в том, что он отказался от оправдания своих поступков перед самим собою. Но если не оправдывать, то надобно по крайней мере объяснить такие характеры, каковы Манеред и Лара. О первом из них аббат отзывается следующим образом: «этот человек мог бы быть благородным созданием. У него есть сила, которая могла бы произвести прекрасное целое при разумном сочетании элементов. В настоящем же своем составе, эти элементы – ужасный хаос, смутная смесь тени и света, духа и праха, страстей и чистых мыслей, преданных необузданной борьбе, иногда недеятельных, иногда разрушительных.» Лара, как Печорин и Арбенин, слагал ответственность на природу и судьбу: «сохраняя гордость и отказываясь обвинять самого себя, он приписывав свои проступки телесной ободочке, которую природа даровала в пищу червям и в темницу душе; наконец он уже не различав добра от зда, и действия води принимав за творения судьбы.»
В предыдущей статье было замечено, что на всех «роковых» лицах, представленных Лермонтовым, лежит печать демонизма. То же видим и в героях Байрона. Таков, например, Гяур: «если когда-нибудь дух тьмы принимал на себя человеческий образ, то верно принимав он образ Гяура, который не принадлежит ни земле, ни небу.» Демон Лермонтова – этот нини б ангел-небожитель, ужасный дух ада – не тот же ли Гяур? На челе его печать проклятия – Каинова печать, начертанная такими буквами, которых не стирает время. Существа, в роде Гяура, занимают как бы серединное место между духами света и духами тьмы: это – Каины, любящие беседовать с Люцифером. А сам Люцифер (в поэме Байрона: Каин) красотою своею напоминает красоту Арсения, «которой блеск печальный свой мысль неизменная дала.» Половину его бессмертия составляет горесть. Вечность и могущество не принесли ему счастья. На вопрос Каина: «счастливы ли вы?» он отвечает: «нет».
Некоторые черты Конрада взяты для портрета Печорина: он крепкого телосложения, хотя и не владеет геркулесовскою силою; рост его обыкновенный, в нем есть нечто благородное отличающее его от толпы; наружность его высказывает приличие и осторожность, которая как бы избегает взоров и внушает почтение и страх; взгляд надменный, не допускающий фамильярности и вместе с тем не преступающий обычной вежливости. Этими-то средствами приобрел он повиновение своей шайки. Хотелось ли ему нравиться, – он умел с таким искусством владеть собою, что его мягкость изгоняла страх из сердца тех, кто внимал ему; никакая любезность других не могла равняться прелести его речей, и нежные звуки его голоса, как бы от души идущие, производили неотразимое обаяние. Что Радин говорит княгине Вере (драма: Два Брата), а Печорин княжне Мери, оба оправдывая свой характер и поступки, то частию находим в изображении свойств Конрада: природа не назначила ему повелевать отверженцами общества, быть ужаснейшим орудием преступления; душа его претерпела великия перемены, прежде чем он вступил в открытую войну с людьми и сделался вероломным перед небом. Свет обманул его; непреклонный и гордый, он не мог склоняться перед другими и побеждать самого себя; даже добродетели его содействовали разочарованию и обману: он проклял их, как причину своих бедствий, вместо того, чтобы обвинять вероломных изменников. Если ненависть блистала в зловещем взоре Конрада, надобно было сказать «прости» надежде и жалости. Так и Арбенин, оскорбленный, не знает ни прощения, ни жалости: цель и закон его в то время – единственно мщение. Аристократизм наружности, равно как и происхождения, ценится и Байроном и Лермонтовым: в Конраде есть нечто отличное от толпы; вид Мансреда обнаруживает знатность рода; у Печорина была маленькая «аристократическая» ручка, и черные усы его и брови, при светлом цвете его волос, служили знаком хорошей породы.
Тревога и волнение врожденны всем исчисленным нами лицам. Они невольные скитальцы: природа и судьба вручает им страннический посох. То чувство, которое выражено Лермонтовым в Парусе и которое объясняется инстинктивным влечением к беспокойству, живет в сердце Чайльд-Гарольда: «я морская трава, брошенная с вершины скалы на пенистые волны океана, плывущая повсюду, куда увлекает ее течение воды, повсюду, куда несет ее дыхание бури…» «Для деятельных душ покой есть ад… и это-то было причиною моей гибели. Есть душевный огонь, который не остается в тесных пределах своих, но порывается постоянно переступить черту умеренности; воспламененный, он не потухает более; ему нужна отважная судьба; он утомляется покоем; он под властию внутренней лихорадки, роковой для всех, кого она пожирает…» «Самые смелые морские плавателя направляют свой парус к гостеприимной пристани; но есть пловцы, заблудившиеся на волнах вечности: корабль их плывет все далее и далее, нигде не бросая якоря.» Другими словами, но то же самое говорит Печорин в заключении повести Княжна Мери. Мы выписали их в предыдущей статье.
Таким образом все черты характера, нами представленного: разочарование, апатия, скука, преждевременное знание, перевес духа над телом, неумирающая мысль, как главная причина мучительных, убийственных страданий, непреклонная гордость, роковая сила судьбы и природы, несмиряемое волнение жизни, демонизм… являются в различных по имени, во тождественных по значению героях Байрона: Ларе, Конраде, Альпе, Азо, Гуго, Гяуре, Селиме, Манфреде, Каине и Люцифере. Отсюда перешли они в создания Лермонтова – Оршу, Арсения, Мцыри, Арбенина, Хаджи-Абрека, Измаила-Бея, Печорина, Демона, тоже неодинаковые именем, но одинаковые сущностью. Как первые могут быть названы видоизменениями Чайльд-Гарольда, так и вторые суть в большей или меньшей степени Печорины. И как сам Байрон отразился в лице Чайльд-Гарольда, что, между прочим, можно заключить и по лирическим его пиесам, так и лицо Печорина есть отражение Лермонтова, как позволено утверждать на основании лирических же стихотворений нашего поэта.
Поэтому вопрос о значении поэзии Лермонтова обращается в вопрос о значении поэзии Байрона или Байроновской. Название это, характеризуя известное поэтическое направление, господствовавшее в первые десятилетия нашего века, заимствовано от имени лица, в творениях которого выразилась с наибольшею полнотою и силою сущность направления. Не Байрон начал его, но он – главный его представитель.
Если, по выражению Гервинуса, каждое новое время заводит новые песни, то, конечно, таким, по преимуществу, новым временем был конец XVIII и начало XIX века. Им завершился прежний порядок вещей.
Значение этой реформы, начатой еще прежде XVIII века, но совершенной XVIII веком, заключается в устранении того, что препятствовало естественному и полному развитию человеческой личности. Из области мысли и чувства изгнаны были все побуждения, которые не подлежали сознательному анализу. Разум явился главным судиею общественных и частных дел. Все, ему противоречащее, отвергалось как заблуждение, преследовалось как неправда; все, согласное с его законами, принималось как истина, ценилось как право. Сущность просвещения, умственного направления эпохи, долженствовала выразиться такою формулой: существует и обязывает лишь то, что сознается и предписывается разумом.
Так как личность задерживалась в своем развитии средневековыми авторитетами, то, для её освобождения, восьмнадцатый век вооружился началом противоположным, отвержением авторитетов. Самый принцип авторитета был потрясен в своем основании. Вражда к тому, перед чем дотоле благоговели, равно простерлась и на предметы, оказавшиеся действительно несостоятельными, и на предметы, удержавшие при себе истинное содержание. Дух времени действовал только разрушительно, извергая, вместе с гнилыми элементами, и элементы истинные, здоровые и крепкие.
Борьба средневековых начал с руководительным началом XVIII то века, борьба авторитета и разума, предания и сознания, проникла всюду. С одной стороны явились усилия защитить неприкосновенность старого, с другой – стремительный напор уничтожить его. Между ними нашлось место и для третьей партии, как переходного члена от старого к новому, бессильного впрочем для примирения враждующих.
Но дело разрушения отстоит еще далеко от дела созидания. Если борьба старого с новым, кончившаяся торжеством последнего, не оставила на месте битвы ничего, хроме развалин или пустоты, положение общества принадлежит к самым печальным историческим явлениям. За отрицанием должно следовать положение. Без начала, без основного убеждения не возникает и не держится ничего.
Девятнадцатый век открывается именно шаткостию состояния. С одной стороны отринутый авторитет; с другой начало нового порядка, не определенное в правах и границах, не вступившее в полноту устрояющего действия и может-быть еще надолго обреченное неустройству. Заметим вообще, что как бы ни был велик нравственный момент в жизни народа, возносящий его над эгоизмом и подвигающий его к героическим жертвам, он, как момент, не представляет сильных ручательств в своей благонадежности. Дух народа облагораживается только оседлостию нравственных начал и основанных на них государственных учреждений. И здесь привычка составляет вторую натуру. При одновременном же, спешном самооблегчении дух человеческий весьма часто теряет центр тяжести и становится способным к частым падениям. Вследствие указанных причин водворилось в жизни своего рода временное правление, которому предстояло много забот. Эпоха, отмеченная характером такого смутного и печального провизория, носит обыкновенно название эпохи переходной[1 - Geschichte der franz?sischen National-Litteratur (1789-1837), v. Mager, 1837. Erster Band. – Gesch. der franz. Liter. 1789, von Julian Schmidt, 1857. Erste Lieferung.].
В переходные эпохи историческое существование народов переживает такой же перелом, какой совершается и в жизни отдельного человека, когда он из бессознательного возраста вступает в период сознании, период разрыва между прошлым, которое коренилось на авторитете, и будущим, где авторитет утрачивает свою непогрешимость и силу. Сумрачное состояние духа, необходимое при таком разрыве, в котором, по словам поэта, мы лишаемся прежней цели надежд, не имея цели новой, есть, по учению прогрессистов, предвестие света, более блистательного, потому что он более истинен. За сумраком последует не ночь, а рассвет. Солнце, временно западающее, восстанет снова и несомненно. Так и во временном сумраке переходных эпох человечества. Потрясения внутренния и внешния подобны мукам родов, предвещающим нового человека, грядущего в мир. Когда падают авторитеты, как падали кумиры богов в языческих храмах, тогда потрясенное общество имеет действительно вид храма, в котором, как сказал Мицкевич, «жить боги не хотят, а человек не смеет». Но рано или поздно храм должен населиться, общество должно устроиться. Каждый мыслящий знает это, и время поможет его незнанию.
Как отразилось действие переворота на людях, захваченных его потоком? Каково было духовное настроение молодого поколения, поколения переходной эпохи, увидевшего себя на развалинах прежнего общества?
При умственной пытливости исчезла вера в прежние идеалы, но и не установилась еще твердая уверенность в истине идеалов новых. Разрушительная сила совершила свой подвиг; дело силы созидающей крылось в будущем: дух сомнения овладел человеком, у которого было много предметов искомых, и мало предметов найденных.
Желание подвергнуть все бывшее и существующее критике мысли развило в сильнейшей степени способность аналитическую. Не только исторические явления, но и малейшие действия и чувства отдельного человека подвергались умственному суду.
Долговременною борьбою с авторитетом приобретен навык в искусстве отвержения и непризнания. К предметам своего исследования анализ становился большею частию отрицательно и сделался силен отрицанием.
Замечая вокруг себя или ослабленные, или окончательно павшие основы прежней жизни, мысль не знает на чем утвердиться, тогда как в человеке существует врожденная потребность твердых начал: отсюда – отчаяние, высшая степень духовной болезни, её кризис, за которым должны следовать или здоровый исход или неминуемая смерть.
При сомнении во всем, что было прежде предметом твердых убеждений и сладостных верований, нет места покою, наслаждениям мирной жизни: отсюда – волнения, тревоги.
Разочарованные во всем, что прежде так легко и так приятно очаровывало, многие пытались обратиться назад, вступит снова в ту область, из которой вышли собственною волею: плодом попыток было горько-безплодное сожаление о старине.
Другие, при неполном разуверении, вкусили еще более горький плод – чувство мертвенного равнодушие, апатии. Они предоставили судьбе вести дело, куда ей угодно и как она умеет.
Эта апатия имела своим источником сколько сознание невозможности что-нибудь сделать, столько же и неспособность ха делу. Усиленное развитие ума, постоянное стремление к анализу и критике сообщили мыслящей силе человека чрезмерный перевес над его силою деятельною, волею. Свежесть и энергия жизни понижались соразмерно возвышению умственной пытливости. Человек стал нерешителен, раздумчив, осторожен, боязлив. На значительную сумму колебаний и сомнений приходилось мало твердого желания, еще меньше решительного действия.
От преждевременного знания жизни и неспособности к жизни деятельной произошла скука, эпидемическая болезнь переходного времени.