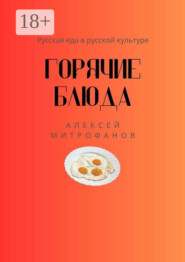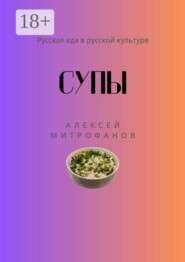По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Петровка. Прогулки по старой Москве
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Обсуждение было недолгим. Этому проекту присуждена первая премия… Теперь памятник сооружен. И несмотря на то, что архитекторы в общем с решением ансамбля справились не на «пятерку», сам по себе памятник выглядит величественно и монументально… Родилось, безусловно, выдающееся произведение».
Уже через год после открытия Лев Кербель получил за Карла Маркса Ленинскую премию.
Эммануил Казакевич говорил в своем письме Льву Кербелю: «Я один из тех, для кого памятник Марксу по-новому осветил ту часть Москвы, где он установлен. Он вошел сразу, с размаху в плоть Москвы, как в высшей степени естественная и ничем не заменимая деталь».
Галина Серебрякова писала о Кербеле (и о себе, разумеется) в «Литературной газете»: «Оба мы избрали один предмет, которому отдали не только годы, но страсть, все помыслы и чувства. Мое стремление оживить Маркса в литературе и его старание воскресить гения в граните долгое время были ведущей целью нашего бытия. Мы встретились, как брат и сестра, и это ощущение родства нас уже не покинет. Очевидно, родство по идее, творчеству, борьбе, науке, общность исканий и счастье открытий создают нечто большее, нежели простая связь людей, родившихся в одной семье. Все, что происходит от единства цели и высокой духовности, значительнее родственных уз».
Б. С. Угаров, президент Академии художеств СССР, утверждал в предисловии к альбому «Лев Ефимович Кербель»: «Льва Кербеля наш народ узнал как автора памятника Карлу Марксу в Москве. Для меня это произведение перекликается с памятниками первых лет революции, когда зарождалась советская монументальная пропаганда. Памятник стал нашим, неотъемлемым от Москвы – новой, советской, даже более – Москвы послевоенной».
Сам же Лев Кербель писал в автобиографии: «Важный этап моей биографии – памятники Марксу и Ленину. Только создав серию военных памятников, бюстов дважды Героев Советского Союза, станковых портретов, я счел для себя возможным взяться за работу над монументами творцов бессмертных идей коммунизма, воплощающих стремление всего прогрессивного человечества.
Меня давно, еще до участия в конкурсе на памятник для Москвы, привлекал образ Маркса. Было бы, вероятно, странным, если бы решение пришло сразу. Я много думал над тем, как воплотить его в скульптуре, пытаясь мысленно представить себе возможное решение. Гениальный ученый, великий мечтатель, революционер не представлялся мне ни в бронзе, ни в мраморе. Я выбрал гранит, потому что он ярче выражал идею монолитности. Жест сжатой в кулак руки воплощает единение революционеров пяти континентов, а опирающаяся на книгу и массу камня левая рука подчеркивает мысль о нерасторжимости пролетариев всех стран, идущих к цели, предопределенной научным коммунизмом. Стелы с высеченными на них высказываниями Энгельса и Ленина служат объединению великих революционеров-мыслителей в одно общее понятие – марксизм-ленинизм.
Памятник Карлу Марксу в Москве сооружен на том месте, где был заложен еще в 1920 году В. И. Лениным. Он вписан в сложившуюся историческую среду центра города, что создавало дополнительные трудности, кусок скалы удачно «вошел» в разноликое архитектурное окружение».
* * *
Но наступила новая эпоха с новыми приоритетами и новыми сомнениями. Все реже слышались восхваления памятнику, да и самому автору «Манифеста». Все чаще вспоминали про Торговца пивом. Маркс вошел уже не только в неофициальный, но и во вполне официальный фольклор.
Поэт Андрей Туркин посвятил ему, да и вообще московским памятникам озорной стишок:
О, как мне дорог центр города,
Где Долгорукого рука
Как будто ищет Маркса бороду,
Но не найдет ее, пока
За ним следят глаза Дзержинского,
Дома пронзая, как врага.
И тщетно ищет исполинского
Коня послать его нога!
Все чаще в прессе появлялась смачная цитата из «России во мгле» Герберта Уэллса: «Должен признаться, что в России мое пассивное неприятие Маркса перешло в весьма активную враждебность. Куда бы мы ни приходили, повсюду нам бросались в глаза портреты, бюсты и статуи Маркса. Около двух третей лица Маркса покрывает борода – широкая, торжественная, густая, скучная борода, которая, вероятно, причиняла своему хозяину много неудобств в повседневной жизни. Такая борода не вырастает сама собой; ее холят, лелеют и патриархально возносят над миром. Своим бессмысленным изобилием она чрезвычайно похожа на „Капитал“; и то человеческое, что остается от лица, смотрит поверх нее совиным взглядом, словно желая знать, какое впечатление эта растительность производит на мир. Вездесущее изображение этой бороды раздражало меня все больше и больше. Мне неудержимо захотелось обрить Карла Маркса. Когда-нибудь, в свободное время, я вооружусь против „Капитала“ бритвой и ножницами и напишу „Обритие бороды Карла Маркса“».
А писатель Нагибин писал в книге «Всполошный звон»: «Не совсем понятно, почему именно здесь поставлен памятник Карлу Марксу. Считается, что это место указал Ленин. Хотелось бы увидеть документальное подтверждение выбора Владимира Ильича. Но даже если это так, в первые годы Советской власти трудно было судить о том, каким впоследствии окажется лицо того или иного московского места. Большой театр служил в ту пору не музам, а политике, здесь звучали горячие революционные речи, а не увертюры и арии. Маркс был ему ближе, чем Аполлон; детского театра не существовало в помине, а пустующее здание театра Незлобина могло отойти кому угодно – МОПРу или, скажем, обществу „Воинствующий безбожник“».
Все шло к тому, что памятник снесут. И действительно, в сентябре 1991 года экспертная комиссия Моссовета по московским памятникам приняла решение убрать монумент.
Но не тут-то было! Московский памятник экономисту Карлу Марксу, расположенный в самом широком проезде Москвы – Театральном, вышел символом непотопляемым. Участь Дзержинского, Кирова и Свердлова его не постигла – Маркс остался стоять и, похоже, на века.
Одна из основных причин такой устойчивости заключается в марксовой массе. Если бы памятник был несколько полегче, его, под горячую руку, в девяносто первом снесли бы (а потом поднимали б вопрос – возвращать или нет). Но убрать многотонную гранитную статую оказалось нешуточным делом. Денег на демонтаж в то время не нашлось,
а после их и не искали. Известная русская присказка – дескать, ломать не делать, в случае с экономистом из Германии не сработала.
А 1 мая 1996 года Лев Кербель сказал автору этой книги: «Я горжусь памятником Марксу. Это находка в искусстве».
Особенно в том, что касается массы.
Театр для московских шалунов
Большой театр (Театральная площадь, 2/7) построен в 1824 году по проекту архитектора О. Бове.
Это здание построили на месте старого Петровского театра, сгоревшего в 1805 году. Правда, в скором времени оно тоже серьезно пострадало от пожара и в 1856 году было отстроено практически заново архитектором Альбертом Катериновичем Кавосом. Однако принято считать, что автор – все-таки Бове, а то, что было в середине позапрошлого столетия – так, легонькая реставрация. Видимо, потому, что Бове – деятель первого архитектурного эшелона. Чего никак не скажешь об Альберте Катериновиче.
* * *
Датой рождения Большого театра считается 28 марта 1776 года. Именно в этот день губернский прокурор князь Петр Васильевич Урусов получил от царицы российской так называемую «привилегию» – то бишь разрешение «содержать ему театральные всякого рода представления, а также концерты, воксалы и маскарады, а кроме его, никому никаких подобных увеселений не дозволять во все назначенное по привилегии время, дабы ему подрыву не было».
И монополист приступает к строительству театрального здания. Благо, что труппа уже существует – тринадцать актеров и девять актрис. А кроме них тринадцать музыкантов, балетмейстер, три танцора и четыре танцовщицы.
Чем не Большой театр?
Место выбрали на берегу реки Неглинной (в то время она протекала на поверхности, а не как сейчас – под землей, в трубе). «Московские ведомости» анонсировали: «Контора Знаменского театра (первое время труппа г-на Урусова арендовала помещение на Знаменке – А.М.), стараясь всегда об удовольствии почтенной публики, через сие объявляет, что ныне строится вновь для театра каменный дом на Большой Петровской улице, близ Кузнецкого мосту, который к открытию окончится нынешнего 1780 года в декабре месяце… что же касается до внутреннего расположения театра, то оно будет наилучшее в своем роде».
Увы, но в тот же вечер, когда состоялась публикация, театр на Знаменке сгорел. Господин Урусов счел это тревожным знаком (да и с деньгами возникли проблемы) и отказался от своей привилегии. Но свято место пусто не бывает, и за дело принялся компаньон Урусова по театру, англичанин Медокс. В декабре того же 1780 года та же самая газета сообщала: «Любопытные известия. В удовольствие почтенной публике, которой предварительно при сих листах объявлено уже было о сегодняшнем открытии новопостроенного Петровского театра, за нужное считаем сообщить для сведения, что огромное сие здание, сооруженное для народного удовольствия и увеселения, которое вышиной в 8, длиной в 32, а шириной в 20 сажен, умещающее в себе сто десять лож, не считая галерей, по мнению лучших архитекторов и одобрению знатоков театра, построено и к совершенному окончанию приведено с такою прочностью и выгодностью, что оными превосходит оно почти все знатные европейские театры. Что же до желаемой безопасности публичного сего дому касается, то в рассуждении оной, кажется, взяты все возможные меры и ничего не опущено, что могло бы служить к совершенному доставлению оной. Почтенная публика, которая удостоит сегодняшнее открытие помянутого театра, сама в оном удостоверится сможет, когда она увидит 12 разных дверей для подъезду, 3 каменные лестницы, ведущие в партер и ложи, и сверх того еще 2 лестницы деревянные».
Театралы получили презанятную игрушку. Праздничную, веселую и, вместе с тем, таинственную, романтичную. Александр Чаянов писал в повести «Венедиктов, или достопамятные события жизни моей»: «Спектакль уже начался, когда я вошел в полумрак затихшего зрительного зала. Флигеровы лампионы освещали дрожавшие тени дворца Аль-Рашидова. Колосова, послушная рокоту струн, плыла, кружась в амарантовом плаще. Колосова – царица на сцене, и я готов был снова и снова кричать ей свое браво… Меж тем сцена наполнилась новыми толпами белых и черных рабынь, и вереницы pas des deux сменились сложными пируэтами кордебалета.
Вдруг голос мучительно терпкий пронизал всю мою душу, и в нем снова узнал я ее, и снова всплыло ее чарующее лицо, белыми локонами окаймленное в оптическом круге зрительной трубы моей. Голос глубокий и преисполненный тоскою просил, казалось, умолял о пощаде, но не калифа правоверных, не к нему обращался он, а к властителю душ наших, и я отчетливо чувствовал его дьявольскую волю и адское дыхание совсем близко в темноте направо».
Где еще, как не в театре на Неглинной, можно было встретить и прелестницу, и дьявола, самого настоящего? Пожалуй, что нигде.
* * *
Увы, игрушка оказалась пусть и долгой, но не вечной. В октябре 1805 года «Московский курьер» сообщал: «Загорелось в гардеробной комнате, робость и неосторожность допустили распространиться пламени… Теснота была необъяснимая… Пламя все пожрало, и убытки весьма велики».
Знали бы господа из «Курьера», что всего-навсего через семь лет погорит вся Москва!
Но, как принято считать, «пожар способствовал ей много к украшению». И в 1825 году «Московские ведомости» сообщали: «Есть события в России, которые быстротою и величием изумляют современников и представляются в виде чудес отдаленному потомству. Такая мысль естественно рождается в душе россиянина при каждом происшествии, приближающем отечество наше к среде держав Европейских, такая мысль возникает в душе при взгляде на Большой Петровский театр, как феникс, из развалин возвысивший стены свои в новом блеске и великолепии».
Автором этого «феникса» был архитектор Бове.
С. Аксаков радовался: «Большой Петровский театр, возникший из старых, обгорелых развалин… изумил и восхитил меня… Великолепное громадное здание, исключительно посвященное моему любимому искусству, уже одною своею внешностью привело меня в радостное волнение… Великолепная театральная зала, одна из огромнейших в Европе, полная зрителей, блеск дамских нарядов, яркое освещение, превосходные декорации, богатство сценической постановки – все вместе взволновало меня».
Он же, кстати, описал один из, в общем-то, весьма распространенных в ту эпоху случаев, когда внимание публики перемещалось с выступающих на зрителей, точнее, на кого-нибудь определенного из числа зрителей: «В один вечер сидели мы в ложе Большого театра, вдруг растворилась дверь, вошел Гоголь и с веселым дружеским видом, какого мы никогда не видели, протянул мне руку со словами: „Здравствуйте!“. Нечего говорить, как мы были изумлены и обрадованы. Константин, едва ли не более всех понимавший значение Гоголя, забыл, где он, и громко закричал, что обратило внимание соседних лож. Это было во время антракта. Вслед за Гоголем, вошел к нам в ложу Ефремов, и Константин шепнул ему на ухо: „Знаешь ли, кто это у нас? Это Гоголь“. Ефремов, выпуча глаза, также от изумления и радости, побежал в кресла и сообщил эту новость покойному Станкевичу и еще кому-то из наших знакомых. В одну минуту несколько трубок и биноклей – обратились на нашу ложу и слова: „Гоголь! Гоголь!“ – разнеслись по креслам. Не знаю, заметил ли он это движение, только сказав несколько слов, что он опять в Москве на короткое время, Гоголь уехал».
Юный Михаил Юрьевич Лермонтов, взобравшись на колокольню Ивана Великого восхищался открывшимся перед ним видом: «На широкой площади возвышается Петровский театр, произведение новейшего искусства, огромное здание, сделанное по всем правилам вкуса, с плоской кровлей и величественным портиком, на коем возвышается алебастровый Аполлон».
(Первое время театр называли то Большим Петровским, то просто Петровским, и только впоследствии за ним окончательно закрепилось – «Большой». )
Площадь же, упомянутая Лермонтовым, была, хотя и широка, но, мягко скажем, необычна. Путеводитель по Москве 1831 года сообщал: «Воспоминание о том, что за три или четыре года были здесь овраги, болотистое место, куда сваливалась нечистота, и непроходимая грязь, и что… в столь короткое время… она украшается зданиями, приводящими нам на память и древность, и новейший вкус: все сие ставит площадь сию превыше всех нам известных в столицах иностранных… Что придает большую прелесть… то это расположенный прямо против середины театра, близ стены Китай-города Цветошный рынок… Это огражденный перилами искусно планированный сад, где можете гулять между куртин по прекрасным дорожкам, можете сидеть на устроенных скамейках и любоваться Театральной площадью и огромным великолепным портиком театра… С чем можно сравнить приятный вечер, проведенный в сем Цветошном рынке или на сем бульваре; так приятно любоваться на съезд к театру; толпы зрителей в ожидании начала спектакля ходят здесь в разных костюмах, парами, целыми группами».
Выходит, что Большой театр был частью целой рекреационной зоны.
* * *
В 1853 году театр полностью сгорел. Пожар наступил неожиданно, а причины его до сих пор не известны. Поговаривали о каком-то плотнике, якобы спасшем танцовщицу, в ужасе забившуюся на чердак. Оркестрант Безекирский метался среди огненных языков – все пытался найти и спасти свою ценную скрипочку. Все остальные сотрудники сразу же бросились наутек.
К счастью, маэстро Безекирский не сгорел. Однако же и скрипочку спасти не удалось.
Некто Басистов описывал эту трагедию в столичных «Ведомостях»: «Страшно было смотреть на этого объятого пламенем гиганта. Когда он горел, нам казалось, что перед глазами нашими погибал милый нам человек, наделявший нас прекраснейшими мыслями и чувствами».
Уже через год после открытия Лев Кербель получил за Карла Маркса Ленинскую премию.
Эммануил Казакевич говорил в своем письме Льву Кербелю: «Я один из тех, для кого памятник Марксу по-новому осветил ту часть Москвы, где он установлен. Он вошел сразу, с размаху в плоть Москвы, как в высшей степени естественная и ничем не заменимая деталь».
Галина Серебрякова писала о Кербеле (и о себе, разумеется) в «Литературной газете»: «Оба мы избрали один предмет, которому отдали не только годы, но страсть, все помыслы и чувства. Мое стремление оживить Маркса в литературе и его старание воскресить гения в граните долгое время были ведущей целью нашего бытия. Мы встретились, как брат и сестра, и это ощущение родства нас уже не покинет. Очевидно, родство по идее, творчеству, борьбе, науке, общность исканий и счастье открытий создают нечто большее, нежели простая связь людей, родившихся в одной семье. Все, что происходит от единства цели и высокой духовности, значительнее родственных уз».
Б. С. Угаров, президент Академии художеств СССР, утверждал в предисловии к альбому «Лев Ефимович Кербель»: «Льва Кербеля наш народ узнал как автора памятника Карлу Марксу в Москве. Для меня это произведение перекликается с памятниками первых лет революции, когда зарождалась советская монументальная пропаганда. Памятник стал нашим, неотъемлемым от Москвы – новой, советской, даже более – Москвы послевоенной».
Сам же Лев Кербель писал в автобиографии: «Важный этап моей биографии – памятники Марксу и Ленину. Только создав серию военных памятников, бюстов дважды Героев Советского Союза, станковых портретов, я счел для себя возможным взяться за работу над монументами творцов бессмертных идей коммунизма, воплощающих стремление всего прогрессивного человечества.
Меня давно, еще до участия в конкурсе на памятник для Москвы, привлекал образ Маркса. Было бы, вероятно, странным, если бы решение пришло сразу. Я много думал над тем, как воплотить его в скульптуре, пытаясь мысленно представить себе возможное решение. Гениальный ученый, великий мечтатель, революционер не представлялся мне ни в бронзе, ни в мраморе. Я выбрал гранит, потому что он ярче выражал идею монолитности. Жест сжатой в кулак руки воплощает единение революционеров пяти континентов, а опирающаяся на книгу и массу камня левая рука подчеркивает мысль о нерасторжимости пролетариев всех стран, идущих к цели, предопределенной научным коммунизмом. Стелы с высеченными на них высказываниями Энгельса и Ленина служат объединению великих революционеров-мыслителей в одно общее понятие – марксизм-ленинизм.
Памятник Карлу Марксу в Москве сооружен на том месте, где был заложен еще в 1920 году В. И. Лениным. Он вписан в сложившуюся историческую среду центра города, что создавало дополнительные трудности, кусок скалы удачно «вошел» в разноликое архитектурное окружение».
* * *
Но наступила новая эпоха с новыми приоритетами и новыми сомнениями. Все реже слышались восхваления памятнику, да и самому автору «Манифеста». Все чаще вспоминали про Торговца пивом. Маркс вошел уже не только в неофициальный, но и во вполне официальный фольклор.
Поэт Андрей Туркин посвятил ему, да и вообще московским памятникам озорной стишок:
О, как мне дорог центр города,
Где Долгорукого рука
Как будто ищет Маркса бороду,
Но не найдет ее, пока
За ним следят глаза Дзержинского,
Дома пронзая, как врага.
И тщетно ищет исполинского
Коня послать его нога!
Все чаще в прессе появлялась смачная цитата из «России во мгле» Герберта Уэллса: «Должен признаться, что в России мое пассивное неприятие Маркса перешло в весьма активную враждебность. Куда бы мы ни приходили, повсюду нам бросались в глаза портреты, бюсты и статуи Маркса. Около двух третей лица Маркса покрывает борода – широкая, торжественная, густая, скучная борода, которая, вероятно, причиняла своему хозяину много неудобств в повседневной жизни. Такая борода не вырастает сама собой; ее холят, лелеют и патриархально возносят над миром. Своим бессмысленным изобилием она чрезвычайно похожа на „Капитал“; и то человеческое, что остается от лица, смотрит поверх нее совиным взглядом, словно желая знать, какое впечатление эта растительность производит на мир. Вездесущее изображение этой бороды раздражало меня все больше и больше. Мне неудержимо захотелось обрить Карла Маркса. Когда-нибудь, в свободное время, я вооружусь против „Капитала“ бритвой и ножницами и напишу „Обритие бороды Карла Маркса“».
А писатель Нагибин писал в книге «Всполошный звон»: «Не совсем понятно, почему именно здесь поставлен памятник Карлу Марксу. Считается, что это место указал Ленин. Хотелось бы увидеть документальное подтверждение выбора Владимира Ильича. Но даже если это так, в первые годы Советской власти трудно было судить о том, каким впоследствии окажется лицо того или иного московского места. Большой театр служил в ту пору не музам, а политике, здесь звучали горячие революционные речи, а не увертюры и арии. Маркс был ему ближе, чем Аполлон; детского театра не существовало в помине, а пустующее здание театра Незлобина могло отойти кому угодно – МОПРу или, скажем, обществу „Воинствующий безбожник“».
Все шло к тому, что памятник снесут. И действительно, в сентябре 1991 года экспертная комиссия Моссовета по московским памятникам приняла решение убрать монумент.
Но не тут-то было! Московский памятник экономисту Карлу Марксу, расположенный в самом широком проезде Москвы – Театральном, вышел символом непотопляемым. Участь Дзержинского, Кирова и Свердлова его не постигла – Маркс остался стоять и, похоже, на века.
Одна из основных причин такой устойчивости заключается в марксовой массе. Если бы памятник был несколько полегче, его, под горячую руку, в девяносто первом снесли бы (а потом поднимали б вопрос – возвращать или нет). Но убрать многотонную гранитную статую оказалось нешуточным делом. Денег на демонтаж в то время не нашлось,
а после их и не искали. Известная русская присказка – дескать, ломать не делать, в случае с экономистом из Германии не сработала.
А 1 мая 1996 года Лев Кербель сказал автору этой книги: «Я горжусь памятником Марксу. Это находка в искусстве».
Особенно в том, что касается массы.
Театр для московских шалунов
Большой театр (Театральная площадь, 2/7) построен в 1824 году по проекту архитектора О. Бове.
Это здание построили на месте старого Петровского театра, сгоревшего в 1805 году. Правда, в скором времени оно тоже серьезно пострадало от пожара и в 1856 году было отстроено практически заново архитектором Альбертом Катериновичем Кавосом. Однако принято считать, что автор – все-таки Бове, а то, что было в середине позапрошлого столетия – так, легонькая реставрация. Видимо, потому, что Бове – деятель первого архитектурного эшелона. Чего никак не скажешь об Альберте Катериновиче.
* * *
Датой рождения Большого театра считается 28 марта 1776 года. Именно в этот день губернский прокурор князь Петр Васильевич Урусов получил от царицы российской так называемую «привилегию» – то бишь разрешение «содержать ему театральные всякого рода представления, а также концерты, воксалы и маскарады, а кроме его, никому никаких подобных увеселений не дозволять во все назначенное по привилегии время, дабы ему подрыву не было».
И монополист приступает к строительству театрального здания. Благо, что труппа уже существует – тринадцать актеров и девять актрис. А кроме них тринадцать музыкантов, балетмейстер, три танцора и четыре танцовщицы.
Чем не Большой театр?
Место выбрали на берегу реки Неглинной (в то время она протекала на поверхности, а не как сейчас – под землей, в трубе). «Московские ведомости» анонсировали: «Контора Знаменского театра (первое время труппа г-на Урусова арендовала помещение на Знаменке – А.М.), стараясь всегда об удовольствии почтенной публики, через сие объявляет, что ныне строится вновь для театра каменный дом на Большой Петровской улице, близ Кузнецкого мосту, который к открытию окончится нынешнего 1780 года в декабре месяце… что же касается до внутреннего расположения театра, то оно будет наилучшее в своем роде».
Увы, но в тот же вечер, когда состоялась публикация, театр на Знаменке сгорел. Господин Урусов счел это тревожным знаком (да и с деньгами возникли проблемы) и отказался от своей привилегии. Но свято место пусто не бывает, и за дело принялся компаньон Урусова по театру, англичанин Медокс. В декабре того же 1780 года та же самая газета сообщала: «Любопытные известия. В удовольствие почтенной публике, которой предварительно при сих листах объявлено уже было о сегодняшнем открытии новопостроенного Петровского театра, за нужное считаем сообщить для сведения, что огромное сие здание, сооруженное для народного удовольствия и увеселения, которое вышиной в 8, длиной в 32, а шириной в 20 сажен, умещающее в себе сто десять лож, не считая галерей, по мнению лучших архитекторов и одобрению знатоков театра, построено и к совершенному окончанию приведено с такою прочностью и выгодностью, что оными превосходит оно почти все знатные европейские театры. Что же до желаемой безопасности публичного сего дому касается, то в рассуждении оной, кажется, взяты все возможные меры и ничего не опущено, что могло бы служить к совершенному доставлению оной. Почтенная публика, которая удостоит сегодняшнее открытие помянутого театра, сама в оном удостоверится сможет, когда она увидит 12 разных дверей для подъезду, 3 каменные лестницы, ведущие в партер и ложи, и сверх того еще 2 лестницы деревянные».
Театралы получили презанятную игрушку. Праздничную, веселую и, вместе с тем, таинственную, романтичную. Александр Чаянов писал в повести «Венедиктов, или достопамятные события жизни моей»: «Спектакль уже начался, когда я вошел в полумрак затихшего зрительного зала. Флигеровы лампионы освещали дрожавшие тени дворца Аль-Рашидова. Колосова, послушная рокоту струн, плыла, кружась в амарантовом плаще. Колосова – царица на сцене, и я готов был снова и снова кричать ей свое браво… Меж тем сцена наполнилась новыми толпами белых и черных рабынь, и вереницы pas des deux сменились сложными пируэтами кордебалета.
Вдруг голос мучительно терпкий пронизал всю мою душу, и в нем снова узнал я ее, и снова всплыло ее чарующее лицо, белыми локонами окаймленное в оптическом круге зрительной трубы моей. Голос глубокий и преисполненный тоскою просил, казалось, умолял о пощаде, но не калифа правоверных, не к нему обращался он, а к властителю душ наших, и я отчетливо чувствовал его дьявольскую волю и адское дыхание совсем близко в темноте направо».
Где еще, как не в театре на Неглинной, можно было встретить и прелестницу, и дьявола, самого настоящего? Пожалуй, что нигде.
* * *
Увы, игрушка оказалась пусть и долгой, но не вечной. В октябре 1805 года «Московский курьер» сообщал: «Загорелось в гардеробной комнате, робость и неосторожность допустили распространиться пламени… Теснота была необъяснимая… Пламя все пожрало, и убытки весьма велики».
Знали бы господа из «Курьера», что всего-навсего через семь лет погорит вся Москва!
Но, как принято считать, «пожар способствовал ей много к украшению». И в 1825 году «Московские ведомости» сообщали: «Есть события в России, которые быстротою и величием изумляют современников и представляются в виде чудес отдаленному потомству. Такая мысль естественно рождается в душе россиянина при каждом происшествии, приближающем отечество наше к среде держав Европейских, такая мысль возникает в душе при взгляде на Большой Петровский театр, как феникс, из развалин возвысивший стены свои в новом блеске и великолепии».
Автором этого «феникса» был архитектор Бове.
С. Аксаков радовался: «Большой Петровский театр, возникший из старых, обгорелых развалин… изумил и восхитил меня… Великолепное громадное здание, исключительно посвященное моему любимому искусству, уже одною своею внешностью привело меня в радостное волнение… Великолепная театральная зала, одна из огромнейших в Европе, полная зрителей, блеск дамских нарядов, яркое освещение, превосходные декорации, богатство сценической постановки – все вместе взволновало меня».
Он же, кстати, описал один из, в общем-то, весьма распространенных в ту эпоху случаев, когда внимание публики перемещалось с выступающих на зрителей, точнее, на кого-нибудь определенного из числа зрителей: «В один вечер сидели мы в ложе Большого театра, вдруг растворилась дверь, вошел Гоголь и с веселым дружеским видом, какого мы никогда не видели, протянул мне руку со словами: „Здравствуйте!“. Нечего говорить, как мы были изумлены и обрадованы. Константин, едва ли не более всех понимавший значение Гоголя, забыл, где он, и громко закричал, что обратило внимание соседних лож. Это было во время антракта. Вслед за Гоголем, вошел к нам в ложу Ефремов, и Константин шепнул ему на ухо: „Знаешь ли, кто это у нас? Это Гоголь“. Ефремов, выпуча глаза, также от изумления и радости, побежал в кресла и сообщил эту новость покойному Станкевичу и еще кому-то из наших знакомых. В одну минуту несколько трубок и биноклей – обратились на нашу ложу и слова: „Гоголь! Гоголь!“ – разнеслись по креслам. Не знаю, заметил ли он это движение, только сказав несколько слов, что он опять в Москве на короткое время, Гоголь уехал».
Юный Михаил Юрьевич Лермонтов, взобравшись на колокольню Ивана Великого восхищался открывшимся перед ним видом: «На широкой площади возвышается Петровский театр, произведение новейшего искусства, огромное здание, сделанное по всем правилам вкуса, с плоской кровлей и величественным портиком, на коем возвышается алебастровый Аполлон».
(Первое время театр называли то Большим Петровским, то просто Петровским, и только впоследствии за ним окончательно закрепилось – «Большой». )
Площадь же, упомянутая Лермонтовым, была, хотя и широка, но, мягко скажем, необычна. Путеводитель по Москве 1831 года сообщал: «Воспоминание о том, что за три или четыре года были здесь овраги, болотистое место, куда сваливалась нечистота, и непроходимая грязь, и что… в столь короткое время… она украшается зданиями, приводящими нам на память и древность, и новейший вкус: все сие ставит площадь сию превыше всех нам известных в столицах иностранных… Что придает большую прелесть… то это расположенный прямо против середины театра, близ стены Китай-города Цветошный рынок… Это огражденный перилами искусно планированный сад, где можете гулять между куртин по прекрасным дорожкам, можете сидеть на устроенных скамейках и любоваться Театральной площадью и огромным великолепным портиком театра… С чем можно сравнить приятный вечер, проведенный в сем Цветошном рынке или на сем бульваре; так приятно любоваться на съезд к театру; толпы зрителей в ожидании начала спектакля ходят здесь в разных костюмах, парами, целыми группами».
Выходит, что Большой театр был частью целой рекреационной зоны.
* * *
В 1853 году театр полностью сгорел. Пожар наступил неожиданно, а причины его до сих пор не известны. Поговаривали о каком-то плотнике, якобы спасшем танцовщицу, в ужасе забившуюся на чердак. Оркестрант Безекирский метался среди огненных языков – все пытался найти и спасти свою ценную скрипочку. Все остальные сотрудники сразу же бросились наутек.
К счастью, маэстро Безекирский не сгорел. Однако же и скрипочку спасти не удалось.
Некто Басистов описывал эту трагедию в столичных «Ведомостях»: «Страшно было смотреть на этого объятого пламенем гиганта. Когда он горел, нам казалось, что перед глазами нашими погибал милый нам человек, наделявший нас прекраснейшими мыслями и чувствами».