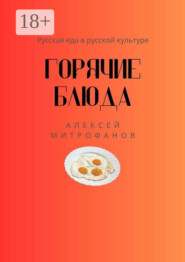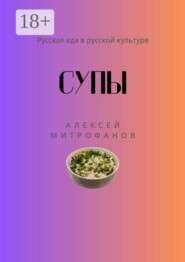По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Большая Никитская. Прогулки по старой Москве
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
* * *
День основания Университета, день святой Татьяны сделался со временем праздником всех студентов. Но, тем не менее, только в одном Московском университете была традиция отмечать его с неописуемым размахом. Это был праздник для самих студентов, для преподавателей, а также и для тех, кто много-много лет тому назад университет окончил.
Петр Боборыкин так описывал Татьянин день в романе «Китай-город»:
« – Здравствуйте, Леонтий, – поздоровался Палтусов со сторожем в темном проходе, где их шаги зазвенели по чугунным плитам.
Пальто свое они оставили не тут, а наверху, где в передней толпился уже народ. Палтусов поздоровался и со швейцаром, сухим стариком, неизменным и под парадной перевязью на синей ливрее. И швейцар тронул его. Он никогда не чувствовал себя, как в этот раз, в стенах университета. В первой зале – они прошли через библиотеку – лежали шинели званых гостей. Мимо проходили синие мундиры, генеральские лампасы мелькали вперемешку с белыми рейтузами штатских генералов. В амбразуре окна приземистый господин с длинными волосами, весь ушедший в шитый воротник, с Владимиром на шее громко спорил с худым, испитым юношей во фраке. Старое бритое лицо «суба» показалось из дверей, и оно напомнило Палтусову разные сцены в аудиториях, сходки, волнения.
Пирожков шел с ним под руку и то и дело раскланивался. Они провели каких-то приезжих дам и с трудом протискали их к креслам. Полукруглая колоннада вся усыпана была головами студентов. Сквозь зелень блестели золотые цифры и слова на темном бархате. Было много дам. На всех лицах Палтусов читал то особенное выражение домашнего праздника, не шумно-веселого, но чистого, такого, без которого тяжело было бы дышать в этой Москве. Шептали там и сям, что отчет будет читать сам ректор, что он скажет в начале и в конце то, чего все ждали. Будут рукоплескания… Пора, мол, давно пора университету заявить свои права…
Пропели гимн. Началось чтение какой-то профессорской речи. Ее плохо было слышно, да и мало интересовались ею… Но вот и отчет… Все смолкло… Слабый голос разлетается в зале; но ни одно «хорошее» слово не пропало даром… Их подхватывали рукоплескания. Палтусов переглянулся с Пирожковым, и оба они бьют в ладоши, подняли руки, кричат… Обоим было ужасно весело. Кругом Палтусов не видит знакомых лиц между студентами, но он сливается с ними… Ему очень хорошо!.
Лица девушек – есть совсем юные – рдеют… И они стоят за дорогие вольности университета. И они знают, кто враг и кто друг этих старых, честных и выносливых стен, где учат одной только правде, где знают заботу, но не о хлебе едином».
Впрочем, по окончании официальной части, все участники торжества о хлебе дружно вспоминали. Точнее, даже не о хлебе, а о всяческих напитках, в том числе и приготовленных на основе хлебных злаков. Водка, пиво и шампанское текли рекой и в «Эрмитаже», и у «Яра», и в прочих знаменитых ресторанах города Москвы. Текли до самого утра.
Это празднество было весьма заметной составляющей московской жизни. Еще бы – ведь по окончании официальной части студенчество выплескивалось из аудитории на улицы и площади Москвы. Владимир Гиляровский вспоминал: «Никогда не были так шумны московские улицы, как ежегодно в этот день. Толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись, втроем и вчетвером на одном извозчике и горланили. Недаром во всех песенках рифмуется: „спьяна“ и „Татьяна“! Это был беззаботно-шумный гулящий день. И полиция – такие она имела расчеты и указания свыше, – в этот день студентов не арестовывала. Шпикам тоже было приказано не попадаться на глаза студентам».
В этом отношении Татьянин день, действительно, был уникален.
* * *
Впрочем, не все разделяли романтику Московского университета. Например, герой «Скучной истории» Антона Павловича Чехова отзывался о главном российском учебном заведении без особенного пиетета: «Вот мрачные, давно не ремонтированные университетские ворота; скучающий дворник в тулупе, метла, кучи снега… На свежего мальчика, приехавшего из провинции и воображающего, что храм науки в самом деле храм, такие ворота не могут произвести здорового впечатления. Вообще ветхость университетских построек, мрачность коридоров, копоть стен, недостаток света, унылый вид ступеней, вешалок и скамей в истории русского пессимизма занимают одно из первых мест на ряду причин предрасполагающих… Вот и наш сад. С тех пор, как я был студентом, он, кажется, не стал ни лучше, ни хуже. Я его не люблю. Было бы гораздо умнее, если бы вместо чахоточных лип, желтой акации и редкой, стриженой сирени росли тут высокие сосны и хорошие дубы. Студент, настроение которого в большинстве создается обстановкой, на каждом шагу, там, где он учится, должен видеть перед собою только высокое, сильное и изящное… Храни его бог от тощих деревьев, разбитых окон, серых стен и дверей, обитых рваной клеенкой».
Что ж… По большому счету, возразить герою нечего.
* * *
Вообще, студенты университета были люди уникальные. С одной стороны – романтические, образованные и не чуждые разнообразных искусств. А с другой – лихие, энергичные, довольно озорные и при этом выпивохи. Увы, иной раз это сочетание приводило к самым разным, подчас трагическим последствиям. С университетскими студентами то и дело случались всяческие колоритные истории. Одну из них в подробностях описывал в 1896 году популярный «Московский листок»: «Печальный случай, бывший вчера в Большом театре со студентом университета В. Г. Михайловским, упавшим в партер из ложи третьего яруса… заставил говорить о себе весь город и удивляться тому, как все это случилось.
В этот день Василий Григорьевич был именинник; он с пятью товарищами своими занял ложу третьего яруса №4, с правой стороны; давалась опера «Демон» с участием г. Хохлова, которому они сильно аплодировали.
В ту минуту, когда представление кончилось, публика, наполнявшая театр сверху донизу, стала выходить из партера; г. Хохлов был вызван; раздались аплодисменты и в ложе №4. Василий Григорьевич, чтобы более показать свое удовольствие артисту, стал на стул и, махая платком, по забывчивости что ли, поставил одну ногу на барьер ложи, но потерял равновесие и грохнулся вниз.
Падая вниз, он ухватился за канделябр электрического освещения, согнул его, но не удержался и полетел далее и упал в кресло, с которого только что поднялась какая-то молодая особа и, аплодируя г. Хохлову, отошла шага на два в сторону.
Падение Василия Григорьевича было настолько тяжелое, что ножки, спинка кресла и боковые приспособления отлетели.
Переполох в публике был страшный; любители сильных ощущений остались на несколько минут в театре, чтобы взглянуть на страдальца, а большинство удалилось. Раздались крики «доктора! доктора!» – его в театре не оказалось, но затем он вскоре явился.
Василий Григорьевич лежал в бессознательном состоянии, кровь лилась у него из носу; его подняли и перенесли в покой при театре; явились врачи и начали приводить его в чувство; положили на голову повязку, а затем на карете, в сопровождении врача и фельдшера отвезли в клинику профессора Боброва.
На правой стороне лица страдальца под глазом к подбородку видна была разорванная рана, носовая часть сильно повреждена, на поясничной области с правой стороны виден больших размеров кровоподтек; опасаются, не поврежден ли позвоночный столб. Вчера больной жаловался на сильную боль в пояснице, в ногах и был весьма слаб. Врачи надеются на его выздоровление.
Подобного прискорбного случая с основания Большого театра еще не было, и дай Бог, чтобы он не повторился».
О том, как шло лечение Василия Григорьевича, газеты, к сожалению, не сообщали. Явились новые сенсации: велосипедный маскарад недалеко от Триумфальной площади, самоубийство в гостинице «Эрмитаж», прибытие в Зоологический сад кенгуру. И о бедном Михайловском позабыли навсегда.
* * *
Разумеется, Московский университет активно участвовал в культурной жизни России. Там проводились публичные лекции и литературные чтения. Не обходилось без курьезов. К примеру, как-то раз Викентий Вересаев читал в актовом зале свой рассказ «В мышеловке», посвященный событиям русско-японской войны. Он был посвящен люнету, выдвинутому сильно вперед перед линией фронта – из-за тщеславия корпусного командира и с большим риском для жизни солдат. Собственно, этот люнет солдаты и прозвали «мышеловкой».
Читал Викентий Викентьевич очень плохо. Скучно и без выражения. Да и рассказ был не то чтобы шедевр. Естественно, что слушатели начали утрачивать внимание, вполголоса переговаривались между собой.
А тем временем события в рассказе развивались. Ночь. Сменяется охрана. Кто-то случайно задевает ружьем за котелок. Командир грозно шипит:
– Тише вы, черти!
Эти слова у Вересаева вышли неожиданно отчетливо и громко. Слушатели, позволявшие себе всякие разговорчики, вздрогнули, замолчали и пристыженно взглянули на писателя. Он же продолжил свой монотонный бубнеж. Слушатели не выдержали и потихоньку начали расходиться.
А между тем в «Мышеловке» убит командир. Солдаты хотят подойти к нему, пихаются и суетятся. Младший офицер, который принимает на себя командование люнетом, должен проявить себя. Он громко и повелительно орет:
– Куда поперли? По местам!
Те, кто пробирался к выходу, опешили и вернулись на оставленные стулья.
Долго еще по Москве ходили слухи о крутом характере начинающего литератора В. Вересаева.
* * *
Научная деятельность университета всегда была на высоте. Изобретались новые законы, выводились формулы, гуманитарии плели свои теории. А ученый К. А. Тимирязев расхваливал коллегу П. Н. Лебедева: «Если вам случится проходить по Никитской, загляните в монументальную арку выходящей сюда части Старого университета. В глубине двора вы увидите трехэтажное красное здание с небольшой вышкой. Это – бывший Физический институт, – один из центров русской науки, известный не только за пределами Никитской, но и далеко за пределами России. Это – одна из двух лабораторий, доставляющих в эту минуту почетную известность русской науке… В подвальном этаже – в „Лебедевском подвале“, как его давно окрестили те, кому дорога родная наука, – бьется пульс настоящей, не школьной науки, – не той, которая только поминает заслуги прежних годов и веков, а той, в которой выражается жизнь сегодняшней науки, – завтрашней техники».
А теперь попытаемся себе представить человека, последовавшего призыву Тимирязева. Вот идет по улице Большой Никитской парикмахер. Или же дантист. Проходит мимо здания Старого университета. Видит арку. И вспоминает: «Ага! Я сюда должен зайти! Именно здесь – центр русской науки! Не школьной, а настоящей! Лебедевский подвал».
Меняет траекторию движения. Проходит в арку. Видит перед собой трехэтажное здание с небольшой вышкой. Подходит ближе. Видит дверь. Подходит к двери…
И что же? Что дальше? Похоже, этого не представлял себе и сам Тимирязев. Главное для него было – пропиарить друга и коллегу. Что он и проделал – разумеется, не без чудаковатости, свойственной, как известно, истинным научным деятелям.
* * *
Во время революции 1905 года Московский университет, верный своим традициям, кипел. Это был один из самых крупных революционных очагов Москвы. Андрей Белый – сам в те времена студент – писал в воспоминаниях: «Я получаю миссию: собирать эти деньги; и или приносить самому, или передавать в руки тех, которые будут держать связь с городом; меня вывели через щель; я – куда-то ушмыгиваю и уже себя застаю в богатых квартирах: за сбором дани; оттуда – на подступах к обложенному университету: сдать свою сумму; с второй же порцией денег я застреваю в гнилых, ныне сломанных переулках: меж Моховой и Александровским садом: отрезана – Никитская; на Моховой – ловят; передаю деньги в «руки», меня уверившие, что они тут – от «связи»; не было же мандатов: ни у меня, ни у «рук»; «руки» – ушмыгивают: от крадущихся в переулках теней; я ж – оказываюсь около Александровского сада: во мраке, чтобы найти себя на Тверской в толоке тел, мне сующих деньги на оборону без справок; даже не сообразил, что могу сойти за обманщика; то же проделываю и в кофейне Филиппова, обходя тускло освещенные столики с шапкой в руке; кто-то в перемятой шляпе меня усаживает рядом с собою за столик и мне басит в ухо, что бомбы делать – легко: отвинти ламповый шар, высыпь дробь, и – оболочка готова; поблагодарив за науку, я прощаюсь; и на этот раз с новым «уловом» проныриваю: в ту же все воротную щель.
Ночной университетский двор освещен пламенами костров, за которыми греются дружинники; иные калят на огне острия своих «пик» (жердей решетки).
– Алексей Сергеич, как, – вы?
Петровский, тоже дружинник, тоже присел: калить «пику»; он объяснил, как явился к Думе позднее меня и вместе с другими был загнан в университет, где засел в решимости выдержать осаду; и – драться; побродив по двору среди вооруженных кучек, я получаю задание: выйти, чтоб завтра, с утра, – продолжать свои сборы; я узнаю: Оленин, знакомец, сидит на крыше: с серною кислотою».
Такая вот романтика студенческих досугов.
* * *
Если события 1905 года большей частью смахивали на студенческие игрища, то в октябре 1917 года все было, увы, по-взрослому. В революцию погибло два десятка слушателей, и сам ректор на всеобщем заседании предложил почтить их память. Что и было, разумеется, проделано. Это были не большевики и не противники большевиков. Речь шла о студентах, охранявших помещения от разграблений, – кто бы ни стоял за ними.
Несмотря на охрану, ущерб зданию был нанесен, и противостоять ему было не в силах будущих философов и математиков. Полный скорбный список разрушений, составленный ректором, включал:
«1) в Институте сравнительной анатомии гранатой пробита стена на втором этаже, причем уничтожено шесть шкафов с научными препаратами;