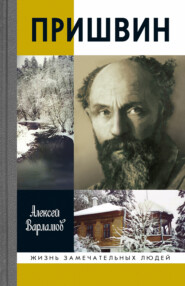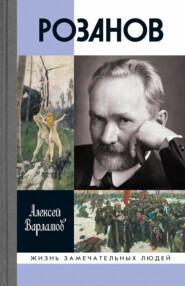По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Одсун. Роман без границ
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Хорошо, что в горах никого нет. Сезон начнется позднее, а пока тропинки пустые, редко-редко встретишь одинокого человека, поздороваешься, улыбнешься в ответ и топаешь дальше. Мне нравится одиночество в горах. На равнине оно утомительно, скучно, но горы тревожат мое сердце. В горах я, вероятно, чувствую то же, что чувствует отец Иржи в храме. Вертикаль.
На горной дороге показывается автомобиль. Он не едет – стоит, но, как мне спьяну кажется, раскачиваясь на рессорах, точно и он слегка принял. Подхожу ближе. Машина полицейская, а качка в ней лишь усиливается. Мне, как лицу бесправному да нетрезвому, унести бы ноги подальше, но не идти же обратно вверх по кручам, с которых я еле слез, проскочу как-нибудь. Интересно, однако, как эта тачка сюда забралась и кто ее бросил? Или тут проходит спецоперация? Облава? Снимают кино?
В голове начинают крутиться разные сюжеты. Вспоминаю, как читал перед отъездом из России книжку про девушку, которая ушла гулять в горы и не вернулась. Ее нашли через месяц на берегу горного ручья, и она была абсолютно голой. Это случилось сто лет назад в австрийских Альпах, и до сих пор никто так и не раскрыл тайну ее смерти. Даже автор той книги. Вот и с этой машиной тоже может быть связана тайна. Но черт возьми! Лишь когда я оказываюсь совсем рядом с автомобилем, понимаю, как опрометчиво поступил.
Не голая, но полураздетая девушка на заднем сиденье встречается с моими глазами, вскрикивает, вслед за ней поднимается бритая голова бородатого парня в расстегнутом мундире, а я, проклиная себя за тупость, шагаю прочь. Блин, как неудобно получилось! Я бы мог быть и подогадливей. Однако сюжет приобретает все более отчетливые очертания. Полицейский заманил девчонку в лес. Или вынудил ее сюда поехать? А впрочем, судя по довольным разбойничьим раскосым глазам, девчонка не сильно возражала, а может, сама этого красавчика сюда завела…
Эх, где моя юность, где моя свежесть? Вопрос не в том, что они прошли, а в том, сколько таких девчонок я упустил! А они упустили меня. Но, кажется, именно тогда, размечтавшись и рассожалевшись о несбывшемся, я сбился с тропы. Станут ли меня искать, а может быть, в поповском доме вздохнут облегченно – ну ушел и ушел? Появился неизвестно откуда и зачем и так же исчез. Или найдут тело эти двое на полицейском авто, когда в очередной раз поедут подальше от чужих глаз?
Иду, не понимая, где нахожусь. Вроде бы горы и горы, смеркается, половина восьмого, восемь, а я все шагаю и не ведаю, в какую страну попал, в какую эпоху, сколько границ успел пересечь и к какому морю выйду. По дороге опять попадаются бетонные глыбы, заросшие кустарником и травой, и похоже, в каком-то из этих бункеров мне придется заночевать. Но тут над горами зажигаются звезды, потом поднимается луна – ее еще не видно, только ощущается, что скоро она покажется из-за склона, и тогда вся местность преобразится. И вот лунный свет лавиной сходит на долины и перевалы, я плыву по освещенной дороге, смотрю на свою долгую размытую тень и без двадцати десять оказываюсь в Горни Липове, только с другого конца. Эх, даже заблудиться не сумел. Бреду через деревню, где ко мне уже привыкли. Еще не настолько, чтобы со мною здороваться не как с чужестранцем, но все же потихоньку я становлюсь частью этого пейзажа.
Никуда не тороплюсь, долго стою на мостике, который переброшен через ручей. Дом отца Иржи с другой стороны. Все уже давно спят, и только наверху в пустынной колокольне горит свет. Отец Иржи, судя по всему, там. Дверь открыта, мне хочется подняться по таинственной лестнице, но делать этого нельзя, и я просто стою и жду, прикладываясь к пузатой бутылочке, покуда она не кончается. Тридцать пять минут, сорок две, сорок девять… Внутренние часы работают бесперебойно независимо от состояния души и градуса тела. Роскошная сладострастная луна висит над головой и, не стесняясь, показывает всю себя. Перекликаются ночные птицы, хищно кружатся в лунном свете бабочки и мотыльки, за ними охотятся, выбрасываясь из ручья, форельки, и всеми этими действиями дирижирует кто-то незримый, как если бы природа давала концерт своему единственному пьяному зрителю. Наконец священник спускается, запирает дверь, и лицо у него такое задумчивое, прекрасное, одухотворенное, точно он и был тем дирижером, и мне хочется в ответ рассказать ему про свою возлюбленную. Именно сейчас. Я чувствую, знаю, что время пришло.
Выступаю из темноты, громко икая. Иржи вздрагивает и смотрит на меня рассеянно, без осуждения, но и без одобрения. Похоже, ему не нравится, что я немножко выпил, но трезвый я бы не посмел своей истории коснуться.
Не знаю точно, с чего начать, потому что познакомился я с Катей дважды. Или, вернее, так: увидел ее через несколько лет после того, как мы с ней впервые проговорили полночи на берегу моря. Поэтому первый раз был вторым, а второй – первым. И с этого второго первого раза я и начинаю. Получается не совсем вразумительно, да плюс непрекращающаяся икота нарушает плавность и красоту моего повествования, и у меня складывается впечатление, что иерей слушает меня не просто невнимательно, а даже не пытается вникнуть в суть. Мысленно он все еще там, на колокольне, со своей дирижерской палочкой, хотя мы уже зашли в дом. Я начинаю сердиться и прошу его дать мне водки и выпить вместе со мной. Не хочу, чтобы он слушал на трезвую голову.
– Это не исповедь, не дурацкие грешки, в которых каются ваши старушки, – кричу я ему в лицо. – Это – роман, самый сокровенный мой роман, и с вашей стороны невежливо мне отказывать.
Однако моя просьба еще больше огорчает его, и он мягко, конфузливо, но очень настойчиво предлагает мне больше сегодня не пить, а пойти отдохнуть и поговорить завтра. Но я не собираюсь ложиться, я хочу, чтобы настала ночь воспоминаний, я знаю, это должно произойти именно сегодня, машу руками и, кажется, задеваю что-то в комнате. Оно падает, разбивается, на шум выбегает матушка Анна в плюшевом розовом халате с мишками, и у меня нет слов, чтобы передать выражение ее лица при взгляде на осколки стекла на полу, лужу и мой походный костюм. Однако Иржи запрещает ей говорить хоть слово. По таким мелочам и становится понятно, кто в доме хозяин.
– Зитра, вшехно буде зитра, – говорит он, подталкивая меня к двери.
Но меня уже не остановить, я не хочу никакого зитра, я хочу сейчас и кричу на плюшевую матушку, обвиняю ее в лицемерии, фарисействе и прочих смертных грехах, а батюшку в том, что он только изображает участие, а на самом деле равнодушен к людям, как печная кладка бездействующего камина в доме, который, икаю я яростно, вам не принадлежит!
Матушка даже не бледнеет, но белеет от гнева, а поп кивает в такт моим возмутительным речам и ведет меня на второй этаж в мою комнатку. Подсохшая грязь комьями падает на лестницу. Бросаю в угол одежду и быстро засыпаю, но в третьем часу ночи просыпаюсь оттого, что наверху кто-то топает. Икота не прошла, голова раскалывается, страшно хочется пить, но я понимаю, что если спущусь на первый этаж, то разбужу хозяев. Вчерашняя наглость сменяется приступом раскаяния таким сильным, что я готов уйти не попрощавшись. Я боюсь даже вспоминать, что именно вчера наговорил и какими глазами буду утром смотреть на отца Иржи, а про матушку не смею и думать. Мне не спится, я продираюсь сквозь лобовую боль и размышляю про немецкого судью, который продолжает мерить шагами чердак над моей головой. Каково ему знать, что в его родовом гнезде, захваченном чехами, буянит пьяный русский?
В окошко виден ярко освещенный луной склон горы и тени высоких деревьев. Тоскливо кричит ночная птица. Земля несется сквозь вселенский холод и слегка дрожит от космической турбулентности. Мне сорок девять лет, я живу в чужом углу, а своего у меня нету и, скорее всего, уже не будет. Мне становится ужасно грустно, так грустно, так жалко себя, что хочется плакать, хочется, чтобы меня кто-нибудь пожалел: учительница мама с ее верными учениками, покойница бабушка, отец или, может быть, Катя…
Памяти «Памяти»
Она стояла на винтовой лестнице, которая вела с сачка на второй этаж к конференц-залу в первом гуме. По этой лестнице ходили не часто, потому что зал обыкновенно пустовал, но в тот день он был открыт и народу собралось много по случаю вручения дипломов. Мы занимались тем, что невнимательно слушали недавно назначенного молодого декана, слонялись по просторному коридору, фотографировались, прикладывались по очереди к бутылке теплого шипучего вина и изображали радость, хотя никакой особенной радости не было. Ну закончили и закончили. Распределение год назад отменили, и если раньше каждый боялся, что его засунут в школу, то теперь куда идти работать и как жить дальше никто не знал.
Когда я поступал, нас отбирали для важной государственной деятельности: преподавать советскую литературу иностранцам, готовили к сложным заграничным командировкам, к идеологической борьбе и пропаганде социалистического образа жизни.
– Преподаватель советской литературы как зарубежной, входя в аудиторию, занимает огневой рубеж идеологической борьбы с врагами и полудрузьями, – была первая фраза, которую я услыхал на своей кафедре, однако потом на наших глазах все начало рушиться, и за несколько лет врагам и полудрузьям сдали всё, что было можно и что нельзя.
Сейчас многие у нас это время ругают, а я рад, отец Иржи, что оно совпало с моей молодостью. Помню, как все менялось на глазах: перестройка, гласность, Абуладзе, дети Арбата, белые одежды, факультет ненужных вещей, пусть Горбачев предъявит доказательства в «Московских новостях», и публичная лекция академика Афанасьева про Сталина на улице 25 Октября, куда было невозможно попасть, и народ стоял на улице и сквозь открытые окна ловил обрывки фраз. Это было время невероятной жажды правды, под видом которой нас так опоили новой ложью, что до сих пор не можем прийти в себя. Но ведь та жажда, честный отче, не на пустом месте возникла! Вам она ничего не скажет, у вас была своя нежная революция, и все закончилось миром, вы вон даже со словаками разошлись так, что никто не пострадал, а мы умылись кровью и продолжаем ее лить. Погодите, я скоро дойду и до своей коханой Катерины, но мой роман требует болтовни.
Так вот, я был счастлив, что все старое рушится. И каждый месяц, неделя, день, каждый новый номер «Октября», «Знамени» или «Нового мира» приносили что-то новое. Большая была стена, мощная, хоть и трухлявая, и мы отколупывали от нее по кирпичику, не соображая, что будет, если вся эта конструкция обрушится на наши головы. Нынче говорят, что надо было не так, ставят в пример Китай, и дядька мой то же самое твердил, когда мы с ним сидели в Купавне и он стучал огромадными кулаками по столу на террасе, клялся Ниной Андреевой и товарищем Лигачевым и клял Яковлева с Шеварднадзе.
– Убить их мало было! Куда КГБ смотрело? С кем боролось? Почему проглядело?
Но я все равно любил и люблю конец восьмидесятых. Мне жутко нравилось видеть, как день за днем мы отыгрываем, вырываем кусочек свободы и то, что вчера казалось невозможным, сегодня становится фактом. Сначала ругали только Сталина, но однажды я с изумлением прочитал в «Вечерней Москве», как писатель Астафьев назвал Брежнева чушкой, и вот тогда-то я и понял, что это конец. При дорогом Леониде Ильиче я родился, вырос, ходил в детский садик и в школу, я помню, как печально и жалостливо смотрела на нас учительница обществоведения Нина Ефимовна, когда он умер. И хотя мы высмеивали дефекты его речи и рассказывали про него анекдоты, все равно прочитать в советской газете «чушка Брежнев» – это было нечто запредельное. Не просто повторение оттепели, а самая настоящая весна: с грохотом разбивающиеся сосульки, потоп, ледостав, грязь, наводнение, – и этого уже было не остановить.
Да, батюшка, журналисты, режиссеры, писатели были в ту пору нашими героями и шли впереди всех. Я ходил на встречи с ними в какие-то дома культуры, окраинные клубы и даже на стадионы, – и все говорили страстно, дерзко, умно. Я слушал, как в студенческом театре МГУ старенького поэта Наума Коржавина, приехавшего по случаю из Америки, умоляли прочитать стихи про декабристов, которые разбудили Герцена, а маленький смешной Наум в очках с крупными линзами отнекивался, потому что боялся подставить тех, кто его сюда пригласил.
На том вечере, кстати, произошла одна история, которая поначалу показалась мне смешной и нелепой, а потом, наоборот, серьезной. В зале, где нынче православный храм, а тогда стояли рядами кресла и на месте алтаря была сцена, народу набилось невероятно много. Люди сидели на подоконниках, толпились в дверях, тянули головы, хлопали – и вдруг интеллигентная тетенька с красиво уложенными волосами и припудренной родинкой на массивном подбородке вскочила с места и исступленно закричала, вытянув палец:
– Уходи, немедленно уходи! Память, память…
Весь огромный зал вздрогнул, обернулся, и я не сразу понял, что этот перст указывает на меня.
– Провокатор, черносотенец, антисемит!
Я не мог ничего понять, а только чувствовал, как все вокруг застыли в напряженном ожидании.
– Пусть он немедленно уходит!
Челюсти при этом работали у нее так жутко, будто она хотела меня сожрать. Подслеповатый Коржавин на сцене замолчал и обиженно выпятил нижнюю губу, а до меня не сразу дошло, что тетку сбила с толку борода, которую я отрастил сразу после военных лагерей, – я показался ей членом националистического общества «Память». Однако ж до какой степени были наэлектризованы, взвинчены люди, если несчастная клочкообразная пегая бороденка, отращенная для пущей солидности молоденьким студентом, заставила мощную даму публично нападать на незнакомого парня и вынудить его с позором уйти. А между тем мы были с ней единомышленниками, и я, как и она, как и миллионы советских интеллигентов, балдел от происходящего, стоял по утрам в очередях за газетами, а ночами смотрел бесконечные трансляции со съездов народных депутатов, с упоением и абсолютной верой слушал двух следователей с дач купавинской прокуратуры Гдляна и Иванова – она ломалась все быстрее, эта старая махина, скрипела, крошилась, шла трещинами и сама не верила в свое исчезновение. И мы не верили тоже.
Но скажите на милость, как она могла выстоять, когда в восемьдесят седьмом году мой ровесник, девятнадцатилетний немецкий пацан аккурат в День пограничника пролетел полстраны на маленьком самолете и сел на Красной площади возле собора Василия Блаженного? Потом все спорили, что это было: тщательно спланированная акция Запада или обыкновенное российское головотяпство, потом про перестройку кинулись говорить – что то была национальная трагедия, предательство, пятая колонна, либералы, масоны, космополиты, агенты влияния. Но какие на хрен либералы, какие, отец Иржи, масоны, если первыми по улице Горького прошли те самые памятники, в принадлежности к которым меня обвиняла милая женщина из студенческого театра МГУ, а потом они же два часа терзали в Моссовете бедолагу Ельцина?
Говорят, нечто похожее случилось и в семнадцатом году. Тоже повылезала разнообразная шпана, и тоже все ликовали: долой царя, да здравствует свобода, демократия – а потом драпали за границу или забивались в подполье. Но если бы тогда мне сказали, что вот я иду и ору, счастливый, свободный, во всю свою юную глотку: «Долой КПСС!» – а потом за это буду нищенствовать, потеряю семью, родину, смысл жизни, я бы все равно орал: «Долой!» А коммунистов за то, что они дважды погубили мою страну, – и когда пришли и когда уходили, – не люблю еще больше.
Горячо – холодно
Но я отвлекся, простите, я буду часто отвлекаться, болтать и сам себе противоречить.
Так вот, пятый курс проходил в угаре, но не учебы – в угаре устроения жизни. Иногородние женились на москвичках, а самые продвинутые на иностранках, девицы торопились выскочить замуж, кто-то мечтал прорваться в аспирантуру, а кто-то остаться на кафедре. Меня не ждало ни то ни другое, учился я посредственно, но все равно мне было грустно уходить из университета, который я любил и всегда гордился тем, что я московский студент. Я верил, что в Москве есть только один университет, и позднее мне сделалось ужасно смешно, когда какой-нибудь институтишко вдруг начинал величать себя университетом. Мне был двадцать один год, я ждал от этих цифр чего-то необыкновенного, и в голове у меня роились романтические мечты завербоваться на Север, на Соловки или на Дальний Восток, на Курильские либо Командорские острова, узнать жизнь, поработать в районной газете, поездить по стране, и, наверное, жаль, что я этим мечтам не последовал. Однако подвернулась работа в головном издательстве, дурацкая, младшим редактором, и дядюшка Александр уверил мою маму, что это шанс, который глупо упускать, – карьера, рост, перспектива.
Вы хотите узнать про моего отца? Он умер, когда я был ребенком. Меня воспитывала мама и ее братья. Матушка второй раз замуж не вышла, и я не знаю, больше ли во мне теперь благодарности или вины перед ней. Это обстоятельство, кстати, роднило нас с Петей, хотя мы о нем никогда не говорили.
Но вы опять меня перебиваете, а в ту минуту с новеньким синим дипломом в видавшем виде дипломате я размышлял о том, как мы поедем к Тимоше на Фили, где у нашего общего друга Алеши Тимофеева была квартира в добротном кирпичном доме, принадлежавшем Западному порту, и там мы собирались отметить окончание универа. Только сначала надо было запастись спиртным, что в девяностом году было делом немыслимой сложности, ибо и водка, и вино продавались по талонам в очень немногих магазинах, так что надо было выстаивать огромные бесформенные очереди, в которых диктовали порядки шпана и алкаши.
Я уже размышлял, куда бы нам поехать: на Киевскую, Красногвардейскую или, может быть, Лодочную улицу – там был один укромный, мало кому известный магазинчик на берегу Химкинского водохранилища, куда можно было перебраться на речном трамвайчике от Речного вокзала, а дальше пройти пешком вдоль воды, – и именно в эту минуту я увидел ту девушку. Она была похожа на чью-то младшую сестру или, может быть, невесту, правда, для невесты слишком молода, пришла, должно быть, с кем-то из тех, кто получал сегодня диплом, но стояла одна, и было похоже, что она потерялась, как теряются маленькие дети. Эта ее беззащитность напомнила мне одно мое старое обязательство.
– Ты кого-то ищешь?
Она кивнула.
– Кого?
– Вас.
Повторяю, она мне правда кого-то или что-то напоминала, но я ее, конечно, не узнал, потому что она очень изменилась, как меняются, взрослея, девочки. Я только видел, что она страшно волнуется. Это волнение ощущалось во всем. Она волновалась, как волновалось Бисеровское озеро после семи часов утра, как волновалось купавинское поле, когда дул западный ветер, то есть я хочу сказать, целиком, полностью, каждой травиночкой, былиночкой, колоском. Простите, отец Иржи, я пробовал в университете писать стихи, очень плохие, и это, может быть, не слишком удачный образ, но именно так она волновалась или, точнее, так я про ее волнение подумал. И это волнение странным образом притянуло меня к ней. Так волнуются, еще может быть, перед экзаменами. И мне сделалось смешно, потому что все свои экзамены в жизни я сдал и больше никогда не буду учить вопросы и вытягивать билеты.
А она вздохнула, опустила голову, и я почувствовал, догадался, что если сейчас уйду, то эти прекрасные глаза наполнятся слезами, простите. Но я и не хотел уже никуда уходить.
– Может, вам подсказать? – спросила она упавшим голосом.
– Что?
– Ну там, горячо – холодно.
Я пожал плечами и сказал первое, что пришло на ум:
– Костер.
На горной дороге показывается автомобиль. Он не едет – стоит, но, как мне спьяну кажется, раскачиваясь на рессорах, точно и он слегка принял. Подхожу ближе. Машина полицейская, а качка в ней лишь усиливается. Мне, как лицу бесправному да нетрезвому, унести бы ноги подальше, но не идти же обратно вверх по кручам, с которых я еле слез, проскочу как-нибудь. Интересно, однако, как эта тачка сюда забралась и кто ее бросил? Или тут проходит спецоперация? Облава? Снимают кино?
В голове начинают крутиться разные сюжеты. Вспоминаю, как читал перед отъездом из России книжку про девушку, которая ушла гулять в горы и не вернулась. Ее нашли через месяц на берегу горного ручья, и она была абсолютно голой. Это случилось сто лет назад в австрийских Альпах, и до сих пор никто так и не раскрыл тайну ее смерти. Даже автор той книги. Вот и с этой машиной тоже может быть связана тайна. Но черт возьми! Лишь когда я оказываюсь совсем рядом с автомобилем, понимаю, как опрометчиво поступил.
Не голая, но полураздетая девушка на заднем сиденье встречается с моими глазами, вскрикивает, вслед за ней поднимается бритая голова бородатого парня в расстегнутом мундире, а я, проклиная себя за тупость, шагаю прочь. Блин, как неудобно получилось! Я бы мог быть и подогадливей. Однако сюжет приобретает все более отчетливые очертания. Полицейский заманил девчонку в лес. Или вынудил ее сюда поехать? А впрочем, судя по довольным разбойничьим раскосым глазам, девчонка не сильно возражала, а может, сама этого красавчика сюда завела…
Эх, где моя юность, где моя свежесть? Вопрос не в том, что они прошли, а в том, сколько таких девчонок я упустил! А они упустили меня. Но, кажется, именно тогда, размечтавшись и рассожалевшись о несбывшемся, я сбился с тропы. Станут ли меня искать, а может быть, в поповском доме вздохнут облегченно – ну ушел и ушел? Появился неизвестно откуда и зачем и так же исчез. Или найдут тело эти двое на полицейском авто, когда в очередной раз поедут подальше от чужих глаз?
Иду, не понимая, где нахожусь. Вроде бы горы и горы, смеркается, половина восьмого, восемь, а я все шагаю и не ведаю, в какую страну попал, в какую эпоху, сколько границ успел пересечь и к какому морю выйду. По дороге опять попадаются бетонные глыбы, заросшие кустарником и травой, и похоже, в каком-то из этих бункеров мне придется заночевать. Но тут над горами зажигаются звезды, потом поднимается луна – ее еще не видно, только ощущается, что скоро она покажется из-за склона, и тогда вся местность преобразится. И вот лунный свет лавиной сходит на долины и перевалы, я плыву по освещенной дороге, смотрю на свою долгую размытую тень и без двадцати десять оказываюсь в Горни Липове, только с другого конца. Эх, даже заблудиться не сумел. Бреду через деревню, где ко мне уже привыкли. Еще не настолько, чтобы со мною здороваться не как с чужестранцем, но все же потихоньку я становлюсь частью этого пейзажа.
Никуда не тороплюсь, долго стою на мостике, который переброшен через ручей. Дом отца Иржи с другой стороны. Все уже давно спят, и только наверху в пустынной колокольне горит свет. Отец Иржи, судя по всему, там. Дверь открыта, мне хочется подняться по таинственной лестнице, но делать этого нельзя, и я просто стою и жду, прикладываясь к пузатой бутылочке, покуда она не кончается. Тридцать пять минут, сорок две, сорок девять… Внутренние часы работают бесперебойно независимо от состояния души и градуса тела. Роскошная сладострастная луна висит над головой и, не стесняясь, показывает всю себя. Перекликаются ночные птицы, хищно кружатся в лунном свете бабочки и мотыльки, за ними охотятся, выбрасываясь из ручья, форельки, и всеми этими действиями дирижирует кто-то незримый, как если бы природа давала концерт своему единственному пьяному зрителю. Наконец священник спускается, запирает дверь, и лицо у него такое задумчивое, прекрасное, одухотворенное, точно он и был тем дирижером, и мне хочется в ответ рассказать ему про свою возлюбленную. Именно сейчас. Я чувствую, знаю, что время пришло.
Выступаю из темноты, громко икая. Иржи вздрагивает и смотрит на меня рассеянно, без осуждения, но и без одобрения. Похоже, ему не нравится, что я немножко выпил, но трезвый я бы не посмел своей истории коснуться.
Не знаю точно, с чего начать, потому что познакомился я с Катей дважды. Или, вернее, так: увидел ее через несколько лет после того, как мы с ней впервые проговорили полночи на берегу моря. Поэтому первый раз был вторым, а второй – первым. И с этого второго первого раза я и начинаю. Получается не совсем вразумительно, да плюс непрекращающаяся икота нарушает плавность и красоту моего повествования, и у меня складывается впечатление, что иерей слушает меня не просто невнимательно, а даже не пытается вникнуть в суть. Мысленно он все еще там, на колокольне, со своей дирижерской палочкой, хотя мы уже зашли в дом. Я начинаю сердиться и прошу его дать мне водки и выпить вместе со мной. Не хочу, чтобы он слушал на трезвую голову.
– Это не исповедь, не дурацкие грешки, в которых каются ваши старушки, – кричу я ему в лицо. – Это – роман, самый сокровенный мой роман, и с вашей стороны невежливо мне отказывать.
Однако моя просьба еще больше огорчает его, и он мягко, конфузливо, но очень настойчиво предлагает мне больше сегодня не пить, а пойти отдохнуть и поговорить завтра. Но я не собираюсь ложиться, я хочу, чтобы настала ночь воспоминаний, я знаю, это должно произойти именно сегодня, машу руками и, кажется, задеваю что-то в комнате. Оно падает, разбивается, на шум выбегает матушка Анна в плюшевом розовом халате с мишками, и у меня нет слов, чтобы передать выражение ее лица при взгляде на осколки стекла на полу, лужу и мой походный костюм. Однако Иржи запрещает ей говорить хоть слово. По таким мелочам и становится понятно, кто в доме хозяин.
– Зитра, вшехно буде зитра, – говорит он, подталкивая меня к двери.
Но меня уже не остановить, я не хочу никакого зитра, я хочу сейчас и кричу на плюшевую матушку, обвиняю ее в лицемерии, фарисействе и прочих смертных грехах, а батюшку в том, что он только изображает участие, а на самом деле равнодушен к людям, как печная кладка бездействующего камина в доме, который, икаю я яростно, вам не принадлежит!
Матушка даже не бледнеет, но белеет от гнева, а поп кивает в такт моим возмутительным речам и ведет меня на второй этаж в мою комнатку. Подсохшая грязь комьями падает на лестницу. Бросаю в угол одежду и быстро засыпаю, но в третьем часу ночи просыпаюсь оттого, что наверху кто-то топает. Икота не прошла, голова раскалывается, страшно хочется пить, но я понимаю, что если спущусь на первый этаж, то разбужу хозяев. Вчерашняя наглость сменяется приступом раскаяния таким сильным, что я готов уйти не попрощавшись. Я боюсь даже вспоминать, что именно вчера наговорил и какими глазами буду утром смотреть на отца Иржи, а про матушку не смею и думать. Мне не спится, я продираюсь сквозь лобовую боль и размышляю про немецкого судью, который продолжает мерить шагами чердак над моей головой. Каково ему знать, что в его родовом гнезде, захваченном чехами, буянит пьяный русский?
В окошко виден ярко освещенный луной склон горы и тени высоких деревьев. Тоскливо кричит ночная птица. Земля несется сквозь вселенский холод и слегка дрожит от космической турбулентности. Мне сорок девять лет, я живу в чужом углу, а своего у меня нету и, скорее всего, уже не будет. Мне становится ужасно грустно, так грустно, так жалко себя, что хочется плакать, хочется, чтобы меня кто-нибудь пожалел: учительница мама с ее верными учениками, покойница бабушка, отец или, может быть, Катя…
Памяти «Памяти»
Она стояла на винтовой лестнице, которая вела с сачка на второй этаж к конференц-залу в первом гуме. По этой лестнице ходили не часто, потому что зал обыкновенно пустовал, но в тот день он был открыт и народу собралось много по случаю вручения дипломов. Мы занимались тем, что невнимательно слушали недавно назначенного молодого декана, слонялись по просторному коридору, фотографировались, прикладывались по очереди к бутылке теплого шипучего вина и изображали радость, хотя никакой особенной радости не было. Ну закончили и закончили. Распределение год назад отменили, и если раньше каждый боялся, что его засунут в школу, то теперь куда идти работать и как жить дальше никто не знал.
Когда я поступал, нас отбирали для важной государственной деятельности: преподавать советскую литературу иностранцам, готовили к сложным заграничным командировкам, к идеологической борьбе и пропаганде социалистического образа жизни.
– Преподаватель советской литературы как зарубежной, входя в аудиторию, занимает огневой рубеж идеологической борьбы с врагами и полудрузьями, – была первая фраза, которую я услыхал на своей кафедре, однако потом на наших глазах все начало рушиться, и за несколько лет врагам и полудрузьям сдали всё, что было можно и что нельзя.
Сейчас многие у нас это время ругают, а я рад, отец Иржи, что оно совпало с моей молодостью. Помню, как все менялось на глазах: перестройка, гласность, Абуладзе, дети Арбата, белые одежды, факультет ненужных вещей, пусть Горбачев предъявит доказательства в «Московских новостях», и публичная лекция академика Афанасьева про Сталина на улице 25 Октября, куда было невозможно попасть, и народ стоял на улице и сквозь открытые окна ловил обрывки фраз. Это было время невероятной жажды правды, под видом которой нас так опоили новой ложью, что до сих пор не можем прийти в себя. Но ведь та жажда, честный отче, не на пустом месте возникла! Вам она ничего не скажет, у вас была своя нежная революция, и все закончилось миром, вы вон даже со словаками разошлись так, что никто не пострадал, а мы умылись кровью и продолжаем ее лить. Погодите, я скоро дойду и до своей коханой Катерины, но мой роман требует болтовни.
Так вот, я был счастлив, что все старое рушится. И каждый месяц, неделя, день, каждый новый номер «Октября», «Знамени» или «Нового мира» приносили что-то новое. Большая была стена, мощная, хоть и трухлявая, и мы отколупывали от нее по кирпичику, не соображая, что будет, если вся эта конструкция обрушится на наши головы. Нынче говорят, что надо было не так, ставят в пример Китай, и дядька мой то же самое твердил, когда мы с ним сидели в Купавне и он стучал огромадными кулаками по столу на террасе, клялся Ниной Андреевой и товарищем Лигачевым и клял Яковлева с Шеварднадзе.
– Убить их мало было! Куда КГБ смотрело? С кем боролось? Почему проглядело?
Но я все равно любил и люблю конец восьмидесятых. Мне жутко нравилось видеть, как день за днем мы отыгрываем, вырываем кусочек свободы и то, что вчера казалось невозможным, сегодня становится фактом. Сначала ругали только Сталина, но однажды я с изумлением прочитал в «Вечерней Москве», как писатель Астафьев назвал Брежнева чушкой, и вот тогда-то я и понял, что это конец. При дорогом Леониде Ильиче я родился, вырос, ходил в детский садик и в школу, я помню, как печально и жалостливо смотрела на нас учительница обществоведения Нина Ефимовна, когда он умер. И хотя мы высмеивали дефекты его речи и рассказывали про него анекдоты, все равно прочитать в советской газете «чушка Брежнев» – это было нечто запредельное. Не просто повторение оттепели, а самая настоящая весна: с грохотом разбивающиеся сосульки, потоп, ледостав, грязь, наводнение, – и этого уже было не остановить.
Да, батюшка, журналисты, режиссеры, писатели были в ту пору нашими героями и шли впереди всех. Я ходил на встречи с ними в какие-то дома культуры, окраинные клубы и даже на стадионы, – и все говорили страстно, дерзко, умно. Я слушал, как в студенческом театре МГУ старенького поэта Наума Коржавина, приехавшего по случаю из Америки, умоляли прочитать стихи про декабристов, которые разбудили Герцена, а маленький смешной Наум в очках с крупными линзами отнекивался, потому что боялся подставить тех, кто его сюда пригласил.
На том вечере, кстати, произошла одна история, которая поначалу показалась мне смешной и нелепой, а потом, наоборот, серьезной. В зале, где нынче православный храм, а тогда стояли рядами кресла и на месте алтаря была сцена, народу набилось невероятно много. Люди сидели на подоконниках, толпились в дверях, тянули головы, хлопали – и вдруг интеллигентная тетенька с красиво уложенными волосами и припудренной родинкой на массивном подбородке вскочила с места и исступленно закричала, вытянув палец:
– Уходи, немедленно уходи! Память, память…
Весь огромный зал вздрогнул, обернулся, и я не сразу понял, что этот перст указывает на меня.
– Провокатор, черносотенец, антисемит!
Я не мог ничего понять, а только чувствовал, как все вокруг застыли в напряженном ожидании.
– Пусть он немедленно уходит!
Челюсти при этом работали у нее так жутко, будто она хотела меня сожрать. Подслеповатый Коржавин на сцене замолчал и обиженно выпятил нижнюю губу, а до меня не сразу дошло, что тетку сбила с толку борода, которую я отрастил сразу после военных лагерей, – я показался ей членом националистического общества «Память». Однако ж до какой степени были наэлектризованы, взвинчены люди, если несчастная клочкообразная пегая бороденка, отращенная для пущей солидности молоденьким студентом, заставила мощную даму публично нападать на незнакомого парня и вынудить его с позором уйти. А между тем мы были с ней единомышленниками, и я, как и она, как и миллионы советских интеллигентов, балдел от происходящего, стоял по утрам в очередях за газетами, а ночами смотрел бесконечные трансляции со съездов народных депутатов, с упоением и абсолютной верой слушал двух следователей с дач купавинской прокуратуры Гдляна и Иванова – она ломалась все быстрее, эта старая махина, скрипела, крошилась, шла трещинами и сама не верила в свое исчезновение. И мы не верили тоже.
Но скажите на милость, как она могла выстоять, когда в восемьдесят седьмом году мой ровесник, девятнадцатилетний немецкий пацан аккурат в День пограничника пролетел полстраны на маленьком самолете и сел на Красной площади возле собора Василия Блаженного? Потом все спорили, что это было: тщательно спланированная акция Запада или обыкновенное российское головотяпство, потом про перестройку кинулись говорить – что то была национальная трагедия, предательство, пятая колонна, либералы, масоны, космополиты, агенты влияния. Но какие на хрен либералы, какие, отец Иржи, масоны, если первыми по улице Горького прошли те самые памятники, в принадлежности к которым меня обвиняла милая женщина из студенческого театра МГУ, а потом они же два часа терзали в Моссовете бедолагу Ельцина?
Говорят, нечто похожее случилось и в семнадцатом году. Тоже повылезала разнообразная шпана, и тоже все ликовали: долой царя, да здравствует свобода, демократия – а потом драпали за границу или забивались в подполье. Но если бы тогда мне сказали, что вот я иду и ору, счастливый, свободный, во всю свою юную глотку: «Долой КПСС!» – а потом за это буду нищенствовать, потеряю семью, родину, смысл жизни, я бы все равно орал: «Долой!» А коммунистов за то, что они дважды погубили мою страну, – и когда пришли и когда уходили, – не люблю еще больше.
Горячо – холодно
Но я отвлекся, простите, я буду часто отвлекаться, болтать и сам себе противоречить.
Так вот, пятый курс проходил в угаре, но не учебы – в угаре устроения жизни. Иногородние женились на москвичках, а самые продвинутые на иностранках, девицы торопились выскочить замуж, кто-то мечтал прорваться в аспирантуру, а кто-то остаться на кафедре. Меня не ждало ни то ни другое, учился я посредственно, но все равно мне было грустно уходить из университета, который я любил и всегда гордился тем, что я московский студент. Я верил, что в Москве есть только один университет, и позднее мне сделалось ужасно смешно, когда какой-нибудь институтишко вдруг начинал величать себя университетом. Мне был двадцать один год, я ждал от этих цифр чего-то необыкновенного, и в голове у меня роились романтические мечты завербоваться на Север, на Соловки или на Дальний Восток, на Курильские либо Командорские острова, узнать жизнь, поработать в районной газете, поездить по стране, и, наверное, жаль, что я этим мечтам не последовал. Однако подвернулась работа в головном издательстве, дурацкая, младшим редактором, и дядюшка Александр уверил мою маму, что это шанс, который глупо упускать, – карьера, рост, перспектива.
Вы хотите узнать про моего отца? Он умер, когда я был ребенком. Меня воспитывала мама и ее братья. Матушка второй раз замуж не вышла, и я не знаю, больше ли во мне теперь благодарности или вины перед ней. Это обстоятельство, кстати, роднило нас с Петей, хотя мы о нем никогда не говорили.
Но вы опять меня перебиваете, а в ту минуту с новеньким синим дипломом в видавшем виде дипломате я размышлял о том, как мы поедем к Тимоше на Фили, где у нашего общего друга Алеши Тимофеева была квартира в добротном кирпичном доме, принадлежавшем Западному порту, и там мы собирались отметить окончание универа. Только сначала надо было запастись спиртным, что в девяностом году было делом немыслимой сложности, ибо и водка, и вино продавались по талонам в очень немногих магазинах, так что надо было выстаивать огромные бесформенные очереди, в которых диктовали порядки шпана и алкаши.
Я уже размышлял, куда бы нам поехать: на Киевскую, Красногвардейскую или, может быть, Лодочную улицу – там был один укромный, мало кому известный магазинчик на берегу Химкинского водохранилища, куда можно было перебраться на речном трамвайчике от Речного вокзала, а дальше пройти пешком вдоль воды, – и именно в эту минуту я увидел ту девушку. Она была похожа на чью-то младшую сестру или, может быть, невесту, правда, для невесты слишком молода, пришла, должно быть, с кем-то из тех, кто получал сегодня диплом, но стояла одна, и было похоже, что она потерялась, как теряются маленькие дети. Эта ее беззащитность напомнила мне одно мое старое обязательство.
– Ты кого-то ищешь?
Она кивнула.
– Кого?
– Вас.
Повторяю, она мне правда кого-то или что-то напоминала, но я ее, конечно, не узнал, потому что она очень изменилась, как меняются, взрослея, девочки. Я только видел, что она страшно волнуется. Это волнение ощущалось во всем. Она волновалась, как волновалось Бисеровское озеро после семи часов утра, как волновалось купавинское поле, когда дул западный ветер, то есть я хочу сказать, целиком, полностью, каждой травиночкой, былиночкой, колоском. Простите, отец Иржи, я пробовал в университете писать стихи, очень плохие, и это, может быть, не слишком удачный образ, но именно так она волновалась или, точнее, так я про ее волнение подумал. И это волнение странным образом притянуло меня к ней. Так волнуются, еще может быть, перед экзаменами. И мне сделалось смешно, потому что все свои экзамены в жизни я сдал и больше никогда не буду учить вопросы и вытягивать билеты.
А она вздохнула, опустила голову, и я почувствовал, догадался, что если сейчас уйду, то эти прекрасные глаза наполнятся слезами, простите. Но я и не хотел уже никуда уходить.
– Может, вам подсказать? – спросила она упавшим голосом.
– Что?
– Ну там, горячо – холодно.
Я пожал плечами и сказал первое, что пришло на ум:
– Костер.