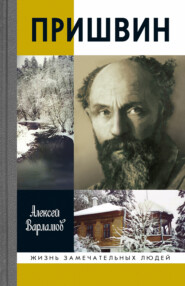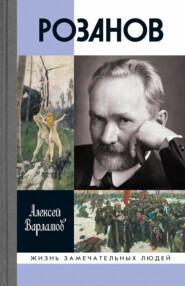По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Одсун. Роман без границ
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Холодно.
– Картошка.
– Еще холоднее.
– Стройотряд?
– Нет.
– Общага.
– Холодно.
– Поход?
– Холодно.
– Осень.
– Холодно, холодно, – говорила она с каким-то невообразимым отчаянием, и правда, холодом пахнуло посреди жаркого душного летнего дня. А потом незнакомка так порывисто взмахнула рукой, что я схватил ее за тонкое запястье, чтобы она не улетела, и эта порывистость опять же мне что-то напомнила. Но я все равно ее не узнавал.
– Метро.
– Холодно.
– Сессия.
– Холодно.
– Сплав. Байда. Рыбалка. Сачок. Колок. Портвейн. Буфет. Красновидово. Азау. Третье ущелье. Сандал. Античка. Старослав. Истграм. Инстаграм. Поцелуй. Тысяча поцелуев, моя Лесбия.
– Холодно, – и тут она так глянула, что меня как будто дернуло током.
Я огляделся по сторонам – мы начали привлекать внимание.
– Ладно, давай по-другому. Ты меня давно знаешь?
– Да.
– А я тебя?
– Тоже.
– Я тебя раньше видел?
– Не видели, – согласилась она. – Потому что было темно.
– А ты меня?
– Много раз.
Она была так красива, так притягательна, и столько девичьей, женской прелести в ней было, что я оторопел. Платье на ней было светлое, легкое, оно просвечивало, но не вульгарно, а чуть-чуть, так, что можно было только догадываться о юном, гибком теле под ним. Я опять подумал, что эта девочка ошиблась, перепутала меня с кем-то, и мне стало ужасно обидно.
Нас обгоняли знакомые и незнакомые люди, на меня поглядывали с интересом мои нарядные, накрашенные сокурсницы, – надо было отойти, подняться или спуститься, чтобы уступить им дорогу; подскочил озабоченный, толстогубый Тимошка, похожий на зеркального карпа из прудов бисеровского рыбхоза, и, намеренно не глядя на девушку, показал мне на часы, но время я знал и без него и все равно не мог сдвинуться с места: пропадал, растворялся в этих черных смеющихся глазах, еще не знавших наслаждения своей силой, смущенных, довольных, виноватых, – в ней не было ни тени усталости, разочарования, жеманности или кокетства.
– Это было в Москве?
– Нет.
– В поезде?
– Нет.
– В самолете?
Она опять покачала головой:
– Я никогда не летала на самолетах.
– Я тоже.
– А зачем тогда спрашиваете?
«Ну же, ну же, вспоминай», – умоляли, плакали и смеялись глаза с дрожащими ресницами.
– А ты точно меня ни с кем не путаешь?
– Нет.
– Тогда скажи где.
– В Крыму.
В Крыму я был единственный раз в жизни, что значительно сужало поиск, но все равно вспомнить не мог.
– Пепито комэ лос пепинос, – неуверенно прошептали пунцовые нецелованные губы.
Я выкатил глаза – неужели это была?..
Комитет молодежных организаций
Простите, что я снова пью и плачу, иерей Иржи. Наверное, я действительно постарел, потому что сделался слезлив и сентиментален. Уже поздно, но не уходите, пожалуйста, а лучше позовите матушку Анну, может быть, она тоже послушает мой рассказ и станет ко мне чуть добрее. Ведь это правда, что я бесправный беженец и очень неаккуратный и, похоже, весьма бестактный, невоспитанный человек, но я никого не отравлял, не преследовал и не сделал никому ничего плохого. И скажите ей, что Крым у Украины мы не украли, – слышите ли вы эту чудную аллитерацию и сохранится ли она в переводе на чешский? – ибо как можно украсть у самих себя наше общее место, где я впервые с Катериной увиделся?
Только поклянитесь мне, хоть я и знаю, что клясться у вас, у попов, не принято, пообещайте мне тогда, что никогда вы не обратите против меня то, что я вам сейчас расскажу.
…Ровно за четыре года до этой встречи я сидел на десятом этаже стекляшки на кафедре античной литературы, пытаясь пересдать латынь Зиновьевой, и, подглядывая в шпаргалку, канючил «Вивамус меа Лесби, атквамемус». Это был мой единственный хвост. Я не умел учить мертвые языки. Живые кое-как мог, но к мертвым не лежала моя душа, и никакой красоты и гармонии я в них не обретал. А у Зиновьевой не лежала душа ко мне. Она невзлюбила меня с того раза, когда на ее вопрос, как переводится memento mori, я ответил:
– Не забудь умереть.
– Картошка.
– Еще холоднее.
– Стройотряд?
– Нет.
– Общага.
– Холодно.
– Поход?
– Холодно.
– Осень.
– Холодно, холодно, – говорила она с каким-то невообразимым отчаянием, и правда, холодом пахнуло посреди жаркого душного летнего дня. А потом незнакомка так порывисто взмахнула рукой, что я схватил ее за тонкое запястье, чтобы она не улетела, и эта порывистость опять же мне что-то напомнила. Но я все равно ее не узнавал.
– Метро.
– Холодно.
– Сессия.
– Холодно.
– Сплав. Байда. Рыбалка. Сачок. Колок. Портвейн. Буфет. Красновидово. Азау. Третье ущелье. Сандал. Античка. Старослав. Истграм. Инстаграм. Поцелуй. Тысяча поцелуев, моя Лесбия.
– Холодно, – и тут она так глянула, что меня как будто дернуло током.
Я огляделся по сторонам – мы начали привлекать внимание.
– Ладно, давай по-другому. Ты меня давно знаешь?
– Да.
– А я тебя?
– Тоже.
– Я тебя раньше видел?
– Не видели, – согласилась она. – Потому что было темно.
– А ты меня?
– Много раз.
Она была так красива, так притягательна, и столько девичьей, женской прелести в ней было, что я оторопел. Платье на ней было светлое, легкое, оно просвечивало, но не вульгарно, а чуть-чуть, так, что можно было только догадываться о юном, гибком теле под ним. Я опять подумал, что эта девочка ошиблась, перепутала меня с кем-то, и мне стало ужасно обидно.
Нас обгоняли знакомые и незнакомые люди, на меня поглядывали с интересом мои нарядные, накрашенные сокурсницы, – надо было отойти, подняться или спуститься, чтобы уступить им дорогу; подскочил озабоченный, толстогубый Тимошка, похожий на зеркального карпа из прудов бисеровского рыбхоза, и, намеренно не глядя на девушку, показал мне на часы, но время я знал и без него и все равно не мог сдвинуться с места: пропадал, растворялся в этих черных смеющихся глазах, еще не знавших наслаждения своей силой, смущенных, довольных, виноватых, – в ней не было ни тени усталости, разочарования, жеманности или кокетства.
– Это было в Москве?
– Нет.
– В поезде?
– Нет.
– В самолете?
Она опять покачала головой:
– Я никогда не летала на самолетах.
– Я тоже.
– А зачем тогда спрашиваете?
«Ну же, ну же, вспоминай», – умоляли, плакали и смеялись глаза с дрожащими ресницами.
– А ты точно меня ни с кем не путаешь?
– Нет.
– Тогда скажи где.
– В Крыму.
В Крыму я был единственный раз в жизни, что значительно сужало поиск, но все равно вспомнить не мог.
– Пепито комэ лос пепинос, – неуверенно прошептали пунцовые нецелованные губы.
Я выкатил глаза – неужели это была?..
Комитет молодежных организаций
Простите, что я снова пью и плачу, иерей Иржи. Наверное, я действительно постарел, потому что сделался слезлив и сентиментален. Уже поздно, но не уходите, пожалуйста, а лучше позовите матушку Анну, может быть, она тоже послушает мой рассказ и станет ко мне чуть добрее. Ведь это правда, что я бесправный беженец и очень неаккуратный и, похоже, весьма бестактный, невоспитанный человек, но я никого не отравлял, не преследовал и не сделал никому ничего плохого. И скажите ей, что Крым у Украины мы не украли, – слышите ли вы эту чудную аллитерацию и сохранится ли она в переводе на чешский? – ибо как можно украсть у самих себя наше общее место, где я впервые с Катериной увиделся?
Только поклянитесь мне, хоть я и знаю, что клясться у вас, у попов, не принято, пообещайте мне тогда, что никогда вы не обратите против меня то, что я вам сейчас расскажу.
…Ровно за четыре года до этой встречи я сидел на десятом этаже стекляшки на кафедре античной литературы, пытаясь пересдать латынь Зиновьевой, и, подглядывая в шпаргалку, канючил «Вивамус меа Лесби, атквамемус». Это был мой единственный хвост. Я не умел учить мертвые языки. Живые кое-как мог, но к мертвым не лежала моя душа, и никакой красоты и гармонии я в них не обретал. А у Зиновьевой не лежала душа ко мне. Она невзлюбила меня с того раза, когда на ее вопрос, как переводится memento mori, я ответил:
– Не забудь умереть.