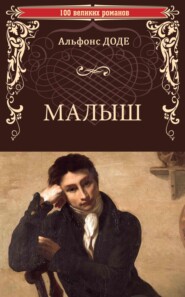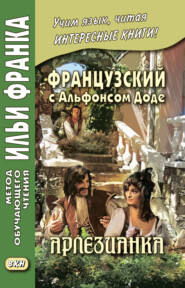По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сафо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Розарио Санчес, любовница Де-Поттера.
Эта Розарио, или Роза, как гласило её имя, написанное на всех зеркалах ночных ресторанов, всегда с прибавлением какой-нибудь сальности, была в старину наездницей на Ипподроме и славилась в мире кутил своеЙ циничной распущенностью, зычной глоткой и ударами хлыста, которыми награждала членов клуба; последние весьма высоко ценили их и подчинялись ей, как лошади.
Испанка из Орана, она была скорее эффектна, чем хороша, и при вечернем освещении производила и сейчас известное впечатление своими черными, подведенными глазами и сросшимися бровями; но здесь, даже в этом полусвете, ей можно было смело дать все пятьдесят лет, отражавшиеся на плоском, жестком лице, со вздувшейся и желтой, как у лимона её родины, кожей. Будучи подругой Фанни Легран, она в течение ряда лет опекала ее в её любовных похождениях, и одно имя Розы наводило ужас на любовников Сафо.
Фанни поняла, почему задрожала рука Жана, и поспешила оправдаться. К кому же было обратиться, чтобы найти место? Она была в затруднении. К тому же, Роза ведет теперь спокойную жизнь: она богата, и живет в своем отеле на улице Виллье, или на своей вилле в Ангиене, принимая старых друзей, но любовника имеет лишь одного – своего неизменного композитора.
– Поттера? – спросил Жан… – Мне казалось, что он женат?
– Да… женат; кажется даже на хорошенькой женщине, и у него есть дети… Но это не помешало ему вернуться к прежней… И если бы ты видел, как она говорит с ним, как третирует его!.. Да, ему туго приходится… – Она пожимала ему руку с нежным упреком. В эту минуту дама прервала чтение и обратилась к мешочку, прыгавшему на конце шнурка:
– Ну же, сиди смирно, говорят тебе!.. – А затем сказала управительнице тоном приказания: – подай Бичито кусок сахару.
Фанни встала, принесла кусок сахару, и, приблизив его к отверстию мешочка, произнесла несколько ласковых, детских слов. – «Взгляни, какой хорошенький зверек… – сказала она своему любовнику, показывая укутанное ватой животное, вроде большой, уродливой ящерицы, зубастое, покрытое бородавками, с наростом на голове в виде капюшона, сидевшим на трясучем студенистом теле; то был хамелеон, присланный Розе из Алжира, и она охраняла его от суровой парижской зимы, окружая его теплом и заботами. Она любила его, как никого в жизни не любила; и Жан понял по угодливым приемам Фанни, какое место в доме занимало это ужасное животное.
Дама захлопнула книгу, собираясь ехать. – Сносно для первого месяца… Только будь экономнее со свечами.
Она окинула хозяйским взглядом маленькую, чисто убранную гостиную, с мебелью обитой тисненным бархатом, сдула пыль с растения, стоявшего на столике, заметила дырочку в гипюровой занавеске окна; наконец с выразительным взглядом сказала молодым людям. – Только, милые мои, пожалуйста без глупостей… Мой дом безусловно приличный…» и, усевшись в экипаж, покатила в Булонский лес на обычную прогулку.
– Видишь, как все это несносно!.. – сказала Фанни. – Она и её мать мучают меня своими посещениями два раза в неделю. Мать еще ужаснее, еще жаднее… Нужна вся моя любовь к тебе, поверь, чтобы тянуть эту лямку в этом противном доме… Наконец, ты тут и еще мой… Я так боялась… – Она обняла его, прильнув к нему длительным поцелуем, и в его ответном трепете нашла уверенность, что он еще принадлежит ей. Но в коридоре слышны были шаги, приходилось быть настороже. Когда внесли лампу, она села на обычное место и взяла свое рукоделие; он сел рядом, как будто пришел с визитом…
– Не правда ли, я изменилась?.. Немного осталось от прежней Сафо…
Улыбаясь, она показывала вязальный крючок, которым двигала неловко, словно маленькая девочка. Она прежде терпеть не могла вязания; чтение, рояль, папироска или стряпня с засученными рукавами любимого блюда – других занятий у неё не было.
Но что было делать здесь? О рояле, стоявшем в гостиной, нечего было и думать, она целый день неотлучно должна быть в конторе… Романы? Она знала так много настоящих приключений! Тоскуя по запрещенной папироске, она стала вязать кружева; давая работу рукам, вязанье оставляет свободу мысли – и Фанни поняла пристрастие женщин к различным рукоделиям, которые раньше презирала.
Пока она неловко старалась нацепить петлю, со вниманием неопытной вязальщицы, Жан наблюдал ее, спокойную, в простом платье со стоячим воротничком, гладко зачесанными волосами на круглой, античной головке, с видом благоразумным и безупречным. По улице, в направлении шумных бульваров, непрерывно тянулся ряд экипажей, в которых высоко сидели известные, роскошно одетые кокотки; казалось, Фанни без сожаления смотрела на эту выставку торжествующего порока; ведь и она могла бы занять в ней место, которым пренебрегла ради него. Только бы он согласился хоть изредка видаться с ней, а она уж сумеет справиться со своею рабской жизнью и даже найти в ней привлекательные стороны…
Все обитатели пансиона обожали ее. Иностранки, лишенные вкуса, следовали её советам при покупке нарядов; по утрам она давала уроки пения старшей из девиц-перуанок и указывала мужчинам, какую книгу прочесть, какую пьесу посмотреть в театре; мужчины осыпали ее знаками внимания и предупредительности, особенно голландец, живший во втором этаже. – Он усаживается на этом месте, где ты сидишь и смотрит на меня, пока я не скажу: «Кейпер, вы мне надоели». Тогда он отвечает: «Хорошо» и уходит… Он преподнес мне эту маленькую коралловую брошь… Она стоит пять франков, и я приняла ее, лишь бы от него отвязаться.
Вошел лакей и поставил поднос с посудой на круглый столик, слегка отодвинув растение. – Я обедаю здесь, одна, за час до общего обеда. – Она указала на два блюда из довольно длинного и обильного меню. Заведующая хозяйством имела право лишь на суп и на два блюда. – Ну и подлая же Розарио!.. Хотя, в конце концов, я предпочитаю обедать здесь; не надо разговаривать и я прочитываю твои письма, – они заменяют мне собеседника.
Она прервала себя, чтобы достать скатерть и салфетки; ее беспокоили ежеминутно; то приходилось отдать приказание, то отворять шкаф, то удовлетворить какое-либо требование. Жан понял, что, оставаясь дольше, он стеснил бы ее; к тому же ей стали подавать обед, и маленькая, жалкая порционная чашка, дымившаяся на столе, навела обоих на одну и ту же мысль, на одно и то же сожаление о былых совместных обедах!
– До воскресенья… до воскресенья… – тихонько повторяла она, отпуская его. В присутствии служащих и сходивших по лестнице нахлебников они не могли обнять друг друга; Фанни взяла его руку, и долго держала ее у своего сердца, как бы желая впитать его ласку.
Весь вечер и всю ночь он думал о ней, страдая за её рабскую приниженность перед подлой хозяйкой и её жирной ящерицей; голландец тоже смущал его, так что до воскресенья он не жил, а мучился. На деле, этот полуразрыв, долженствовавший без потрясений подготовить конец их связи, оказался для Фанни ножом садовода, оживляющим гниющее дерево. Почти ежедневно писали они друг другу записки, полные нежности, которые диктуются нетерпением влюбленных; или же он заходил к ней после службы для тихой беседы в конторе, за вязаньем.
Говоря о нем в пансионе, она как то сказала: «Один из моих родственников»… и под защитой этой неопределенной клички он мог провести иногда вечер в их гостиной, словно за тысячу верст Парижа. Он познакомился с семьей перуанцев, с их бесчисленными барышнями, всегда безвкусно одетыми в яркие цвета, и восседавшими вдоль стен гостиной точь-в-точь как попугаи на насесте; он слушал игру на цитре расфуфыренной Минны Фогель, напоминавшей обвитую хмелем жердь, и видел её молчаливого брата; больной страстно покачивал головой в такт музыке и перебирал пальцами воображаемый кларнет – единственный инструмент, на котором ему позволено было играть; играл в вист с голландцем, толстым, лысым и грязным; голландец бывал во всех странах и плавал по всем океанам, но когда его спрашивали об Австралии, где он недавно провел несколько месяцев, то он отвечал, вытаращив глаза:
– Угадайте, что стоит в Мельбурне картофель?.. – дороговизна картофеля была единственным, обстоятельством, поразившая его в чужих краях.
Фанни была душой этих собраний, болтала, пела, играя роль осведомленной и светской парижанки; окружавшие ее чудаки не замечали в ней следов богемы и мастерской, или же принимали их за утонченные манеры. Она поражала их своими связями со знаменитостями литературного и артистического мира; а русской даме, сходившей с ума по Дежуа, сообщила подробности о его манере творить, о количестве чашек кофе, выпиваемых им за ночь, о точной цифре гонорара, уплаченного издателем «Сендринетты» за этот труд, обогативший его. Успехи любовницы наполняли Госсэна гордостью, так что, забывая свою ревность, он готов был засвидетельствовать её слова, если бы кто-нибудь в них усомнился.
Любуясь ею в этом мирном салоне, при мягком свете ламп под абажуром, пока она разливала чай, аккомпанировала на рояле молодым девушкам и давала им советы, словно старшая сестра, он находил странное удовольствие припоминать ее иной, такой, какой она приходила к нему по воскресеньям утром, вся промокшая от дождя; дрожа от холода, но не подходя к ярко пылавшему камину, затопленному ради её прихода, она поспешно раздевалась и бросалась в широкую постель, прижимаясь к любовнику. Какие объятия, какие ласки! Ими вознаграждалось нетерпение целой недели, лишение испытываемое каждым из них, и сохранявшим их любви её жизненность.
Проходили часы, они не знали счета времени и до вечера не покидали постели. Ничто не соблазняло их; ни развлечения, ни визиты к друзьям, будь то даже Эттэма, которые из экономии решили переселиться за город. После завтрака, поданного тут же, они слушали, притаясь, и не двигаясь, воскресный шум парижской толпы, слонявшейся по улицам, свистки поездов, грохот переполненных экипажей; только крупные капли дождя, падавшие на цинковую крышу балкона, да ускоренное биение их сердец, отмечали это отсутствие жизни, это незнание времени, вплоть до сумерек.
Наконец газ, зажженный напротив, бросал бледный отсвет на обои; надо было вставать, так как Фанни должна была возвращаться к семи часам. В полутьме комнаты, пока она надевала непросохшие от ходьбы башмаки, юбки и платье управительницы – черный мундир трудящихся женщин – все неприятности, все унижения казались ей еще более тяжкими и жестокими.
Вокруг была любимая обстановка, мебель, маленькая умывальная комната, напоминавшая ей прежние счастливые дни, и это еще усиливало её печаль… Она с трудом отрывалась: «Идем!» Чтобы подольше остаться вместе, Жан провожал ее до пансиона; они медленно, прижавшись друг к другу, возвращались по аллее Елисейских Полей; фонари, возвышавшаяся Триумфальная Арка, да две-три звездочки на темном небе, казались фоном диорамы. На углу улицы Перголез, вблизи пансиона, она приподнимала вуалетку для последнего поцелуя, и он оставался один, растерянный, с отвращением к квартире, куда возвращался как можно позже, проклиная свою бедность и злобствуя на родных в Кастеле за ту жертву, на которую он обрек себя ради них.
В течение двух или трех месяцев они вели невыносимое существование, так как Жан должен был сократить и посещение отеля, вследствие сплетен прислуги, а Фанни все больше и больше раздражалась на скупость матери и дочери Санчес. Она втихомолку подумывала о возобновлении своего маленького хозяйства и чувствовала, что возлюбленный её тоже выбился из сил; но ей хотелось, чтобы он первый заговорил об этом.
В одно апрельское воскресенье, Фанни явилась более нарядная, чем обыкновенно в круглой шляпке, в весеннем, простом туалете – она была небогата – хорошо облегавшем её стройную фигуру.
– Вставай скорее, поедем завтракать на дачу…
– На дачу?..
– Да, в Ангиен, к Розе… Она пригласила нас обоих…
Сначала он отказался, но Фанни настояла. Никогда Роза не простила бы ему отказа. – Ты должен согласиться ради меня… Кажется, я, с своей стороны, немало делаю.
Большая дача, великолепно отделанная и меблированная, в которой потолки и зеркальные простенки отражали искристый блеск воды, стояла на берегу Ангиенского озера, перед громадной лужайкой, спускавшейся к бухте, где покачивалось несколько яликов и лодок; роскошные грабовые аллеи парка уже трепетали ранней зеленью и цветущею сиренью. Корректная прислуга и безупречные аллеи, где нельзя было найти ни сучка, делали честь двойному надзору Розарио и старухи Пилар.
Все сидели уже за столом, когда они появились, целый час проплутав вследствие неточного адреса, вокруг озера, по переулкам между садовыми решетками. Смущение Жана достигло высшей степени от холодного приема хозяйки, взбешенной тем, что их пришлось ждать, и необычайного вида старых ведьм, которым Роза представила его крикливым голосом уличной торговки. То были три «звезды», как называют себя известные кокотки – три развалины, блиставшие когда-то при Второй Империи, с именами столь же знаменитыми, как имена великих поэтов или полководцев: Вильки Коб, Сомбрёз, Клара Дефу. Разумеется, звезды эти блестели как и раньше, разодетые по последней моде, в весенних туалетах, изящные, нарядные от воротничка до ботинок; но, увы, какие увядшие, намазанные, и реставрированные! Сомбрёз, с мертвыми глазами без век, вытянув губы, ощупью искала свою тарелку, вилку, стакан; Дефу – громадная, угреватая, с грелкой под ногами, разложила на скатерти жалкие, подагрические, искривленные пальцы, унизанные сверкающими перстнями, надевать и снимать которые было так трудно и сложно, как разбирать звенья римского фокуса; а Коб, – тоненькая, с моложавой фигурой, что делало еще более отвратительной её облысевшую голову больного клоуна, прикрытую париком из желтой пакли. Она была разорена, имущество её было описано, и она отправилась в последний раз в Монте-Карло попытать счастья; вернулась оттуда без гроша, воспылав страстью к красивому крупье, не захотевшему ее знать. Роза, приютившая ее у себя и кормившая, чрезвычайно хвалилась этим.
Все эти женщины были знакомы с Фанни и покровительственно приветствовали ее: «Как поживаете, милая?» Фанни, с скромном платье, по три франка за метр, без драгоценностей, кроме красной броши Кейпера, выглядела «новенькой» среди этих престарелых чудовищ полусвета, казавшихся еще страшнее от окружавшей их роскоши, при отраженном блеске воды и неба, проникавшем вместе с весенним ароматом в окна и двери столовой.
Тут же была старуха Пилар, «обезьяна», она называла себя на своем франко-испанском жаргоне – настоящая макака, с шероховатой бесцветной кожей, с выражением злой хитрости на морщинистом лице, с остриженными в кружок седыми волосами, и одетая в старое черное атласное платье, с голубым матросским воротником.
– Наконец, господин Бичито… – сказала Роза, заканчивая представление своих гостей, и показывая Госсэну лежавший на скатерти ком розовой ваты с дрожащим под ним хамелеоном.
– А меня не следует разве представить? – спросил с напускною веселостью высокий господин, с седеющими усами и с несколько чопорной осанкой, в светлом пиджаке и стоячем воротничке.
– Правда… забыли: Татава, – сказали, смеясь, женщины. Хозяйка дома небрежно назвала его фамилию. То был Де-Поттер, известный композитор, автор «Клавдии» и «Савонароллы»; Жан, лишь мельком видевший его у Дешелетта, был поражен почти полным отсутствием духовных черт в наружности великого артиста, с правильным, но неподвижным, словно деревянным лицом, бесцветными глазами, с печатью безумной, неизлечимой страсти, державшей его уже много лет около этой развратной твари; эта страсть заставила его покинуть жену и детей, и стать прихлебателем в доме, на который он просадил уже часть своего огромного состояния и театральных заработков, и где с ним обращались хуже, чем с лакеем. Нужно было видеть, как выходила из себя Роза при его попытках вступить в разговор, каким презрительным тоном она приказывала ему молчать. И Пилар всегда поддерживая дочь, прибавляла внушительно:
– Помолчи, пожалуйста, милый.
Жан сидел за столом рядом с Пилар, ворчавшей и чавкавшей, во время еды, как животное, и жадно заглядывавшей в его тарелку; это изводило молодого человека, уже и без того раздраженного бесцеремонным тоном Розы, задевавшей Фанни, вышучивавшей музыкальные вечера в пансионе и наивность несчастных иностранцев, принимавших управительницу за разорившуюся светскую даму. Казалось, что бывшая наездница, заплывшая нездоровым жиром, с тысячными бриллиантами в ушах, завидовала подруге, её молодости и красоте, которые невольно сообщались ей её молодым и красивым любовником; но Фанни не раздражалась, а наоборот, забавляла весь стол, представляя в карикатурном виде обитателей пансиона: перуанца, с закатыванием глаз, высказывавшего ей свое страстное желание познакомиться с известной «кокоткой», и молчаливое ухаживанье голландца, сопевшего, как тюлень, за её стулом: «Угадайте, что стоит в Батавии картофель?»
Госсэн не смеялся; Пилар тоже была серьезна, то присматривая за дочерним серебром, то резким движением набрасываясь вдруг на свой прибор, или на рукав соседа, в погоне за мухой, которую предлагала, бормоча нежные слова: «ешь, милочка, ешь красавец» отвратительному животному, лежавшему на скатерти, сморщенному и бесформенному, как пальцы старой Дефу.
Иногда, за недостатком мух поблизости, она намечала муху на буфете или на стеклянной двери, вставала и с торжеством ловила ее. Этот прием, часто повторяемый, вывел наконец из терпения дочь, особенно нервничавшую с самого утра:
– Не вскакивай каждую минуту! Наконец, это утомительно.
Тем же голосом, но сильно коверкая слова, мать ответила:
– Вы ведь обжираетесь… Почему же ему-то не есть?
– Уходи из за стола, или сиди спокойно… Ты всем надоела…
Старуха заупрямилась, и они начали ругаться как испанки-ханжи, примешивая к уличной брани и ад, и дьяволов:
– Hija del demonio.
Другие электронные книги автора Альфонс Доде
Малыш




 0
0