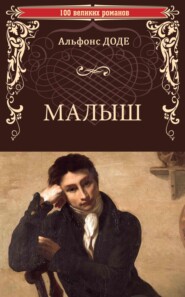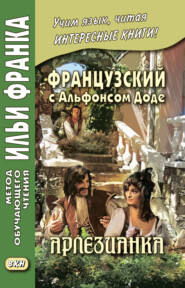По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сафо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Слышишь, слышишь, – говорила Фанни, бледнея от бешенства. – Это она над нами смеется…
Все унижения, все гневные выходки припомнились ей при этом последнем оскорблении; она перечисляла их, идя к вокзалу и рассказывала вещи, которые до тех пор скрывала. Роза только и старалась над тем, чтобы их разлучить, чтобы облегчить ей возможность обмана.
– Чего-чего только она не говорила мне, убеждая согласиться на предложения голландца… Не далее, как сейчас, все они, точно сговорившись, начали… Я слишком люблю тебя, понимаешь, и это стесняет ее в её пороках, ибо она обладает всеми пороками, самыми низменными, самыми чудовищными. И вот за это, я не хочу, больше…
Она остановилась и умолкла, видя, что он страшно побледнел, и что губы его дрожали, как в тот вечер, когда он ворошил пепел сожженных писем.
– О, не бойся, – сказала она. – Твоя любовь излечила меня от всех этих ужасов… Она и её омерзительный хамелеон, оба внушают мне отвращение…
– Я не позволю тебе больше оставаться там, – сказал ей любовник, теряя рассудок от ужасающей ревности. – Слишком много грязи в хлебе, который ты зарабатываешь. Ты вернешься ко мне, мы как-нибудь выбьемся.
Она давно ждала, призывала этот крик. Тем не менее, она колебалась, возражая, что на триста франков, которые он получает в министерстве, жить своим домом трудно; придется, пожалуй, снова расставаться, – а я уже перенесла такие страдания, когда прощалась в первый раз с нашим бедным домом.
Под акациями, окаймлявшими дорогу, с телеграфными проволоками усеянными ласточками, стояли скамейки; чтобы удобнее беседовать, они сели на скамейку, оба взволнованные и не разнимая рук:
– Триста франков в месяц… – сказал Жан. – Но как же живут Эттэма, которые получают всего двести пятьдесят?
– Они живут в деревне, в Шавиль, круглый год.
– Так что же; сделаем, как они; я не дорожу Парижем.
– В самом деле?.. Ты согласен?.. Ах друг мой, друг мой…
По дороге проходили люди, проезжала на ослах после свадьбы кавалькада. Они не могли поцеловать друг друга и сидели не двигаясь, прижавшись один к другому и мечтая о счастье, которое принесут им летние вечера, свежесть лугов, и теплая тишина, изредка нарушаемая выстрелами из ружья или ритурнелями шарманки с какого-то деревенского праздника.
Глава 8
Они поселились в Шавиле, между холмом и равниной, на старинной лесной дороге Pav? des Gardes, в бывшем охотничьем домике, у самой опушки леса. В домике было три комнаты, не просторнее тех, что были у них в Париже, и стояла все та же мебель: камышовое кресло, расписной шкаф, а ужасные зеленые обои их спальни были украшены лишь портретом Фанни, так как фотография Кастеле осталась без рамки, которая сломалась во время перевозки и выцветала теперь где то на чердаке.
О несчастном Кастеле больше не говорили с тех пор, как дядя и племянник прервали переписку. «Хорош друг!», говорила Фанни, вспоминая готовность Фена содействовать их первому разрыву. Только малютки писали брату о местных новостях; Дивонна же не писала совсем. Быть может она еще сердилась на племянника; или же угадывала, что скверная женщина переехала к нему вновь, чтобы распечатывать и обсуждать её жалкие материнские письма, написанные крупным, деревенским почерком.
Были минуты когда они могли вообразить себя еще в квартире на улице Амстердам, когда просыпались под звуки романса, распеваемого супругами Эттэма, ставшими и здесь их соседями, и под свистки поездов, беспрестанно скрещивавшихся по ту сторону дороги и мелькавших сквозь деревья большого парка. Но, вместо тусклых стекол Западного вокзала, вместо его окон без штор, в которые виднелись наклоненные головы служащих, вместо грохота покатой улицы, они теперь наслаждались видом безмолвного и зеленого пространства за маленьким огородом, окруженным другими садиками и домами, утопавшими среди деревьев и спускавшимися к подножью холма.
Утром, перед отъездом, Жан завтракал в маленькой столовой, с окном, открытым на широкую вымощенную дорогу с пробивающеюся кое-где травой и обнесенную изгородями белого шиповника с горьким запахом. Этой дорогой он в десять минут доходил до станции, минуя парк с шумевшими деревьями и распевавшими птицами; когда он возвращался, шум умолкал по мере того, как тень выступала из кустов и охватывала зеленый мох дороги, позлащённым и заходящим солнцем, а кукование кукушек, раздававшееся в всех уголках леса, сливалось с трелями соловьев, скрывавшихся в густом плюще.
Но когда первоначальное устройство было закончено, когда кончилась новизна этой окружавшей их тишины и мира, любовник снова вернулся к своим мукам бесплодной ревности. Ссора Фанни с Розою и её отъезд из меблированных комнат вызвали между женщинами чудовищное объяснение, в котором никто не понимал друг друга, и оно вновь разбередило все его подозрения и тревоги; когда он уходил, когда он видел из вагона свой невысокий домик с круглым слуховым окном, взгляд его словно стремился проникнуть сквозь стены. Он говорил себе: «Как знать?» И мысль об этом не покидала его даже в канцелярии, над бумагами. По возвращении, он заставлял Фанни рассказывать весь свой день, хотел знать малейшие её поступки, занятия, большей частью безразличные, и прерывал рассказ восклицаниями: «О чем ты думаешь? Говори же»!.. не переставая опасаться, что она сожалеет о чем-нибудь или о ком-нибудь из своего ужасного прошлого, в котором она всякий раз признавалась с тою же отчаянной откровенностью.
Когда они виделись только по воскресеньям, скучая друг о друге, у него не хватало времени на производство этого морального следствия, оскорбительного и мелочного. Но, видаясь непрерывно, в интимной близости совместной жизни, они мучили друг друга даже среди ласк, даже в минуты забвения, терзаемые глухим гневом и болезненным чувством непоправимого; он выбивался из сил, чтобы заставить испытать эту женщину, отравленную любовью, какое-нибудь неизведанное ощущение; она же готова на все, лишь бы доставить ему радость, которую она не дарила уже десятку других людей, и не будучи в состоянии выполнить этого, плакала от бессильного гнева.
Затем на них сошел какой-то мир; быть может, то было влияние пресыщения среди теплой ласковой природы, или проще соседство супругов Эттэма. Быть может из всех семейств, живших на даче под Парижем, ни одно так полно не наслаждалось деревенской свободой, возможностью ходить в старом платье, в шляпах из стружек, барыня без корсета, а барин в купальных туфлях; выйдя из-за стола они относили корки хлеба уткам, остатки овощей кроликам, затем пололи, скребли, прививали и поливали сад.
Ох, эта поливка!..
Супруги Эттэма принимались за нее едва муж, вернувшись, переодевал свое служебное платье на куртку Робинзона; после обеда он еще работал; ночь уже спускалась над темным садиком, над которым поднимался свежий запах сырой земли, а все еще слышались скрип колодца, звон больших леек, и тяжелое дыхание то над той, то над другой куртиной вместе со струями пота, падавшими, казалось, с чела самих работников; время от времени слышались победные крики:
– Я вылил тридцать две лейки на сахарный горошек!..
– А я четырнадцать на бальзамины!..
Эти люди не довольствовались тем, что были счастливы, но они еще любовались собою, смаковали свое счастье, лезли с ним ко всем; особенно муж, описывавший в ярких красках все прелести зимовки вдвоем на лоне природы:
– Теперь еще ничего, а вы увидите что будет в декабре! Приходишь домой, промокший, в грязи, с головой, забитой всевозможными парижскими делами и заботами; находишь дома яркий огонь, горящую лампу, вкусно пахнущий суп, а под столом пару сабо, выложенных соломой. Нет, видите ли, когда проглотишь тарелку сосисек с капустой, да кусок швейцарского сыру, сохранявшегося под сырой тряпкой, когда запьешь все это литром хорошего вина, не прошедшего через Берси и чистого от всяких примесей, то приятно бывает подвинуть кресло к огню, закурить трубку, потягивая кофе с несколькими каплями ликера, и на минутку вздремнуть, сидя друг против друга, меж тем, как в окна хлещет дождь со снегом… Вздремнуть на минутку, чтобы только слегка облегчить начало пищеварения… 3атем немного почертишь, жена убирает со стола, ходит взад и вперед, оправляет постель, кладет грелку, и когда она легла на теплое местечко, ты тоже заваливаешься на постель, и по всему телу разливается такое тепло, словно ты весь погружаешься в ту теплую солому, которою выстланы твои туфли…
В такие минуты этот косматый исполин с тяжелой нижней челюстью, обыкновенно такой робкий, что не мог произнести ни слова, не запинаясь и не краснея, делался почти красноречивым.
Его безумная застенчивость, находившаяся в таком странном контрасте с черной бородой и сложением гиганта, собственно и привела его к женитьбе и составила счастье всей его жизни. В двадцать пять лет, пышущий здоровьем и силой, Эттэма не знал ни любви, ни женщин, как вдруг однажды в Невере, после основательного обеда, товарищи увлекли его, полупьянаго, в веселый дом и понудили его выбрать женщину. Ушел от оттуда потрясенный, затем пришел вновь выбрать ту же женщину; наконец, выкупил ее и увез к себе. Из страха, чтобы кто-нибудь у него ее не отнял, и чтобы не пришлось предпринимать новые завоевания, он кончил тем, что женился на ней.
– Вот тебе и законный брак, друг мой!.. – говорила Фанни, победоносно смеясь Жану, слушавшему ее с ужасом. – Изо всех браков, которые я знаю, это еще самый порядочный самый честный!
Она утверждала это в простодушии своего невежества, так как все законные браки, которые ей случалось видеть, и не заслуживали другой оценки; и все её понятия о жизни были так неверны и так же искренни, как это.
Супруги Эттэма были чрезвычайно удобными соседями, всегда ровными, способными даже на мелкие, не слишком обременительные для себя услуги, и всего более страшились сцен и ссор, в которых надо становиться на чью-нибудь сторону; словом всего, что может нарушить спокойное пищеварение. Жена пыталась даже посвящать Фанни в воспитание кур и кроликов, в мирные радости поливки, но безрезультатно.
Любовница Госсэна, как дочь предместья, прошедшая через мастерские, любила деревню лишь минутами, как место, где можно покричать, покататься по траве, забыться в объятиях любовника. Она ненавидела всякое усилие и труд; и за шесть месяцев своего хозяйничанья в меблированных комнатах, истощив надолго свою деятельную энергию, она отдавалась теперь смутному оцепенению, опьянению воздухом и покоем, отнимавшему у неё всякое желание даже одеваться, причесываться или хоть изредка открывать свое фортепиано.
Все домашние заботы были всецело возложены на деревенскую прислугу, и когда наступал вечер и она припоминала весь день, чтобы описать его Жану, то не находила ничего, кроме визита к Олимпии, разговоров через забор и… папирос, целых груд папирос, окурки которых усыпали мраморный пол перед камином. Уже шесть часов… едва остается время накинуть платье, приколоть к поясу цветок и идти по зеленой тропинке навстречу Жану.
Но, благодаря туманам, осенним дождям и ранним сумеркам у неё явилось много предлогов, вовсе не выходить из дома и Жан не раз заставал ее в том же халате из белой шерстяной материи, с широкими складками, который она, наскоро закрутив волосы, надевала по утрам, когда он уходил. Он находил ее очаровательной в таком виде, с молодой нежной шеей, с соблазнительным, выхоленным телом, которое чувствовалось близко, ничем не стесненное. Вместе с тем, однако, эта неряшливость, до известной степени, шокировала и пугала его, как опасность для будущего.
Сам он, после усиленной добавочной работы, с целью увеличить свои доходы, не прибегая к помощи Кастеле, после ночей, проведенных над черчением планов, над воспроизведением артиллерийских снарядов, повозок и ружей нового образца, которые он чертил для Эттэма, почувствовал себя вдруг охваченным тем успокаивающим влиянием деревни и одиночества, которому поддаются даже самые сильные и самые деятельные люди; зерно этого чувства было заложено в него детством, проведенным в тихом уголке Прованса, на лоне природы.
Заражаясь во время бесконечных взаимных посещений, материализмом своих дородных соседей, с их моральным отупением и чудовищным аппетитом, Госсэн и его любовница также усвоили себе привычку серьезно обсуждать вопросы стола во время отхода ко сну. Сезар прислал им бочку своего «лягушачьего вина» и они провели целое воскресенье, разливая его по бутылкам; дверь в маленький погреб была открыта, пропуская прощальные лучи осеннего солнца, небо было синее, с редкими розовато-лиловыми, как лесной вереск, облачками. Недалеко уже было и до сабо, выстланных теплой соломой, и до мимолетного подремывания вдвоем по обе стороны камина!.. Но, к счастью, судьба послала им развлечение.
Однажды вечером, Жан застал Фанни очень взволнованной. Олимпия только что рассказала ей про одного несчастного ребенка, проживавшего в Морване, у бабушки. Отец и мать, торговцы дровами, жившие в Париже не писали, не платили. Бабушка вдруг умерла и рыбаки отвезли мальчишку Ионским каналом, чтобы вернуть его родителям; но родителей не оказалось. Склад был закрыт, мать уехала с любовником, отец спился, опустился и также исчез… Хороши законные браки!.. И вот малютка, шестилетний ангелочек, очутился на улице без платья, без куска хлеба.
Она была растрогана до слез и вдруг сказала:
– Не взять ли его нам?.. Хочешь?
– Какое безумие!..
– Почему?.. – И, ластясь, продолжала: – Ты знаешь, как мне хотелось иметь от тебя ребенка; я буду воспитывать хоть этого, буду его учить. Этих малюток, которых берешь на воспитание в конце концов начинаешь любить как родных.
Она представляла себе, как это ее развлечет, рассеет, в то время как теперь она проводит целые дни одна, тупея и переворачивая в голове кучи отвратительных мыслей. Ребенок – это охрана, спасение. Затем, видя, что он боится расходов, сказала:
– Расходы невелики… Подумай, ему всего шесть лет; я буду перешивать для него твое старое платье… Олимпия, понимающая в этом деле, уверяет, что нам это совсем не будет заметно.
– Почему же она не берет его сама? – сказал Жан, с досадой человека, чувствующего себя побежденным собственною слабостью. Тем не менее, он попробовал возражать, привел последние доводы: – А когда я уеду… – Он редко говорил о своем отъезде, чтобы не огорчать Фанни, но подумывал о нем, успокаивался на нем, когда ему надоедало хозяйство, или когда тревожили замечания Поттера: – Какое осложнение этот ребенок, какая обуза для тебя в будущем!
– Ты ошибаешься, мой друг; с ним я хоть могла бы говорить о тебе, он был бы моим утешением, а также и моей ответственностью; он заставил бы меня работать, полюбить жизнь…
Он подумал с минуту, представил ее себе, одинокой, в пустом доме:
– Где же малютка?
– В Нижнем Медоне, у рыбака, приютившего его на несколько дней… А потом придется отдать его в приют…
– Ну, что ж; сходи за ним, если тебе так хочется…
Другие электронные книги автора Альфонс Доде
Малыш




 0
0