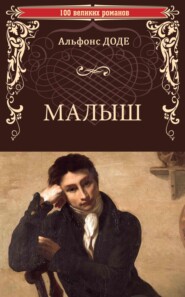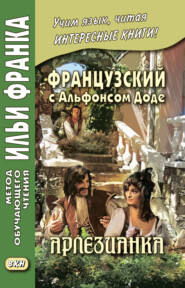По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сафо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Эх, бедная моя Фанни, – говорил Каудаль, шутливо указывая ей на гостей. – Какой упадок… Как они состарились, как стали плоски… Только мы с тобою еще и держимся.
Фанни рассмеялась:
– Извините, полковник, (иногда его называли так за его усы) это не одно и то же… я – другого выпуска!..
– Каудаль забывает, что он прадед, – сказал Гурнери; и в ответ на движение скульптора, которого он задел за живое, крикнул пронзительным голосом: – Каудаль получил медаль в 1840-ом году; почтенная дата!..
Между двумя старыми приятелями существовала всегда глухая антипатия и вызывающий тон, который никогда не ссорил их, но проявлялся в их взглядах, в ничтожных словах, и начало которому было положено двадцать лет тому назад, когда поэт отнял у скульптора любовницу. Фанни для них уже давно не имела значения, и тот и другой пережили новые радости и новые разочарования, но вражда продолжала существовать и с годами становилась все глубже.
– Взгляните на нас обоих, и скажите откровенно, кто больше похож на прадеда… – Затянутый в пиджак, обрисовывающий его мускулы, Каудаль стоял прямо, выпятив грудь, потрясая своей огненной гривой, в которой не заметно было ни одного седого волоска. – Получил медаль в 1840 году!.. Будет пятьдесят восемь лет через три месяца… Но что же это доказывает?.. Разве стариками людей делает возраст?.. Только во Французской Комедии да в Консерватории люди в шестьдесят лет уже обладают всеми старческими недугами, трясут головой и ходят, сгорбясь, едва передвигая ноги. В шестьдесят лет, чёрт побери, ходят прямее, чем в тридцать, так как следят за собою! Да и женщины будут еще заглядываться на вас, лишь бы сердце было молодо, согревало бы кровь и оживляло бы вас всего…
– Ты думаешь? – спросил Гурнери, насмешливо поглядывая на Фанни. Дешелетт, с доброй улыбкой, сказал:
– Между тем ты только и говоришь, что на свете всего лучше молодость, ты от неё без ума…
– Малютка Кузинар заставила меня переменить мнение… Кузинар, моя новая натурщица… Восемнадцать лет, кругленькая, с ямочками повсюду, точно Клодион… и такая добрая – дочь народа, дочь парижского Рынка, где её мать торгует птицей… Она говорит иногда такие глупости, что хочется ее расцеловать… такие… На днях в мастерской она нашла роман Дежуа, прочла заглавие «Тереза» и отбросила его с капризной миной: «Если бы роман этот назывался „Бедная Тереза“, я читала бы его всю ночь…» Я от неё без ума, уверяю вас.
– Вот ты и попал опять в семейные люди?.. А через шесть месяцев снова разрыв, снова слезы, отвращение к работе, гнев на всех…
Лоб Каудаля омрачился:
– Правда, ничего нет прочного… Люди сходятся, расходятся…
– Зачем же тогда сходиться?
– Хорошо, а ты? Неужели ты думаешь, что ты всю жизнь проживешь с твоей фламандкой?..
– О, мы ничем не связаны… Не так ли Алиса?
– Разумеется, кротко и рассеянно ответила молодая женщина, стоявшая на стуле, и срезавшая глицинии и зелень для букета к столу. Дешелетт продолжал:
– У нас не будет разрыва, мы просто разойдемся… Мы заключили договор провести вместе два месяца; в последний день мы расстанемся без отчаяния, без удивления… Я вернусь в Исфахан, – я уже заказал себе место в спальном вагоне, – а Алиса переедет снова в свою маленькую квартирку на улице Лабрюнер, в которой жила до сих пор.
– Третий этаж, не считая антресолей; превосходное место, чтобы выброситься из окна.
Говоря это, молодая женщина улыбалась, рыжеволосая и сияющая, в свете заката, с тяжелой кистью лиловых цветов в руке; но тон, которым она произнесла эти слова был так глубок и так серьезен, что никто не ответил.
Ветер свежел, дома напротив казались выше.
– Прошу за стол, – крикнул полковник… – и давайте болтать глупости…
– Да, верно, gaudeamus igitur… будем веселиться, пока мы молоды, не так ли Каудаль? – сказал Гурнери с деланным смехом.
Несколько дней спустя, Жан снова проходил по улице Ром, и нашел мастерскую запертой, широкую бумажную штору спущенной во все окно и гробовую тишину во всем доме вплоть до его крыши, в форме терассы. Дешелетт уехал в положенный срок. Жан подумал: «Хорошо в жизни делать то, что хочешь, управлять своим разумом и сердцем! Хватит ли у меня когда-нибудь на это мужества?»
Чья то рука опустилась на его плечо:
– Здравствуйте, Госсэн…
Дешелетт, утомленный, более желтый и хмурый, чем обыкновенно, объяснил ему, что он еще не уехал, задержанный в Париже делами, и что он живет в Гранд-отеле, так как мастерской боится после той ужасной истории…
– Что случилось?
– Да, в самом деле, вы не знаете… Алиса умерла… Убилась. Подождите минутку, я посмотрю, нет ли для меня писем…
Он вернулся тотчас и нервным движением сорвал бандероли с нескольких журналов; говорил он глухо, как во сне, не глядя на Госсэна, шедшого с ним рядом.
– Да, убила себя, бросилась из окна, как сказала в тот вечер, когда вы были у нас… Что было делать?.. Я не знал, не мог подозревать… В тот день, когда я должен был уехать, она сказала мне спокойно: «Увези меня, Дешелетт, не покидай меня одну… Я не смогу больше жить без тебя»… Я расхохотался. Хорош бы я был там, среди курдов, с женщиной… Пустыня, лихорадки, ночи на бивуаках… За обедом она повторила еще раз: «Я не стесню тебя, ты увидишь, как я буду тиха и кротка…» Затем, видя, что мне это неприятно, она перестала об этом говорить… После обеда мы поехали в театр Вариэте, в бенуар, все было условлено заранее… Она, казалось, была довольна, держала меня все время за руку и шептала: «Мне хорошо». Я уезжал ночью, и по этому отвез ее домой в карете; но оба мы были грустны и всю дорогу молчали. Она даже не поблагодарила меня за маленький сверток который я опустил ей в карман, – деньги, на которые она могла прожить спокойно год или два. Когда мы приехали на улицу Лабрюнер, она попросила меня подняться наверх. Я не хотел. «Прошу тебя… только до двери». Но я выдержал характер и не вошел. Билет был куплен, вещи уложены, и я слишком много говорил, что уезжаю… Спускаясь по лестнице, с тяжестью на душе, я слышал, как она крикнула мне, что то в роде: «быстрее тебя», но понял я это лишь внизу, на улице… Ах!.. Он остановился, глядя в землю, перед тем кошмарным зрелищем, которым теперь ежеминутно чудилось ему на тротуаре, – перед черной, неподвижной и хрипевшей массой…
– Она умерла два часа спустя, не произнеся ни слова, ни жалобы, и глядя на меня своими золотистыми глазами. Страдала ли она? Узнали ли меня? Мы уложили ее на постель одетой, окутав голову широкою кружевною косынкой, чтобы скрыть рану. Смертельно бледная, с капелькою крови на виске, она была еще красива и так кротка!.. Но, когда я нагнулся над нею, чтобы вытереть эту каплю крови, сочившуюся непрерывно, её взгляд, казалось, принял негодующее и страшное выражение… Бедная девушка посылала мне немое проклятие!.. Действительно, что стоило мне остаться еще на некоторое время или увезти ее с собой, ведь она так мало стесняла меня?.. Нет, гордость, упрямство сказанного слова!.. Я не уступил, а она умерла… умерла из-за меня, а ведь я ее любил!
Он был возбужден, говорил громко, вызывая удивление прохожих, которых толкал, шагая по Амстердамской улице; Госсэн, проходя мимо своей прежней квартиры, которую он узнал по балкону, припоминал Фанни и свой собственный роман и чувствовал себя охваченным какою-то дрожью. А Дешелетт между тем продолжал:
– Я отвез ее на Монпарнасское кладбище, без друзей, без родных. Мне хотелось быть с нею одному, заботиться о ней: а с тех пор я здесь, и все думаю об одном и том же, не могу решиться уехать с этой навязчивою мыслью, и бегу от дома, где провел с ней два месяца, таких счастливых, таких ясных… Я живу по чужим местам, скитаюсь, хочу рассеяться, убежать от этого взгляда покойницы, обвиняющего меня из под струйки крови…
И, остановясь, охваченный угрызением совести, с двумя крупными слезами, скатившимися на курносое лицо, такое добродушное, такое жизнерадостное, он сказал:
– Видите ли, друг мой; а меж тем я не зол… И, однако, как ужасно, то, что я сделал!..
Жан пытался его утешить, относя все на счет случая, рока; но Дешелетт повторял, покачивая головою и сжав зубы:
– Нет, нет… Я никогда себе этого не прощу… Я хотел бы себя наказать…
Это желание искупления не переставало преследовать его; он говорил о нем всем друзьям, Госсэну, за которым он заходил по окончании службы…
– Уезжайте, наконец, Дешелетт… Путешествуйте, работайте, это вас развлечет… – твердили ему Каудаль и другие, обеспокоенные его навязчивыми мыслями и упорством, с которым он повторял, что он не злой. Наконец, однажды вечером, – хотел ли он проститься со своей мастерской перед отъездом, или его привел туда совершенно определенный план покончить со своими страданиями, – он вернулся в свой дом, а утром рабочие, шедшие из предместья на работу, подняли его на тротуаре, перед входом в его жилище, с раздробленным черепом – умершего той же добровольною смертью, какой умерла любившая его женщина, в том же припадке ужаса и отчаяния, бросивших его на улицу.
В полусвете мастерской толпились художники, натурщицы, актрисы, – все танцевавшие, все ужинавшие на последних праздниках в этом доме. Слышался непрерывный шум шагов, шёпот, словно в часовне, освещенной кротким пламенем восковых свечей. Сквозь лианы и другие растения смотрели на тело, выставленное под шелковым покровом затканным золотыми цветами, с прикрытой чем-то вроде тюрбана головой, с белыми руками, говорившими о беспомощности, о высшем освобождении, и лежавшее в тени глициний, на низком диване на котором Госсэн в ночь бала познакомился со своей любовницей.
Глава 10
Итак, от любовных разрывов иногда умирают… Теперь, во время ссор, Жан боялся говорит о своем отъезде и не кричал больше вне себя: «К счастью, все это скоро кончится»… Она могла ему ответить: «Хорошо, уходи… а я убью себя, как Алиса…» И эта угроза, которую он, казалось, видел в её грустных взорах, слышал в песнях, которые она пела, чувствовал в грезах её молчаливых минут, приводила его в ужас.
Тем временем, он сдал экзамены, которыми заканчивается для прикомандированных к консульству пребывание в министерстве. Так как он был на хорошем счету, то его должны были назначить на одну из первых освободившихся вакансий; теперь это был уже вопрос недель и дней… а вокруг них, в конце этого лета, под солнышком, блиставшим все реже и реже, все стремилось к зимним переменам. Однажды утром Фанни, открыв окно и увидев первый туман, воскликнула:
– Ах, ласточки уже улетели!..
Один за другим закрывали свои ставни дома более зажиточных владельцев; по Версальской дороге тянулись возы с вещами, огромные деревенские омнибусы, нагруженные узлами, с султанами зеленых растений наверху; листья деревьев кружились вихрями, уносились словно облако под низким небом, а на убранных полях вырастали стога. За фруктовым садом, обнаженным и казавшимся меньше от облетевших деревьев, запертые дачи и сушильни прачечных с красными кровлями вселяли грусть, а по другую сторону дома обнаженный железнодорожный путь вдоль почерневшего леса развертывал свою темную линию.
Как было бы жестоко бросить ее здесь одну, среди этой грустной обстановки! Он чувствовал, что на сердце у него холодеет от этой мысли; никогда у него не будет смелости сказать «прости»! На это она, собственно и рассчитывала, поджидая последней минуты, а до тех пор, спокойная, не говорила ни о чем, верная своему обещанию не препятствовать его отъезду, предвиденному и условленному заранее. Однажды он вернулся домой с новостью:
– Я получил назначение!..
– Неужели!.. Куда же?..
Она спрашивала, с виду равнодушная, но губы её побледнели, а глаза приняли такое выражение, лицо свело такою судорогою, что он поспешил сказать: «Нет, нет… не на этот раз! Я уступил свою очередь Эдуэну… Это отодвигает мой отъезд по крайней мере на полгода!»
Полились потоки слез, смеха, безумных поцелуев, среди которых можно было разобрать: «Спасибо, спасибо… Какую чудную жизнь я устрою тебе теперь!.. ведь меня и сердила именно эта мысль об отъезде»… Теперь она лучше приготовится к нему, примирится с ним мало-помалу; через полгода будет уже не осень и забудутся эти рассказы о смерти.
Фанни рассмеялась:
– Извините, полковник, (иногда его называли так за его усы) это не одно и то же… я – другого выпуска!..
– Каудаль забывает, что он прадед, – сказал Гурнери; и в ответ на движение скульптора, которого он задел за живое, крикнул пронзительным голосом: – Каудаль получил медаль в 1840-ом году; почтенная дата!..
Между двумя старыми приятелями существовала всегда глухая антипатия и вызывающий тон, который никогда не ссорил их, но проявлялся в их взглядах, в ничтожных словах, и начало которому было положено двадцать лет тому назад, когда поэт отнял у скульптора любовницу. Фанни для них уже давно не имела значения, и тот и другой пережили новые радости и новые разочарования, но вражда продолжала существовать и с годами становилась все глубже.
– Взгляните на нас обоих, и скажите откровенно, кто больше похож на прадеда… – Затянутый в пиджак, обрисовывающий его мускулы, Каудаль стоял прямо, выпятив грудь, потрясая своей огненной гривой, в которой не заметно было ни одного седого волоска. – Получил медаль в 1840 году!.. Будет пятьдесят восемь лет через три месяца… Но что же это доказывает?.. Разве стариками людей делает возраст?.. Только во Французской Комедии да в Консерватории люди в шестьдесят лет уже обладают всеми старческими недугами, трясут головой и ходят, сгорбясь, едва передвигая ноги. В шестьдесят лет, чёрт побери, ходят прямее, чем в тридцать, так как следят за собою! Да и женщины будут еще заглядываться на вас, лишь бы сердце было молодо, согревало бы кровь и оживляло бы вас всего…
– Ты думаешь? – спросил Гурнери, насмешливо поглядывая на Фанни. Дешелетт, с доброй улыбкой, сказал:
– Между тем ты только и говоришь, что на свете всего лучше молодость, ты от неё без ума…
– Малютка Кузинар заставила меня переменить мнение… Кузинар, моя новая натурщица… Восемнадцать лет, кругленькая, с ямочками повсюду, точно Клодион… и такая добрая – дочь народа, дочь парижского Рынка, где её мать торгует птицей… Она говорит иногда такие глупости, что хочется ее расцеловать… такие… На днях в мастерской она нашла роман Дежуа, прочла заглавие «Тереза» и отбросила его с капризной миной: «Если бы роман этот назывался „Бедная Тереза“, я читала бы его всю ночь…» Я от неё без ума, уверяю вас.
– Вот ты и попал опять в семейные люди?.. А через шесть месяцев снова разрыв, снова слезы, отвращение к работе, гнев на всех…
Лоб Каудаля омрачился:
– Правда, ничего нет прочного… Люди сходятся, расходятся…
– Зачем же тогда сходиться?
– Хорошо, а ты? Неужели ты думаешь, что ты всю жизнь проживешь с твоей фламандкой?..
– О, мы ничем не связаны… Не так ли Алиса?
– Разумеется, кротко и рассеянно ответила молодая женщина, стоявшая на стуле, и срезавшая глицинии и зелень для букета к столу. Дешелетт продолжал:
– У нас не будет разрыва, мы просто разойдемся… Мы заключили договор провести вместе два месяца; в последний день мы расстанемся без отчаяния, без удивления… Я вернусь в Исфахан, – я уже заказал себе место в спальном вагоне, – а Алиса переедет снова в свою маленькую квартирку на улице Лабрюнер, в которой жила до сих пор.
– Третий этаж, не считая антресолей; превосходное место, чтобы выброситься из окна.
Говоря это, молодая женщина улыбалась, рыжеволосая и сияющая, в свете заката, с тяжелой кистью лиловых цветов в руке; но тон, которым она произнесла эти слова был так глубок и так серьезен, что никто не ответил.
Ветер свежел, дома напротив казались выше.
– Прошу за стол, – крикнул полковник… – и давайте болтать глупости…
– Да, верно, gaudeamus igitur… будем веселиться, пока мы молоды, не так ли Каудаль? – сказал Гурнери с деланным смехом.
Несколько дней спустя, Жан снова проходил по улице Ром, и нашел мастерскую запертой, широкую бумажную штору спущенной во все окно и гробовую тишину во всем доме вплоть до его крыши, в форме терассы. Дешелетт уехал в положенный срок. Жан подумал: «Хорошо в жизни делать то, что хочешь, управлять своим разумом и сердцем! Хватит ли у меня когда-нибудь на это мужества?»
Чья то рука опустилась на его плечо:
– Здравствуйте, Госсэн…
Дешелетт, утомленный, более желтый и хмурый, чем обыкновенно, объяснил ему, что он еще не уехал, задержанный в Париже делами, и что он живет в Гранд-отеле, так как мастерской боится после той ужасной истории…
– Что случилось?
– Да, в самом деле, вы не знаете… Алиса умерла… Убилась. Подождите минутку, я посмотрю, нет ли для меня писем…
Он вернулся тотчас и нервным движением сорвал бандероли с нескольких журналов; говорил он глухо, как во сне, не глядя на Госсэна, шедшого с ним рядом.
– Да, убила себя, бросилась из окна, как сказала в тот вечер, когда вы были у нас… Что было делать?.. Я не знал, не мог подозревать… В тот день, когда я должен был уехать, она сказала мне спокойно: «Увези меня, Дешелетт, не покидай меня одну… Я не смогу больше жить без тебя»… Я расхохотался. Хорош бы я был там, среди курдов, с женщиной… Пустыня, лихорадки, ночи на бивуаках… За обедом она повторила еще раз: «Я не стесню тебя, ты увидишь, как я буду тиха и кротка…» Затем, видя, что мне это неприятно, она перестала об этом говорить… После обеда мы поехали в театр Вариэте, в бенуар, все было условлено заранее… Она, казалось, была довольна, держала меня все время за руку и шептала: «Мне хорошо». Я уезжал ночью, и по этому отвез ее домой в карете; но оба мы были грустны и всю дорогу молчали. Она даже не поблагодарила меня за маленький сверток который я опустил ей в карман, – деньги, на которые она могла прожить спокойно год или два. Когда мы приехали на улицу Лабрюнер, она попросила меня подняться наверх. Я не хотел. «Прошу тебя… только до двери». Но я выдержал характер и не вошел. Билет был куплен, вещи уложены, и я слишком много говорил, что уезжаю… Спускаясь по лестнице, с тяжестью на душе, я слышал, как она крикнула мне, что то в роде: «быстрее тебя», но понял я это лишь внизу, на улице… Ах!.. Он остановился, глядя в землю, перед тем кошмарным зрелищем, которым теперь ежеминутно чудилось ему на тротуаре, – перед черной, неподвижной и хрипевшей массой…
– Она умерла два часа спустя, не произнеся ни слова, ни жалобы, и глядя на меня своими золотистыми глазами. Страдала ли она? Узнали ли меня? Мы уложили ее на постель одетой, окутав голову широкою кружевною косынкой, чтобы скрыть рану. Смертельно бледная, с капелькою крови на виске, она была еще красива и так кротка!.. Но, когда я нагнулся над нею, чтобы вытереть эту каплю крови, сочившуюся непрерывно, её взгляд, казалось, принял негодующее и страшное выражение… Бедная девушка посылала мне немое проклятие!.. Действительно, что стоило мне остаться еще на некоторое время или увезти ее с собой, ведь она так мало стесняла меня?.. Нет, гордость, упрямство сказанного слова!.. Я не уступил, а она умерла… умерла из-за меня, а ведь я ее любил!
Он был возбужден, говорил громко, вызывая удивление прохожих, которых толкал, шагая по Амстердамской улице; Госсэн, проходя мимо своей прежней квартиры, которую он узнал по балкону, припоминал Фанни и свой собственный роман и чувствовал себя охваченным какою-то дрожью. А Дешелетт между тем продолжал:
– Я отвез ее на Монпарнасское кладбище, без друзей, без родных. Мне хотелось быть с нею одному, заботиться о ней: а с тех пор я здесь, и все думаю об одном и том же, не могу решиться уехать с этой навязчивою мыслью, и бегу от дома, где провел с ней два месяца, таких счастливых, таких ясных… Я живу по чужим местам, скитаюсь, хочу рассеяться, убежать от этого взгляда покойницы, обвиняющего меня из под струйки крови…
И, остановясь, охваченный угрызением совести, с двумя крупными слезами, скатившимися на курносое лицо, такое добродушное, такое жизнерадостное, он сказал:
– Видите ли, друг мой; а меж тем я не зол… И, однако, как ужасно, то, что я сделал!..
Жан пытался его утешить, относя все на счет случая, рока; но Дешелетт повторял, покачивая головою и сжав зубы:
– Нет, нет… Я никогда себе этого не прощу… Я хотел бы себя наказать…
Это желание искупления не переставало преследовать его; он говорил о нем всем друзьям, Госсэну, за которым он заходил по окончании службы…
– Уезжайте, наконец, Дешелетт… Путешествуйте, работайте, это вас развлечет… – твердили ему Каудаль и другие, обеспокоенные его навязчивыми мыслями и упорством, с которым он повторял, что он не злой. Наконец, однажды вечером, – хотел ли он проститься со своей мастерской перед отъездом, или его привел туда совершенно определенный план покончить со своими страданиями, – он вернулся в свой дом, а утром рабочие, шедшие из предместья на работу, подняли его на тротуаре, перед входом в его жилище, с раздробленным черепом – умершего той же добровольною смертью, какой умерла любившая его женщина, в том же припадке ужаса и отчаяния, бросивших его на улицу.
В полусвете мастерской толпились художники, натурщицы, актрисы, – все танцевавшие, все ужинавшие на последних праздниках в этом доме. Слышался непрерывный шум шагов, шёпот, словно в часовне, освещенной кротким пламенем восковых свечей. Сквозь лианы и другие растения смотрели на тело, выставленное под шелковым покровом затканным золотыми цветами, с прикрытой чем-то вроде тюрбана головой, с белыми руками, говорившими о беспомощности, о высшем освобождении, и лежавшее в тени глициний, на низком диване на котором Госсэн в ночь бала познакомился со своей любовницей.
Глава 10
Итак, от любовных разрывов иногда умирают… Теперь, во время ссор, Жан боялся говорит о своем отъезде и не кричал больше вне себя: «К счастью, все это скоро кончится»… Она могла ему ответить: «Хорошо, уходи… а я убью себя, как Алиса…» И эта угроза, которую он, казалось, видел в её грустных взорах, слышал в песнях, которые она пела, чувствовал в грезах её молчаливых минут, приводила его в ужас.
Тем временем, он сдал экзамены, которыми заканчивается для прикомандированных к консульству пребывание в министерстве. Так как он был на хорошем счету, то его должны были назначить на одну из первых освободившихся вакансий; теперь это был уже вопрос недель и дней… а вокруг них, в конце этого лета, под солнышком, блиставшим все реже и реже, все стремилось к зимним переменам. Однажды утром Фанни, открыв окно и увидев первый туман, воскликнула:
– Ах, ласточки уже улетели!..
Один за другим закрывали свои ставни дома более зажиточных владельцев; по Версальской дороге тянулись возы с вещами, огромные деревенские омнибусы, нагруженные узлами, с султанами зеленых растений наверху; листья деревьев кружились вихрями, уносились словно облако под низким небом, а на убранных полях вырастали стога. За фруктовым садом, обнаженным и казавшимся меньше от облетевших деревьев, запертые дачи и сушильни прачечных с красными кровлями вселяли грусть, а по другую сторону дома обнаженный железнодорожный путь вдоль почерневшего леса развертывал свою темную линию.
Как было бы жестоко бросить ее здесь одну, среди этой грустной обстановки! Он чувствовал, что на сердце у него холодеет от этой мысли; никогда у него не будет смелости сказать «прости»! На это она, собственно и рассчитывала, поджидая последней минуты, а до тех пор, спокойная, не говорила ни о чем, верная своему обещанию не препятствовать его отъезду, предвиденному и условленному заранее. Однажды он вернулся домой с новостью:
– Я получил назначение!..
– Неужели!.. Куда же?..
Она спрашивала, с виду равнодушная, но губы её побледнели, а глаза приняли такое выражение, лицо свело такою судорогою, что он поспешил сказать: «Нет, нет… не на этот раз! Я уступил свою очередь Эдуэну… Это отодвигает мой отъезд по крайней мере на полгода!»
Полились потоки слез, смеха, безумных поцелуев, среди которых можно было разобрать: «Спасибо, спасибо… Какую чудную жизнь я устрою тебе теперь!.. ведь меня и сердила именно эта мысль об отъезде»… Теперь она лучше приготовится к нему, примирится с ним мало-помалу; через полгода будет уже не осень и забудутся эти рассказы о смерти.
Другие электронные книги автора Альфонс Доде
Малыш




 0
0