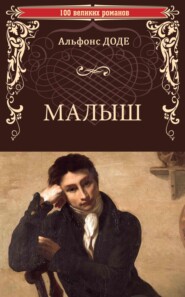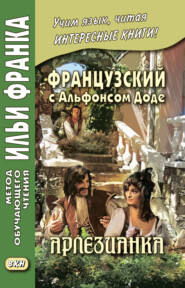По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сафо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она бросилась к нему на шею и с детской радостью целый вечер играла, пела, счастливая, веселая, преображенная. На другой день, сидя в вагоне, Жан заговорил о своем решении с толстяком Эттема, который, казалось, знал об этом деле, но не хотел в него вмешиваться. Сидя в уголке и углубленный в чтение «Petit journal», он промычал себе в бороду:
– Да, знаю… это наши дамы… меня это не касается. – Затем высунул голову из-за развернутого газетного листа, сказал: – Ваша жена, по-видимому, очень романтическая женщина.
Романтическая или нет, но вечером она стояла на коленях, испуганно держа тарелку супа и пытаясь приручить маленького мальчика из Марвана; тот пятился, опустив голову, огромную голову с льняными волосами, отказывался произнести хоть одно слово, не хотел есть, не хотел показывать даже свое лицо и повторял сильным, но однообразным и сдавленным голосом:
– Хочу Менин, хочу Менин…
– Менин, это, кажется, его бабушка… Вот уже два часа, как я не могу от него добиться ни слова, кроме этого.
Жан тоже был охвачен желанием заставить его проглотить суп, но безуспешно; и оба стояли перед ним на коленях; Фанни держала тарелку, Жан – ложку и оба говорили, словно больному ягненку, одобряющие и ласковые слова.
– Сядем за стол; быть может мы его пугаем; он будет есть, когда мы перестанем смотреть на него…
Но он продолжал стоять неподвижно, глядя исподлобья, и повторяя свою жалобу маленького дикаря «хочу Менин», раздиравшую сердце, до тех пор, пока не заснул, прислонясь к буфету; заснул он так крепко, что они могли его раздеть и уложить в тяжелую деревенскую люльку, взятую у соседей, а он ни на минуту не открыл глаз.
– Смотри, до чего он красив… – сказала Фанни, гордясь своим приобретением; она заставляла Госсэна восхищаться этим упрямым лбом, этими тонкими и изящными чертами лица под деревенским загаром, этим совершенством маленького тела, с крепкими бедрами, тонкими руками, длинными и нервными ногами маленького фавна, уже покрытыми внизу волосами. Она забылась, любуясь красотой ребенка…
– Прикрой же его, он озябнет… – сказал Жан; она вздрогнула, словно пробуждаясь от сна; и, пока она нежно укутывала его, малютка тихонько всхлипывал: волна отчаяния прорывалась даже сквозь сон. Однажды, когда он заметался, Жан, на всякий случай, протянул руку и начал покачивать тяжелую кроватку; под эту качку ребенок успокоился и заснул, держа в грубой шершавой ручке руку взрослого, очевидно принимая ее за руку бабушки, умершей две недели тому назад.
Жил он в доме, словно дикая кошка, которая кусалась, царапалась, ела отдельно, и ворчала, когда подходили к её чашке; несколько слов удалось из него вытянуть, но они принадлежали к варварскому наречию морванских дровосеков и никто не мог бы понять их, если бы не супруги Эттема, оказавшиеся земляками мальчика. Меж тем, в результате всех этих забот и ласк, наконец удалось приручить его немного. Он согласился сменить лохмотья, в которых его привели, на теплую, чистую одежду, один вид которой в первые дни заставлял его кричать от ужаса, как настоящего шакала, которого хотели бы закутать в маленькую попонку левретки. Он выучился сидеть за столом, употреблять вилку и ложку, и отвечать, когда его спрашивали, как его зовут, что в деревне его звали «Жозеф».
Относительно сообщения ему каких-нибудь хотя бы самых элементарных познаний, нечего было и думать. Тупая голова этого маленького лесного человечка, выросшего в хижине угольщика, жила вечным гулом кипучей и кишащей природы. Не было никакой возможности вбить ему в голову что-либо иное, или заставить его сидеть дома хотя бы в самую дурную погоду. В дождь, в снег, когда голые деревья стояли покрытые ледяными кристаллами, он убегал из дома, рыскал по кустам, обыскивал норы, с ловкостью и жестокостью охотящегося хорька, и когда он возвращался домой, замученный голодом, в его разорванной в клочья бумазейной курточке или в кармане его коротких панталон, запачканных грязью даже выше живота, всегда было какое-нибудь застывшее или мертвое животное, – крот, птица, полевая мышь, – или же репа и картофель, вырванные им в поле.
Ничего не могло искоренить в нем этих наклонностей браконьера, осложненных еще манией деревенского жителя собирать мелкие блестящие предметы: медные пуговицы, бусы, свинцовую бумагу от шоколада и т. д.; все это он подбирал, зажимал в руке, а потом уносил и прятал в потайных местечках, как вороватая сорока. Эта добыча носила у него общее название «запасы»; ни убеждения, ни колотушки не могли помешать ему делать эти запасы, вопреки всему и всем.
Одни Эттема умели с ним справляться: чертежник клал на расстоянии вытянутой руки, на стол, вокруг которого бродил маленький дикарь, привлеченный блестящим циркулем, инструментами и цветными карандашами, – собачий хлыст, которым и стегал его по ногам. Ни Жан, ни Фанни не решились бы прибегнуть к подобному средству, несмотря на то, что мальчик по отношению к ним был мрачен, недоверчив, не шел ни на какие нежности, ни на какое баловство, словно смерть Менин совершенно лишила его способности проявлять нежные чувства. Фанни, – «так как от неё хорошо пахло», – изредка удавалось удержать его минутку на коленях, но для Госсэна, хотя и обходившегося с ним кротко, он оставался тем же диким зверком, каким явился в первый день, с недоверчивым взглядом и выпущенными когтями.
Это непобедимое и почти инстинктивное отвращение маленького дикаря, забавное лукавство его маленьких голубых глазок с белыми ресницами альбиноса, и особенно слепая, внезапная любовь Фанни к этому чужому ребенку, неожиданно появившемуся в их жизни, – внушили Жану новые подозрения. Быть может, то был её ребенок, отданный на воспитание кормилице или её мачехе? В это время узнали о смерти Машом, и это показалось ему странным совпадением, оправдывающим его подозрение. Порою, ночью, держа маленькую ручку, вцепившуюся в его руку, – ибо ребенок продолжал думать во сне, что он протягивает ее «Менин», – Жан безмолвно вопрошал его, с глубоким внутренним волнением, в котором не хотел себе признаться: «Откуда ты? Кто ты?» надеясь по теплу маленького существа, переходившему на него, угадать тайну его рождения.
Но беспокойство это исчезло после слов дяди Леграна, который пришел просить, чтобы ему помогли уплатить за ограду вокруг могилы его покойницы и крикнул дочери, завидя кроватку Жозефа:
– Вот тебе на! мальчишка!.. Ты должно быть рада… Ведь ты никогда не могла родить ни одного…
Госсэн был так счастлив, что уплатил за ограду, не спросив даже о цене, и оставил дядю Леграна завтракать.
Служа на трамваях, ходивших от Парижа до Версаля, отравленный алкоголем и близкий к апоплексии, старик все еще был бодр и весел, в своем блестящем цилиндре, обвитом для данного случая куском грубого крепа, превращавшим его в настоящую шляпу факельщика; он пришел в восторг от приема, оказанного ему возлюбленным дочери, и время от времени стал приезжать к ним позавтракать или пообедать. Его седые волосы торчавшие, как у клоуна, над бритым и лоснящимся лицом, его величественный вид пьяницы, уважение, с которым он относился к своему кнуту, ставя его в укромный уголок с заботливостью няньки, производили сильное впечатление на ребенка, и вскоре старик и малютка сильно подружились. Однажды, когда они кончали обед, их застали супруги Эттэма.
– Ах, извините, вы – в кругу семьи… – жеманно сказала жена, и эти слова хлестнули Жана по лицу и оскорбили, как пощечина.
Его семья!.. Этот приемыш, храпевший, положа голову на скатерть, этот старый плут с трубкой во рту, объяснявший жирным голосом в сотый раз, что двухкопеечный кнут служил ему полгода и что двадцать лет он не менял у него ручку… Его семья? Полноте!.. Не семья, как и сама Фанни Легран, постаревшая, утомленная, сидевшая облокотясь, и окруженная клубами дыма от папирос, не его жена! Не пройдет и года, как все это исчезнет из его жизни, как кончаются мимолетные путевые встречи с соседями по ланчу.
Но в иные минуты мысль об отъезде, к которой он прибегал, как к извинению за свою слабость, как только чувствовал, что опускается, падает, – эта мысль, вместо того, чтобы успокаивать его и утешать, заставляла его только сильнее ощущать многочисленные узы, которыми он был опутан. Какою болью будет для него отъезд! То будет не разрыв, а десять разрывов; чего будет ему стоить покинуть эту маленькую детскую ручку, которая каждую ночь покоится в его руке! Вплоть до иволги Балю, певшей и свиставшей в клетке, которая была ей мала, которую постоянно ей меняли, и в которой она горбилась, как старый кардинал в железной тюрьме; да, даже Балю заняла местечко в его сердце, и вырвать ее оттуда будет мучением.
А между тем, неизбежная разлука приближалась; великолепный июнь, когда природа особенно ликовала, по всей вероятности – последний месяц, который они проведут вместе. Это ли делало Фанни нервной и раздражительной, или воспитание Жозефа, предпринятое с внезапным жаром, к великой досаде маленького уроженца Морвана, сидевшего целыми часами над буквами алфавита, и не умевшего ни прочесть, ни выговорить их, с головой, словно задвинутой каким-то засовом, как ворота двора на ферме. С каждым днем беспокойство Фанни выливалось в неистовых сценах и слезах, возобновлявшихся беспрестанно, несмотря на то, что Госсэн старался быть как можно снисходительнее; она так оскорбляла его, её гнев содержал в себе такой осадок злобы и ненависти к молодому любовнику, к его воспитанию, к его семье, к той пропасти, которою жизнь расширяла между ними, она так умела попадать в наиболее чувствительные места, что он кончал тем, что тоже забывался и отвечал.
Только гнев его был осторожен, был проникнут состраданием воспитанного человека, удары его не попадали в цель, будучи слишком болезненными и слишком легкими, меж тем как она предавалась своей распущенной ярости без всякого стыда, без всякого удержа, делая себе из всего оружие, подмечая с жестокою радостью на лице своей жертвы признаки страдания, которое она ей причиняла; затем она вдруг падала в его объятия и просила прощения.
Выражение лиц Эттэма, свидетелей этих ссор, разражавшихся почти всегда за столом, в ту минуту, когда все сидели, и когда приходилось поднимать крышку с суповой миски или разрезать жаркое, было достойно кисти живописца. Они обменивались через стол взглядом комического ужаса. Можно ли есть, или жареная баранина полетит сейчас за окно, вместе с подливкой и с тушеными бобами?
– Ну, ради Бога, не надо сцен, – говорили они всякий раз, когда поднимался вопрос о том, чтобы провести время вместе; этими же словами они встретили предложение позавтракать в лесу, которое Фанни сделала им однажды в воскресенье, через забор. – Ах, нет, сегодня они не будут ссориться, погода уж чересчур хороша!.. – и она побежала одевать ребенка и укладывать корзинку с припасами.
Все было готово, все собрались, как вдруг почтальон подал заказное письмо, почерк которого заставил Госсэна замедлить шаги. Он догнал компанию у опушки леса и шепнул Фанни:
– Это от дяди… он в восторге… великолепный сбор, проданный на корню… Он возвращает тебе восемь тысяч франков Дешелетта, с благодарностями и комплиментами по адресу его племянницы.
– Да, племянница!.. С какой только стороны?.. Старая морковь!.. – проговорила Фанни, у которой не осталось никаких иллюзий относительно дядюшек с юга; затем весело прибавила:
– Придется поместить эти деньги…
Он взглянул на нее с изумлением, так как знал её щепетильность в денежных вопросах.
– Поместить?.. Но ведь это не твои деньги…
– Ах в самом деле, я тебе не сказала… – Она покраснела, взгляд её затуманился, как всегда при малейшем искажении истины… Добряк Дешелетт, узнав, что она делает для Жозефа, написал ей, что эти деньги помогут ей воспитать крошку. – Но, знаешь, если тебе это неприятно, я возвращу эти восемь тысяч франков; Дешелетт сейчас в Париже…
Голоса супругов Эттэма, ушедших скромно вперед, раздались под деревьями:
– Направо или налево?
– Направо, направо… к прудам!.. – крикнула Фанни; затем, обратясь к любовнику, сказала: – Послушай, не начинай, пожалуйста, снова мучиться разными глупостями… Мы ведь не первый день сошлись с тобою, чёрт побери!..
Она знала что значит эта бледность, это дрожание губ, этот пытливый взгляд на малютку, вопрошавший его всего, с головы до ног; но на этот раз это была лишь бессильная пытка на проявление ревности; он дошел уже до подлости, до привычки, до уступок ради сохранения мира.
– Зачем я буду терзать себя, доискиваться сути вещей?.. Если это её ребенок, то что же преступного в том, что она взяла его к себе, скрыв от меня правду, после стольких сцен, после всех допросов, которым я подвергал ее? Не лучше ли примириться с тем, что случилось, и провести спокойно остающиеся несколько, месяцев?
Он шел вперед по лесной тропинке, нагруженный тяжелой корзиной, закрытой белым, покорный, усталый, сгорбившись как старый садовник, меж тем как впереди него рядом шли женщина и ребенок – Жозеф, одетый по праздничному, и неловкий в своем новом костюме, купленном в магазине Бель-Жардиньер, мешавшем ему бегать, и Фанни в светлом пеньюаре, с открытыми головой и шеей, защищенными лишь японским зонтиком, растолстевшая, с рыхлой походкой, а в прекрасных, черных, волнистых волосах её виднелась прядь седины, которую она уже не старалась скрывать.
Впереди, по спускающейся тропинке, двигались супруги Эттэма в огромных соломенных шляпах, похожих на шляпы всадников-туарегов, одетые в красную фланель, нагруженные провизией, снастями для рыбной ловли, сетками и корзинами для ловли раков; жена, чтобы облегчить ношу мужа, храбро несла привешенный на цепи на своей исполинской груди охотничий рог, без которого для чертежника прогулка по лесу была немыслима. На ходу супруги пели:
«Люблю плеск весел ночью темной,»
«Люблю призывный крик оленя»…
Репертуар Олимпии был неисчерпаем по части этих уличных сентиментальных пошлостей: а когда вспоминалось, где она их заучила, в позорной полутьме задернутых занавесок и скольким мужчинам она их певала, то ясное спокойствие мужа, вторившего ей, получало особенное величие. Слова гренадера под Ватерлоо «их так много!» были по всей вероятности, главной причиной философского спокойствия этого человека.
В то время, как Госсэн мечтательно поглядывал на исполинскую парочку, углублявшуюся в долину, вслед за которой спускался он сам, по аллее пронесся скрип колес вместе со взрывами безумного хохота детских голосов; и вдруг, в нескольких шагах от него, показалась английская тележка, запряженная осликом, и полная девочек, с распущенными волосами и развевавшимися лентами; молоденькая девушка, немного постарше остальных, вела ослика под уздцы по тяжелой в этом месте дороге.
Было нетрудно заметить, что Жан принадлежал к тому же обществу, странный вид которого, и особенно толстая дама, с охотничьим рогом на груди, так развеселил молодую компанию; девушка пробовала хоть на минуту водворить тишину среди детей. Но появление еще одной шляпы туарега вызвало в них новый взрыв насмешливой веселости, и проходя мимо Жана, который посторонился, чтобы дать проехать тележке, она смущенно, как бы извиняясь, улыбнулась, удивленная тем, что у старого садовника такое молодое и кроткое лицо. Он застенчиво поклонился и покраснел, сам не зная отчего; тележка на минутку остановилась на вершине холма и молодые голоса хором начали читать вслух полустертые дождями надписи на столбах, указывавших дорогу; затем Жан обернулся и посмотрел, как исчезал в зеленой аллее, просвеченной солнцем и выстланной мхом, по которой колеса катились как по бархату, – этот вихрь белокурых детей и девушек, эта колесница счастья, полная весенних красок и смеха, то и дело раздававшегося под сенью деревьев.
Свирепый звук рога Эттэма вдруг вывел его из задумчивости. Они были уже на берегу пруда, вынимали и развертывали провизию, и издали было видно, как светлая вода отражает и белую скатерть на зеленой короткой траве и: красные фланелевые фуфайки, сверкающие в зелени, как куртки охотников.
– Идите же… у вас омар… кричал толстяк.
А Фанни нервным голосом спрашивала:
– Тебя остановила на дороге молоденькая Бушеро?
Жан вздрогнул при имени Бушеро, напоминавшем ему родной дом, Кастеле, и больную мать в постели.
Другие электронные книги автора Альфонс Доде
Малыш




 0
0