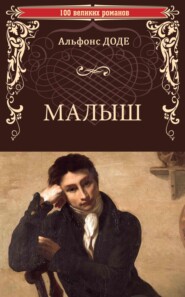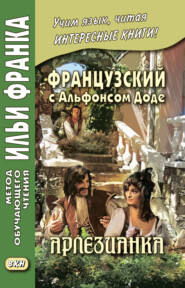По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сафо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И пока она шептала ему эти слова, которые мужчины слышат лишь у дверей притонов, крупные слезы ручьями текли по её лицу, с выражением смертельного ужаса; она билась, кричала не своим голосом: О, пусть этого не будет… Скажи, что это неправда, что ты не хочешь меня покинуть… – И снова рыдания, крики о помощи, стоны, будто он стоял перед нею с ножом в руке…
Палач не был храбрее своей жертвы. Её гнева он больше не боялся, также как и её ласк, но он был беззащитен против её отчаяния, против этих криков, оглашавших лес и замиравших над мертвой зараженной лихорадкой водой, за которую заходило печальное, красное солнце… Он ожидал, что будет страдать, но не мог представить себе такой остроты страдания, и нужно было все ослепление новой любви, чтобы удержаться, не поднять ее с земли и не сказать ей: «Я остаюсь, молчи, я остаюсь…»
Сколько времени промучились они таким образом?.. Солнце превратилось уже в узкую полоску на западе; пруд принимал оттенки грифеля, и можно было подумать, что его нездоровые испарения охватывают и пустырь, и лес, и холмы. Из окутывающей их тени выступало только бледное лицо, поднятое к нему, открытый рот, звучавший бесконечной жалобой. Несколько позже, когда настала ночь, крики умолкли. Теперь полился поток слез, целый ливень, сменивший собою грохот бури, и время от времени вздох глубокий и глухой, словно пред чем то ужасным, что она от себя отгоняла, но что неотступно преследовало ее.
Затем вдруг все стихло. Кончено! Зверь умер… Поднимается холодный ветер, колеблет ветви, напоминая о позднем времени.
– Пойдем, встань.
Он тихонько поднимает ее, чувствует её покорность, её детское послушание, только тело её судорожно вздрагивает от глубоких вздохов. Кажется, будто она хранит страх и уважение к мужчине, выказавшему такую твердость. Она идет рядом с ним, его шагом, но робко не давая ему руки; и, видя их идущими так мрачно и пошатываясь по тропинке, находя дорогу лишь по желтым отблескам земли, можно был принять их за чету крестьян, усталых, возвращающихся после долгой и утомительной работы.
На опушке виден свет, раскрытая в доме Гошкорна освещает четкие силуэты двух людей.
– Это вы, Госсэн? – раздается голос Эттэма, подходящого вместе со сторожем. Они начали уже беспокоиться, видя, что Жан и Фанни не возвращаются и слыша стоны, раздававшиеся по лесу. Гошкорн хотел уже взять ружье и отправиться на поиски…
– Добрый вечер, сударь; добрый вечер сударыня… А малютка-то уж как довольна своею шалью!.. Пришлось уложить ее в ней спать…
Их последнее общее дело, участие, проявленное недавно; их руки в последний раз обвились вокруг этого маленького умирающего тельца.
– Прощайте, прощайте, дядя Гошкорн!
И все трое спешат к дому; Эттэма не перестает расспрашивать о воплях, раздававшихся в лесу.
– Они то усиливались, то ослабевали; можно было подумать, что душат какое-нибудь животное… Но неужели вы ничего не слышали?
Ни тот, ни другая не отвечают.
На углу «Pav? des gardes» Жан колебался.
– Останься пообедать, – тихо говорит она ему умоляющим голосом. Твой поезд ушел… Ты можешь поехать с девятичасовым?
Он идет домой вместе с ней. Чего бояться? Подобную сцену нельзя повторить два раза, и он смело может доставить ей это маленькое утешение.
В столовой тепло, лампа светит ярко, и, заслышав их шаги по дороге, служанка подает суп.
– Вот и вы, наконец!.. – говорит Олимпия, сидя за столом и подвязывая салфетку. Она снимает крышку с суповой миски и вдруг останавливается, вскрикнув:
– Боже мой, дорогая; что случилось?..
Осунувшаяся, постаревшая лет на десять, с красными распухшими веками, в платье выпачканном грязью, с растрепанными волосами, словно растерзанная уличная женщина, ускользнувшая от погони полиции – вот какова Фанни! Она вздыхает; её воспаленные глаза щурятся от света; мало-помалу тепло маленького домика и веселый накрытый стол возбуждают в ней воспоминания о счастливых днях и снова вызывает слезы, сквозь которые можно разобрать:
– Он бросает меня… Он женится!
Эттэма, его жена, крестьянка подающая обед, все взглядывают друг на друга, затем на Госсэна. – Тем не менее, будем есть, – говорит толстяк, гнев которого если и не виден, то чувствуется; и стук проворных ложек сливается с журчаньем воды в соседней комнате, где Фанни умывается. Когда она возвращается, с синеватым налетом пудры на лице, в белом шерстяном пеньюаре, супруги Эттема тоскливо смотрят на нее, ожидая снова какого-нибудь взрыва, и удивлены тем, что она, не говоря ни слова, с жадностью набрасывается на кушанье, словно спасенный от кораблекрушения, и заглушает свое горе всем, что находит под рукою – хлебом, капустой, крылышком цесарки, яблоками. Она ест, ест без конца.
Беседа идет принужденно, затем более свободно, и так как с супругами Эттема можно говорить только о чем-нибудь очень плоском и материальном, о том например, как перекладывать молочные блинчики вареньем, и на чем лучше спать, на конском волосе или на пуху, то без особых затруднений доходят до кофе; супруги Эттэма, сдабривают его леденцами, которые они сосут медленно, положа руки на стол.
Приятно видеть доверчивый и спокойный взгляд, которым обмениваются эти тяжеловесные товарищи по столу и ложу. У них нет желания бросит друг друга. Жан улавливает этот взгляд, и в уютной столовой, полной воспоминаний, привычек, связанных с каждым её уголком, его охватывает какая-то усталость, оцепенение. Фани, наблюдающая за ним, тихонько пододвинула к нему свой стул, прильнула к нему, взяла его под руку.
– Слушай, – говорит он вдруг. – Девять часов… Пора, прощай… Я тебе напишу.
Он уже на дворе, перешел дорогу, ищет впотьмах калитку; чьи то руки обвивают его: – Поцелуй же меня хоть еще раз…
Он охвачен её распахнутым пеньюаром, надетым прямо на нагое тело; он потрясен этим ароматом, этой теплотой женского тела, этим прощальным поцелуем, от которого у него остается на губах ощущение лихорадки и слез; а она шепчет, чувствуя его слабеющим: – Еще одну ночь, только одну…
Сигнальный гудок со стороны железнодорожного пути… Это поезд!..
Откуда явилась у него сила высвободиться и добежать до станции, огни которой светятся сквозь обнаженные ветви деревьев? Он сам изумляется этому, тяжело дыша и сидя в уголке вагона, поглядывая из окна на освещенные окна домика, на белую фигуру у забора… – Прощай, прощай!.. – Этот крик успокоил безмолвный ужас, охвативший его на повороте, когда он увидел любовницу, стоящую на том самом месте, где он не раз представлял ее себе мертвою.
Высунув голову, он видел, как уменьшался и словно бежал среди неровностей земли их маленький домик, свет которого казался теперь маленькой, одинокой звездочкой. Вдруг он ощутил радость, огромное облегчение. Как легко дышится, как прекрасна Медонская долина и её огромные черные холмы, среди которых выделяется сверкающий треугольник бесчисленных огней, правильными нитями тянущихся к Сене. Ирена ждет его там, и он летит к ней со всею быстротой поезда, со всем пылом влюбленного, со всем порывом к честной и молодой жизни!..
Париж!.. Он взял извозчика и велел отвезти себя на Вандомскую площадь. Но при свете газа увидел, что одежда его и башмаки покрыты густою грязью, словно все его прошлое цепко и тяжело держится за него. «Ах, нет, не сегодня». И он входит в свою старую гостиницу на улице Жакоб, где дядя Фена нанял ему комнату, рядом со своей.
Глава 13
На другой день дядя Сезар, взявший на себя щекотливое поручение поехать в Шавиль за книгами и вещами племянника и закрепить разрыв переселением, вернулся поздно, когда Гоосэну стали уже приходить в голову всевозможные безумные и мрачные мысли. Наконец, ломовая телега, неповоротливая, как похоронная колесница и нагруженная завязанными ящиками и огромным чемоданом обогнул улицу Жакоб и дядя вошел с таинственным и растроганным видом:
– Я долго провозился, чтобы забрать все сразу и не ехать туда снова… – Он указал на ящики, которые двое слуг вносили в комнату: – Здесь белье и одежда, там бумаги и книги… Не хватает только писем; она умоляла меня оставить их ей, чтобы перечитывать их и иметь что-нибудь от тебя… Я подумал, что в этом нет никакой опасности… Она такая добрая…
Он долго отдувался, сидя на чемодане и отирая лоб желтоватым шелковым платком, величиной в салфетку. Жан не смел спросить о подробностях, о том, в каком состоянии он ее застал; тот не рассказывал, боясь его опечалить. И они наполнили это тягостное молчание, замечаниями о погоде, резко изменившейся с вечера, и повернувшей к холоду, о жалобном виде этого уголка близ Парижа, пустынного и оголенного, с торчавшими заводскими трубами и огромными чугунными баками и резервуарами для рыночных торговцев. Затем Жан спросил:
– Она ничего не просила передать мне, дядя?
– Нет… Ты можешь быть спокоен… Она не будет надоедать тебе, она отнеслась к своей участи с большим достоинством и решимостью…
Почему Жан в этих немногих словах увидел как бы порицание, упрек его в излишней суровости?
– Какая, однако, мука! – продолжал дядя. – Я охотнее примирился бы с когтями Морна, нежели с отчаянием этой несчастной…
– Она много плакала?
– Ах, друг мой… И с такою добротой, с такою душою, что я сам зарыдал перед нею, не имея силы… – Он тряхнул головою, как старая коза, словно прогоняя волнение: – Что же делать? Она не виновата… Но и ты не мог прожить с нею всю жизнь… Все устроилось очень прилично, ты оставил ей деньги, обстановку… А теперь, да здравствует любовь! Постарайся одарить нас скорее твоею свадьбой… Для меня, по крайней мере, дело это очень важное… Надо, чтобы тут помог и консул… Я же гожусь только для ликвидации незаконных браков… – И внезапно охваченный приступом грусти, прислонясь лбом к стеклу и поглядывая на низкое небо, с которого дождь лил на крышу, он сказал:
– Жизнь становится ужасно печальной… В мое время люди и расходились веселее!
Дядя Фена уехал, купив свой элеватор, и Жан, лишенный его подвижного и болтливого добродушия, должен был провести целую неделю один, с ощущением пустоты и одиночества, со всей мрачной растерянностью вдовства. В подобных случаях, не говоря уже о любовной тоске, человек ищет себе подобного, чувствует его отсутствие; жизнь вдвоем, общность стола и ложа, создают такую ткань невидимых и тонких уз, прочность которой обнаруживается лишь при боли разрыва. Влияние взаимного общения и привычки так чудесно, что два существа, живущие вместе, доходят до того, что начинают даже по внешности походить друг на друга.
Пять лет жизни с Сафо не могли еще изменить его до такой степени; но тело его, хранило следы оков. Несколько раз, выходя из канцелярии, он невольно направлялся в сторону Шавиля, а по утрам ему случалось оглядываться и искать на подушке, рядом с собою, волну тяжелых, черных волос не сдерживаемых гребнем и рассыпавшихся по подушке, которые он привык целовать при пробуждении…
Особенно длинными казались ему вечера, в этой комнате отеля, напоминавшей ему первое время их связи, присутствие любовницы первых дней, молчаливой и деликатной, маленькая визитная карточка которой за зеркалом благоухала альковом и тайной: Фанни Легран… Тогда он уходил бродить, старался утомить себя, оглушить светом и шумом какого-нибудь маленького театра, вплоть до той минуты, когда старик Бушеро разрешил ему проводить у невесты, что бывало три вечера в неделю.
Наконец-то они объяснились. Ирена любит его, дядя согласен; свадьба назначена на первые числа апреля, по окончании курса Бушеро. Три зимних месяца на то, чтобы видеться, привыкнуть и желать друга другу, пройти весь очаровательный искус любви, начиная с первого взгляда, соединяющего души и с первого волнующего признания.
В тот вечер, когда состоялась помолвка, вернувшись домой и не имея ни малейшего желания спать, Жан захотел привести в порядок свою комнату и придать ей рабочий вид, в силу естественного инстинкта, влекущего нас к тому, чтобы установить связь между нашею жизнью и нашими мыслями. Он прибрал свой стол и свои книги, еще не развязанные, и набросанные на дне наспех сколоченного ящика, где своды законов лежали между стопкой носовых платков и садовой фуфайкой. Вдруг из полураскрытого словаря торгового права, который он всего чаще перелистывал, выпало письмо без конверта, написанное рукой его любовницы.
Фанни вручила письмо обычному справочнику Жана, не доверяя кратковременному умилению Сезара, и думая, что таким образом письмо дойдет вернее. Сначала он не хотел его читать, но уступил первым словам, кротким и рассудительным, волнение которых чувствовалось лишь в дрожании пера и в неровных строчках. Она просила его только об одном, об одной милости – навещать ее хоть изредка. Она ничего не будет говорить, ни в чем не будет его упрекать, ни в женитьбе, ни в разлуке, которую она считает окончательной и бесповоротной. Лишь бы видеть его иногда!..
«Подумай; какой это для меня неожиданный и тяжкий удар… Я словно пережила смерть или пожар, не знаю за что приняться. Я плачу, жду, гляжу на место моего прежнего счастья. Только ты и можешь примирить меня с моим новым положением… Это милосердие; навещай меня хоть изредка, чтобы я не чувствовала себя такой одинокой. Я боюсь самой себя…»
Палач не был храбрее своей жертвы. Её гнева он больше не боялся, также как и её ласк, но он был беззащитен против её отчаяния, против этих криков, оглашавших лес и замиравших над мертвой зараженной лихорадкой водой, за которую заходило печальное, красное солнце… Он ожидал, что будет страдать, но не мог представить себе такой остроты страдания, и нужно было все ослепление новой любви, чтобы удержаться, не поднять ее с земли и не сказать ей: «Я остаюсь, молчи, я остаюсь…»
Сколько времени промучились они таким образом?.. Солнце превратилось уже в узкую полоску на западе; пруд принимал оттенки грифеля, и можно было подумать, что его нездоровые испарения охватывают и пустырь, и лес, и холмы. Из окутывающей их тени выступало только бледное лицо, поднятое к нему, открытый рот, звучавший бесконечной жалобой. Несколько позже, когда настала ночь, крики умолкли. Теперь полился поток слез, целый ливень, сменивший собою грохот бури, и время от времени вздох глубокий и глухой, словно пред чем то ужасным, что она от себя отгоняла, но что неотступно преследовало ее.
Затем вдруг все стихло. Кончено! Зверь умер… Поднимается холодный ветер, колеблет ветви, напоминая о позднем времени.
– Пойдем, встань.
Он тихонько поднимает ее, чувствует её покорность, её детское послушание, только тело её судорожно вздрагивает от глубоких вздохов. Кажется, будто она хранит страх и уважение к мужчине, выказавшему такую твердость. Она идет рядом с ним, его шагом, но робко не давая ему руки; и, видя их идущими так мрачно и пошатываясь по тропинке, находя дорогу лишь по желтым отблескам земли, можно был принять их за чету крестьян, усталых, возвращающихся после долгой и утомительной работы.
На опушке виден свет, раскрытая в доме Гошкорна освещает четкие силуэты двух людей.
– Это вы, Госсэн? – раздается голос Эттэма, подходящого вместе со сторожем. Они начали уже беспокоиться, видя, что Жан и Фанни не возвращаются и слыша стоны, раздававшиеся по лесу. Гошкорн хотел уже взять ружье и отправиться на поиски…
– Добрый вечер, сударь; добрый вечер сударыня… А малютка-то уж как довольна своею шалью!.. Пришлось уложить ее в ней спать…
Их последнее общее дело, участие, проявленное недавно; их руки в последний раз обвились вокруг этого маленького умирающего тельца.
– Прощайте, прощайте, дядя Гошкорн!
И все трое спешат к дому; Эттэма не перестает расспрашивать о воплях, раздававшихся в лесу.
– Они то усиливались, то ослабевали; можно было подумать, что душат какое-нибудь животное… Но неужели вы ничего не слышали?
Ни тот, ни другая не отвечают.
На углу «Pav? des gardes» Жан колебался.
– Останься пообедать, – тихо говорит она ему умоляющим голосом. Твой поезд ушел… Ты можешь поехать с девятичасовым?
Он идет домой вместе с ней. Чего бояться? Подобную сцену нельзя повторить два раза, и он смело может доставить ей это маленькое утешение.
В столовой тепло, лампа светит ярко, и, заслышав их шаги по дороге, служанка подает суп.
– Вот и вы, наконец!.. – говорит Олимпия, сидя за столом и подвязывая салфетку. Она снимает крышку с суповой миски и вдруг останавливается, вскрикнув:
– Боже мой, дорогая; что случилось?..
Осунувшаяся, постаревшая лет на десять, с красными распухшими веками, в платье выпачканном грязью, с растрепанными волосами, словно растерзанная уличная женщина, ускользнувшая от погони полиции – вот какова Фанни! Она вздыхает; её воспаленные глаза щурятся от света; мало-помалу тепло маленького домика и веселый накрытый стол возбуждают в ней воспоминания о счастливых днях и снова вызывает слезы, сквозь которые можно разобрать:
– Он бросает меня… Он женится!
Эттэма, его жена, крестьянка подающая обед, все взглядывают друг на друга, затем на Госсэна. – Тем не менее, будем есть, – говорит толстяк, гнев которого если и не виден, то чувствуется; и стук проворных ложек сливается с журчаньем воды в соседней комнате, где Фанни умывается. Когда она возвращается, с синеватым налетом пудры на лице, в белом шерстяном пеньюаре, супруги Эттема тоскливо смотрят на нее, ожидая снова какого-нибудь взрыва, и удивлены тем, что она, не говоря ни слова, с жадностью набрасывается на кушанье, словно спасенный от кораблекрушения, и заглушает свое горе всем, что находит под рукою – хлебом, капустой, крылышком цесарки, яблоками. Она ест, ест без конца.
Беседа идет принужденно, затем более свободно, и так как с супругами Эттема можно говорить только о чем-нибудь очень плоском и материальном, о том например, как перекладывать молочные блинчики вареньем, и на чем лучше спать, на конском волосе или на пуху, то без особых затруднений доходят до кофе; супруги Эттэма, сдабривают его леденцами, которые они сосут медленно, положа руки на стол.
Приятно видеть доверчивый и спокойный взгляд, которым обмениваются эти тяжеловесные товарищи по столу и ложу. У них нет желания бросит друг друга. Жан улавливает этот взгляд, и в уютной столовой, полной воспоминаний, привычек, связанных с каждым её уголком, его охватывает какая-то усталость, оцепенение. Фани, наблюдающая за ним, тихонько пододвинула к нему свой стул, прильнула к нему, взяла его под руку.
– Слушай, – говорит он вдруг. – Девять часов… Пора, прощай… Я тебе напишу.
Он уже на дворе, перешел дорогу, ищет впотьмах калитку; чьи то руки обвивают его: – Поцелуй же меня хоть еще раз…
Он охвачен её распахнутым пеньюаром, надетым прямо на нагое тело; он потрясен этим ароматом, этой теплотой женского тела, этим прощальным поцелуем, от которого у него остается на губах ощущение лихорадки и слез; а она шепчет, чувствуя его слабеющим: – Еще одну ночь, только одну…
Сигнальный гудок со стороны железнодорожного пути… Это поезд!..
Откуда явилась у него сила высвободиться и добежать до станции, огни которой светятся сквозь обнаженные ветви деревьев? Он сам изумляется этому, тяжело дыша и сидя в уголке вагона, поглядывая из окна на освещенные окна домика, на белую фигуру у забора… – Прощай, прощай!.. – Этот крик успокоил безмолвный ужас, охвативший его на повороте, когда он увидел любовницу, стоящую на том самом месте, где он не раз представлял ее себе мертвою.
Высунув голову, он видел, как уменьшался и словно бежал среди неровностей земли их маленький домик, свет которого казался теперь маленькой, одинокой звездочкой. Вдруг он ощутил радость, огромное облегчение. Как легко дышится, как прекрасна Медонская долина и её огромные черные холмы, среди которых выделяется сверкающий треугольник бесчисленных огней, правильными нитями тянущихся к Сене. Ирена ждет его там, и он летит к ней со всею быстротой поезда, со всем пылом влюбленного, со всем порывом к честной и молодой жизни!..
Париж!.. Он взял извозчика и велел отвезти себя на Вандомскую площадь. Но при свете газа увидел, что одежда его и башмаки покрыты густою грязью, словно все его прошлое цепко и тяжело держится за него. «Ах, нет, не сегодня». И он входит в свою старую гостиницу на улице Жакоб, где дядя Фена нанял ему комнату, рядом со своей.
Глава 13
На другой день дядя Сезар, взявший на себя щекотливое поручение поехать в Шавиль за книгами и вещами племянника и закрепить разрыв переселением, вернулся поздно, когда Гоосэну стали уже приходить в голову всевозможные безумные и мрачные мысли. Наконец, ломовая телега, неповоротливая, как похоронная колесница и нагруженная завязанными ящиками и огромным чемоданом обогнул улицу Жакоб и дядя вошел с таинственным и растроганным видом:
– Я долго провозился, чтобы забрать все сразу и не ехать туда снова… – Он указал на ящики, которые двое слуг вносили в комнату: – Здесь белье и одежда, там бумаги и книги… Не хватает только писем; она умоляла меня оставить их ей, чтобы перечитывать их и иметь что-нибудь от тебя… Я подумал, что в этом нет никакой опасности… Она такая добрая…
Он долго отдувался, сидя на чемодане и отирая лоб желтоватым шелковым платком, величиной в салфетку. Жан не смел спросить о подробностях, о том, в каком состоянии он ее застал; тот не рассказывал, боясь его опечалить. И они наполнили это тягостное молчание, замечаниями о погоде, резко изменившейся с вечера, и повернувшей к холоду, о жалобном виде этого уголка близ Парижа, пустынного и оголенного, с торчавшими заводскими трубами и огромными чугунными баками и резервуарами для рыночных торговцев. Затем Жан спросил:
– Она ничего не просила передать мне, дядя?
– Нет… Ты можешь быть спокоен… Она не будет надоедать тебе, она отнеслась к своей участи с большим достоинством и решимостью…
Почему Жан в этих немногих словах увидел как бы порицание, упрек его в излишней суровости?
– Какая, однако, мука! – продолжал дядя. – Я охотнее примирился бы с когтями Морна, нежели с отчаянием этой несчастной…
– Она много плакала?
– Ах, друг мой… И с такою добротой, с такою душою, что я сам зарыдал перед нею, не имея силы… – Он тряхнул головою, как старая коза, словно прогоняя волнение: – Что же делать? Она не виновата… Но и ты не мог прожить с нею всю жизнь… Все устроилось очень прилично, ты оставил ей деньги, обстановку… А теперь, да здравствует любовь! Постарайся одарить нас скорее твоею свадьбой… Для меня, по крайней мере, дело это очень важное… Надо, чтобы тут помог и консул… Я же гожусь только для ликвидации незаконных браков… – И внезапно охваченный приступом грусти, прислонясь лбом к стеклу и поглядывая на низкое небо, с которого дождь лил на крышу, он сказал:
– Жизнь становится ужасно печальной… В мое время люди и расходились веселее!
Дядя Фена уехал, купив свой элеватор, и Жан, лишенный его подвижного и болтливого добродушия, должен был провести целую неделю один, с ощущением пустоты и одиночества, со всей мрачной растерянностью вдовства. В подобных случаях, не говоря уже о любовной тоске, человек ищет себе подобного, чувствует его отсутствие; жизнь вдвоем, общность стола и ложа, создают такую ткань невидимых и тонких уз, прочность которой обнаруживается лишь при боли разрыва. Влияние взаимного общения и привычки так чудесно, что два существа, живущие вместе, доходят до того, что начинают даже по внешности походить друг на друга.
Пять лет жизни с Сафо не могли еще изменить его до такой степени; но тело его, хранило следы оков. Несколько раз, выходя из канцелярии, он невольно направлялся в сторону Шавиля, а по утрам ему случалось оглядываться и искать на подушке, рядом с собою, волну тяжелых, черных волос не сдерживаемых гребнем и рассыпавшихся по подушке, которые он привык целовать при пробуждении…
Особенно длинными казались ему вечера, в этой комнате отеля, напоминавшей ему первое время их связи, присутствие любовницы первых дней, молчаливой и деликатной, маленькая визитная карточка которой за зеркалом благоухала альковом и тайной: Фанни Легран… Тогда он уходил бродить, старался утомить себя, оглушить светом и шумом какого-нибудь маленького театра, вплоть до той минуты, когда старик Бушеро разрешил ему проводить у невесты, что бывало три вечера в неделю.
Наконец-то они объяснились. Ирена любит его, дядя согласен; свадьба назначена на первые числа апреля, по окончании курса Бушеро. Три зимних месяца на то, чтобы видеться, привыкнуть и желать друга другу, пройти весь очаровательный искус любви, начиная с первого взгляда, соединяющего души и с первого волнующего признания.
В тот вечер, когда состоялась помолвка, вернувшись домой и не имея ни малейшего желания спать, Жан захотел привести в порядок свою комнату и придать ей рабочий вид, в силу естественного инстинкта, влекущего нас к тому, чтобы установить связь между нашею жизнью и нашими мыслями. Он прибрал свой стол и свои книги, еще не развязанные, и набросанные на дне наспех сколоченного ящика, где своды законов лежали между стопкой носовых платков и садовой фуфайкой. Вдруг из полураскрытого словаря торгового права, который он всего чаще перелистывал, выпало письмо без конверта, написанное рукой его любовницы.
Фанни вручила письмо обычному справочнику Жана, не доверяя кратковременному умилению Сезара, и думая, что таким образом письмо дойдет вернее. Сначала он не хотел его читать, но уступил первым словам, кротким и рассудительным, волнение которых чувствовалось лишь в дрожании пера и в неровных строчках. Она просила его только об одном, об одной милости – навещать ее хоть изредка. Она ничего не будет говорить, ни в чем не будет его упрекать, ни в женитьбе, ни в разлуке, которую она считает окончательной и бесповоротной. Лишь бы видеть его иногда!..
«Подумай; какой это для меня неожиданный и тяжкий удар… Я словно пережила смерть или пожар, не знаю за что приняться. Я плачу, жду, гляжу на место моего прежнего счастья. Только ты и можешь примирить меня с моим новым положением… Это милосердие; навещай меня хоть изредка, чтобы я не чувствовала себя такой одинокой. Я боюсь самой себя…»
Другие электронные книги автора Альфонс Доде
Малыш




 0
0