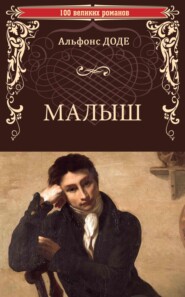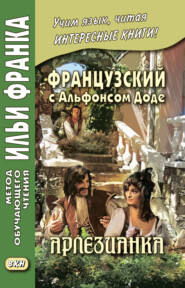По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сафо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он пробормотал несколько слов, которые трудно было разобрать, делая вид, что ищет чего то в комнате: – Не теперь… Очень тороплюсь. Свидание в клубе ровно в шесть часов… – Больше всего избегал он остаться с нею наедине.
– В таком случае, до свидания, – сказала молодая женщина, внезапно стихшая, и лицо её сомкнулось как гладь озера над брошенным в него камнем. Поклонилась и ушла.
– Бежим!..
Поттер увлек за собой Госсэна, смотревшего как перед ним сходил по лестнице, прямой и корректный в своем длинном пальто английского покроя, этот мрачный влюбленный, так волновавшийся, когда заказывал чучело хамелеона для своей любовницы, и уходивший теперь даже не простясь со своим больным ребенком.
– Все это, друг мой, – сказал музыкант, словно в ответ на мысль своего приятеля, – все это ошибка тех, которые меня женили. Истую услугу оказали они мне и этой бедной женщине!.. Что за безумие желать сделать из меня мужа и отца!.. Я был любовником Розы, остался им и останусь до тех пор, пока кто-нибудь из нас не подохнет… От порока, захватившего вас в удобную минуту и крепко держащего вас, разве можно кого-нибудь избавиться?.. А вы сами уверены ли, что если бы Фанни захотела…
Он окликнул проезжавшего мимо извозчика, и, садясь, сказал:
– Кстати о Фанни; знаете ли вы новость? Фламан помилован, вышел из Мазасской тюрьмы… Это результат прошения Дешелетта… Бедный Дешелетт! И после смерти сделал добро.
Не двигаясь, но с безумным стремлением бежать, догнать эти колеса, катившиеся быстро по темной улице, на которой только что загорался газ, Госсэн удивлялся своему волнению. «Фламан помилован!., вышел из тюрьмы»!.. повторял он про себя, угадывая в этих словах причину молчания Фанни за последние дни, её жалобы, внезапно стихшие под ласками утешителя; ибо первая мысль освобожденного была устремлена конечно к ней.
Он припомнил любовные письма, помеченные тюрьмой, упорство, с которым Фанни защищала этого человека, тогда как она совсем не дорожила остальными своими бывшими любовниками; и, вместо того, чтобы поздравить себя с обстоятельством, которое так легко освобождало его от всякой тревоги, от всяких угрызений совести, какая-то смутная тоска не дала ему спать большую часть ночи. Почему? Он ее не любит; он думает только о своих письмах, оставшихся в руках этой женщины: быть может, она станет читать их тому, другому… Быть может (кто поручится?) под влиянием злобы воспользуется ими когда-нибудь, чтобы смутить его покой, его счастье…
Действительное ли? Выдуманное ли? Или это был лишь предлог? Как бы то ни было, а это опасение о письмах заставило его решиться на неосторожный шаг – на посещение Шавиля, от которого он последнее время упорно отказывался. Но кому поручить столь интимное и деликатное дело? В одно февральское утро он выехал с десятичасовым поездом, совершенно покойный умом и сердцем, с единственной боязнью найти дом запертым и женщину уже исчезнувшей вслед за своим бандитом.
Но с поворота дороги его успокоили отворенные ставни и занавески на окнах домика; припоминая волнение, с которым он смотрел, как за ним бежал маленький огонек, он смеялся над самим собой и над хрупкостью своих впечатлений. Разумеется, он уже не тот человек, который проходил там, и, конечно, не найдет уже и той женщины. А меж тем с той поры прошло всего два месяца! Леса, вдоль которых мчался поезд, еще не оделись в новую листву, а стояли все такие же голые, и ржавые как и в день их разрыва, когда плач разносился по лесу.
Он один вышел на станции, и дрожа от холодного тумана, пошел по узенькой тропинке, обмерзшей и скользкой, прошел под аркой железной дороги, не встретил никого до «Pav? Les Gardes», на повороте которой увидел мужчину и ребенка, везшего в сопровождении станционного служащего, тачку нагруженную чемоданами.
Ребенок, закутанный в шарф с надвинутой на уши фуражкой, сдержал восклицание, проходя мимо него. «Да это Жозеф!» подумал Жан, изумленный и опечаленный неблагодарностью малютки; и, обернувшись, он встретил взгляд человека, державшего ребенка за руку. Умное, тонкое лицо, побледневшее от долгого заточения, готовое платье, купленное накануне, белокурая бородка, не успевшая отрасти со времени выхода из тюрьмы… Да это Фламан, чёрт побери! Жозеф – его сын?..
Он мигом припомнил и понял все, начиная с письма, хранившегося в ящичке, в котором красавец-гравер поручал любовнице своего ребенка, жившего в деревне, вплоть до таинственного прибытия малютки, и смущенное лицо Эттэма, когда Жан заговорил об этом приемыше, и взгляды, которыми обменивались Фанни и Олимпия; ибо все они были в заговоре, с целью заставить его кормить сына этого преступника. Ах как он глуп, и как они должно быть, смеялись над ним!.. Он почувствовал отвращение при мысли об этом постыдном прошлом и желание бежать отсюда, как можно дальше; но его смущали разные вещи, которые ему хотелось узнать. Мужчина с ребенком уехал; почему же не уехала Фанни? А затем письма… Ему нужны письма, он ничего не должен оставлять в этом злополучном и грязном месте!
– Сударыня… Барин приехал!..
– Какой барин? – наивно спросил женский голос из глубины комнаты.
– Я!..
Раздался крик, прыжок, затем: – Подожди, я сейчас встану… иду!..
Еще в постели, несмотря на то, что больше двенадцати часов! Жан не сомневался относительно причины; он знал, после чего люди просыпаются усталыми и разбитыми! И, пока он ожидал ее в столовой, полной знакомых предметов, и звуков, со свистками отходящего поезда, с дрожащим блеяньем козы в соседнем саду, с разбросанными приборами на столе, все переносило его к некогда пережитым им утренним часам, к своему легкому завтраку перед отъездом.
Фанни вошла и бросилась к нему. Затем остановилась, почувствовав его холодность, и оба стояли изумленные, колеблющиеся, как люди встречающиеся после разорванной близости, по разные стороны сломанного моста, а между собою видят огромное пространство катящихся и все пожирающих волн.
– Здравствуй… – сказала она тихо, не двигаясь. Она нашла его изменившимся, побледневшим.
Он удивлялся тому, что видит ее молодой, лишь немного пополневшей, ниже ростом чем он ее себе представлял, но озаренной тем особым сиянием, тем блеском кожи и глаз, тою нежностью, которую всегда оставляли в ней ночи, отданные страстным ласкам. Итак та, воспоминания о которой не давало ему покоя, осталась в лесу, в глубине рва, засыпанного сухими листьями.
– В деревне, однако, встают поздно… – сказал он с оттенком иронии.
Она извинилась, сослалась на мигрень и, подобно ему, говорила в безличных выражениях, не смея обратиться к нему ни на «ты», ни на «вы»; затем в ответ на немой вопрос, относившийся к остаткам завтрака, сказала: «Это мальчик… он завтракал сегодня утром перед отъездом»…
– Перед отъездом?.. куда же?
Губы его выражали полное равнодушие, но блеск глаз выдавал его. Фанни ответила.
– Отец на свободе… Он пришел и взял его…
– Он вышел из Мазасской тюрьмы, не так ли?
Она вздрогнула, не хотела лгать.
– Ну, да… Я ему обещала, и исполнила свое обещание… Сколько раз у меня являлось желание оказать тебе все, но я не осмеливалась, боялась, что ты отошлешь назад несчастного малютку… – И застенчиво прибавила: – Ты так ревновал тогда…
Он презрительно расхохотался. Ревновал! Он! К этому каторжнику!.. Полно, пожалуйста!.. И, чувствуя, как его охватывает гнев, он оборвал разговор и с живостью сказал зачем приехал. Его письма!.. Почему не передала она их дяде Сезару? Это избавило бы обоих от мучительного свидания.
– Правда, – сказала она по-прежнему с кротостью; – но я их тебе сейчас отдам, они здесь…
Он пошел за нею в спальню, увидел неубранную, лишь наскоро прикрытую постель, с двумя подушками, вдохнул запах папирос вместе с ароматом духов, которые узнал, равно как и маленький перламутровый ящичек, стоявший на столе. Одна и та же мысль пришла в голову обоим: – Он не тяжел, – сказала она, открывая ящик… – жечь было бы нечего…
Он молчал, взволнованный, с пересохшим горлом, не желая приблизиться к этой неубранной постели, близ которой она в последний раз, перелистывала письма, наклонив голову, с крепкой, белой шеей, под каскадом поднятых волнистых волос, и в широком шерстяном пеньюаре, свободно охватывавшем её пополневший, мягкий стан.
– Вот они!.. Все тут!
Взяв пакет и положив его в карман, так как опасения его изменились, Жан спросил:
– Итак он увозит ребенка… Куда же они едут?
– В Морван, на родину, чтобы жить там, скрываясь, и работать над гравюрой, которую он пошлет в Париж под вымышленным именем.
– А ты? Разве ты думаешь остаться здесь?..
Она отвела глаза, чтобы не встретиться с его взглядом, бормоча, что это было бы чересчур печально. Поэтому она думает… быть может она поедет в небольшое путешествие…
– В Морван, конечно?.. В семью!.. – И, давая волю своей ревнивой ярости, он прибавил: – Признавайся тотчас, что ты поедешь за твоим вором, что вы будете жить вместе… Ты давно уже к этому стремишься… Пора! Вернись в твой хлев!.. Доступная женщина и фальшивый монетчик, это идет друг к другу! Я был слишком добр, желая вытащить тебя из этой грязи!
Она хранила спокойствие, а из под опущенных ресниц сверкал огонек победы. И чем более он хлестал ее свирепой и оскорбительной иронией, тем более она казалась гордой, тем более дрожали концы её губ. Теперь он говорил о своем счастье, о своей молодой, честной любви, о любви единственной. Ах, сердце честной женщины – сладкий приют!.. Затем вдруг, понизя голос, словно стыдясь, спросил:
– Я только что встретил твоего Фламана; он ночевал у тебя?
– Да, вчера было поздно, шел снег… Ему постлали на диване.
– Ты лжешь! Он спал здесь… Стоит только взглянуть на постель и на тебя!
– Ну так что ж? – она приблизила к нему лицо, и в её серых больших глазах сверкнуло пламя распутства. – Разве я знала, что ты придешь?.. И, лишившись тебя, что мне было до всего остального? Я была печальна, одинока, все было мне противно…
– И вдруг каторжный!.. После того, как ты жила с честным человеком… Это показалось тебе приятным, да?.. Воображаю, какими ласками вы осыпали друг друга?.. Ах, какая грязь!.. Вот тебе!..
Она видела готовящийся удар, но не пыталась защищаться и получила его прямо в лицо; затем с глухим рычаньем боли и торжества, бросилась к нему и охватила его обеими руками: – Дружок! Дружок!.. Ты меня все еще любишь!.. – И оба покатились на постель.
К вечеру его разбудил грохот проходившего мимо скорого поезда; открыв глаза, он несколько минут не мог прийти в себя, лежа одиноко на широкой постели, где его члены, словно утомленные чрезмерным переходом, казалось лежали рядом, не будучи связаны друг с другом. За день выпало много снега. В тишине безлюдной местности слышно было как он таял и струился по стенам, вдоль стекол, капал с желоба крыши и время от времени забрызгивал грязью и водою горевший в камине кокс.
Где он? Что делает он здесь? Мало-помалу благодаря фонарю светившему из садика, он увидел всю комнату и портрет Фанни, висевший против него; к нему вернулось воспоминание о его падении, ничуть его однако не изумившее. Как только он вошел сюда, при первом взгляде на эту кровать, он почувствовал, что он побежден снова, что он погиб; эти простыни влекли его словно в пропасть, и он подумал: «Если я паду, то на этот раз уже безвозвратно, навсегда». Так и случилось. С грустным сознанием своей низости, он все же испытывал некоторое утешение при мысли, что он уже не поднимется из этой грязи, ощущал жалкое чувство раненого, который, истекая кровью, кое как дотащился до кучи навозу, чтобы умереть на ней, и устав от страданий и борьбы, блаженно погружается в мягкую, жидкую теплоту.
– В таком случае, до свидания, – сказала молодая женщина, внезапно стихшая, и лицо её сомкнулось как гладь озера над брошенным в него камнем. Поклонилась и ушла.
– Бежим!..
Поттер увлек за собой Госсэна, смотревшего как перед ним сходил по лестнице, прямой и корректный в своем длинном пальто английского покроя, этот мрачный влюбленный, так волновавшийся, когда заказывал чучело хамелеона для своей любовницы, и уходивший теперь даже не простясь со своим больным ребенком.
– Все это, друг мой, – сказал музыкант, словно в ответ на мысль своего приятеля, – все это ошибка тех, которые меня женили. Истую услугу оказали они мне и этой бедной женщине!.. Что за безумие желать сделать из меня мужа и отца!.. Я был любовником Розы, остался им и останусь до тех пор, пока кто-нибудь из нас не подохнет… От порока, захватившего вас в удобную минуту и крепко держащего вас, разве можно кого-нибудь избавиться?.. А вы сами уверены ли, что если бы Фанни захотела…
Он окликнул проезжавшего мимо извозчика, и, садясь, сказал:
– Кстати о Фанни; знаете ли вы новость? Фламан помилован, вышел из Мазасской тюрьмы… Это результат прошения Дешелетта… Бедный Дешелетт! И после смерти сделал добро.
Не двигаясь, но с безумным стремлением бежать, догнать эти колеса, катившиеся быстро по темной улице, на которой только что загорался газ, Госсэн удивлялся своему волнению. «Фламан помилован!., вышел из тюрьмы»!.. повторял он про себя, угадывая в этих словах причину молчания Фанни за последние дни, её жалобы, внезапно стихшие под ласками утешителя; ибо первая мысль освобожденного была устремлена конечно к ней.
Он припомнил любовные письма, помеченные тюрьмой, упорство, с которым Фанни защищала этого человека, тогда как она совсем не дорожила остальными своими бывшими любовниками; и, вместо того, чтобы поздравить себя с обстоятельством, которое так легко освобождало его от всякой тревоги, от всяких угрызений совести, какая-то смутная тоска не дала ему спать большую часть ночи. Почему? Он ее не любит; он думает только о своих письмах, оставшихся в руках этой женщины: быть может, она станет читать их тому, другому… Быть может (кто поручится?) под влиянием злобы воспользуется ими когда-нибудь, чтобы смутить его покой, его счастье…
Действительное ли? Выдуманное ли? Или это был лишь предлог? Как бы то ни было, а это опасение о письмах заставило его решиться на неосторожный шаг – на посещение Шавиля, от которого он последнее время упорно отказывался. Но кому поручить столь интимное и деликатное дело? В одно февральское утро он выехал с десятичасовым поездом, совершенно покойный умом и сердцем, с единственной боязнью найти дом запертым и женщину уже исчезнувшей вслед за своим бандитом.
Но с поворота дороги его успокоили отворенные ставни и занавески на окнах домика; припоминая волнение, с которым он смотрел, как за ним бежал маленький огонек, он смеялся над самим собой и над хрупкостью своих впечатлений. Разумеется, он уже не тот человек, который проходил там, и, конечно, не найдет уже и той женщины. А меж тем с той поры прошло всего два месяца! Леса, вдоль которых мчался поезд, еще не оделись в новую листву, а стояли все такие же голые, и ржавые как и в день их разрыва, когда плач разносился по лесу.
Он один вышел на станции, и дрожа от холодного тумана, пошел по узенькой тропинке, обмерзшей и скользкой, прошел под аркой железной дороги, не встретил никого до «Pav? Les Gardes», на повороте которой увидел мужчину и ребенка, везшего в сопровождении станционного служащего, тачку нагруженную чемоданами.
Ребенок, закутанный в шарф с надвинутой на уши фуражкой, сдержал восклицание, проходя мимо него. «Да это Жозеф!» подумал Жан, изумленный и опечаленный неблагодарностью малютки; и, обернувшись, он встретил взгляд человека, державшего ребенка за руку. Умное, тонкое лицо, побледневшее от долгого заточения, готовое платье, купленное накануне, белокурая бородка, не успевшая отрасти со времени выхода из тюрьмы… Да это Фламан, чёрт побери! Жозеф – его сын?..
Он мигом припомнил и понял все, начиная с письма, хранившегося в ящичке, в котором красавец-гравер поручал любовнице своего ребенка, жившего в деревне, вплоть до таинственного прибытия малютки, и смущенное лицо Эттэма, когда Жан заговорил об этом приемыше, и взгляды, которыми обменивались Фанни и Олимпия; ибо все они были в заговоре, с целью заставить его кормить сына этого преступника. Ах как он глуп, и как они должно быть, смеялись над ним!.. Он почувствовал отвращение при мысли об этом постыдном прошлом и желание бежать отсюда, как можно дальше; но его смущали разные вещи, которые ему хотелось узнать. Мужчина с ребенком уехал; почему же не уехала Фанни? А затем письма… Ему нужны письма, он ничего не должен оставлять в этом злополучном и грязном месте!
– Сударыня… Барин приехал!..
– Какой барин? – наивно спросил женский голос из глубины комнаты.
– Я!..
Раздался крик, прыжок, затем: – Подожди, я сейчас встану… иду!..
Еще в постели, несмотря на то, что больше двенадцати часов! Жан не сомневался относительно причины; он знал, после чего люди просыпаются усталыми и разбитыми! И, пока он ожидал ее в столовой, полной знакомых предметов, и звуков, со свистками отходящего поезда, с дрожащим блеяньем козы в соседнем саду, с разбросанными приборами на столе, все переносило его к некогда пережитым им утренним часам, к своему легкому завтраку перед отъездом.
Фанни вошла и бросилась к нему. Затем остановилась, почувствовав его холодность, и оба стояли изумленные, колеблющиеся, как люди встречающиеся после разорванной близости, по разные стороны сломанного моста, а между собою видят огромное пространство катящихся и все пожирающих волн.
– Здравствуй… – сказала она тихо, не двигаясь. Она нашла его изменившимся, побледневшим.
Он удивлялся тому, что видит ее молодой, лишь немного пополневшей, ниже ростом чем он ее себе представлял, но озаренной тем особым сиянием, тем блеском кожи и глаз, тою нежностью, которую всегда оставляли в ней ночи, отданные страстным ласкам. Итак та, воспоминания о которой не давало ему покоя, осталась в лесу, в глубине рва, засыпанного сухими листьями.
– В деревне, однако, встают поздно… – сказал он с оттенком иронии.
Она извинилась, сослалась на мигрень и, подобно ему, говорила в безличных выражениях, не смея обратиться к нему ни на «ты», ни на «вы»; затем в ответ на немой вопрос, относившийся к остаткам завтрака, сказала: «Это мальчик… он завтракал сегодня утром перед отъездом»…
– Перед отъездом?.. куда же?
Губы его выражали полное равнодушие, но блеск глаз выдавал его. Фанни ответила.
– Отец на свободе… Он пришел и взял его…
– Он вышел из Мазасской тюрьмы, не так ли?
Она вздрогнула, не хотела лгать.
– Ну, да… Я ему обещала, и исполнила свое обещание… Сколько раз у меня являлось желание оказать тебе все, но я не осмеливалась, боялась, что ты отошлешь назад несчастного малютку… – И застенчиво прибавила: – Ты так ревновал тогда…
Он презрительно расхохотался. Ревновал! Он! К этому каторжнику!.. Полно, пожалуйста!.. И, чувствуя, как его охватывает гнев, он оборвал разговор и с живостью сказал зачем приехал. Его письма!.. Почему не передала она их дяде Сезару? Это избавило бы обоих от мучительного свидания.
– Правда, – сказала она по-прежнему с кротостью; – но я их тебе сейчас отдам, они здесь…
Он пошел за нею в спальню, увидел неубранную, лишь наскоро прикрытую постель, с двумя подушками, вдохнул запах папирос вместе с ароматом духов, которые узнал, равно как и маленький перламутровый ящичек, стоявший на столе. Одна и та же мысль пришла в голову обоим: – Он не тяжел, – сказала она, открывая ящик… – жечь было бы нечего…
Он молчал, взволнованный, с пересохшим горлом, не желая приблизиться к этой неубранной постели, близ которой она в последний раз, перелистывала письма, наклонив голову, с крепкой, белой шеей, под каскадом поднятых волнистых волос, и в широком шерстяном пеньюаре, свободно охватывавшем её пополневший, мягкий стан.
– Вот они!.. Все тут!
Взяв пакет и положив его в карман, так как опасения его изменились, Жан спросил:
– Итак он увозит ребенка… Куда же они едут?
– В Морван, на родину, чтобы жить там, скрываясь, и работать над гравюрой, которую он пошлет в Париж под вымышленным именем.
– А ты? Разве ты думаешь остаться здесь?..
Она отвела глаза, чтобы не встретиться с его взглядом, бормоча, что это было бы чересчур печально. Поэтому она думает… быть может она поедет в небольшое путешествие…
– В Морван, конечно?.. В семью!.. – И, давая волю своей ревнивой ярости, он прибавил: – Признавайся тотчас, что ты поедешь за твоим вором, что вы будете жить вместе… Ты давно уже к этому стремишься… Пора! Вернись в твой хлев!.. Доступная женщина и фальшивый монетчик, это идет друг к другу! Я был слишком добр, желая вытащить тебя из этой грязи!
Она хранила спокойствие, а из под опущенных ресниц сверкал огонек победы. И чем более он хлестал ее свирепой и оскорбительной иронией, тем более она казалась гордой, тем более дрожали концы её губ. Теперь он говорил о своем счастье, о своей молодой, честной любви, о любви единственной. Ах, сердце честной женщины – сладкий приют!.. Затем вдруг, понизя голос, словно стыдясь, спросил:
– Я только что встретил твоего Фламана; он ночевал у тебя?
– Да, вчера было поздно, шел снег… Ему постлали на диване.
– Ты лжешь! Он спал здесь… Стоит только взглянуть на постель и на тебя!
– Ну так что ж? – она приблизила к нему лицо, и в её серых больших глазах сверкнуло пламя распутства. – Разве я знала, что ты придешь?.. И, лишившись тебя, что мне было до всего остального? Я была печальна, одинока, все было мне противно…
– И вдруг каторжный!.. После того, как ты жила с честным человеком… Это показалось тебе приятным, да?.. Воображаю, какими ласками вы осыпали друг друга?.. Ах, какая грязь!.. Вот тебе!..
Она видела готовящийся удар, но не пыталась защищаться и получила его прямо в лицо; затем с глухим рычаньем боли и торжества, бросилась к нему и охватила его обеими руками: – Дружок! Дружок!.. Ты меня все еще любишь!.. – И оба покатились на постель.
К вечеру его разбудил грохот проходившего мимо скорого поезда; открыв глаза, он несколько минут не мог прийти в себя, лежа одиноко на широкой постели, где его члены, словно утомленные чрезмерным переходом, казалось лежали рядом, не будучи связаны друг с другом. За день выпало много снега. В тишине безлюдной местности слышно было как он таял и струился по стенам, вдоль стекол, капал с желоба крыши и время от времени забрызгивал грязью и водою горевший в камине кокс.
Где он? Что делает он здесь? Мало-помалу благодаря фонарю светившему из садика, он увидел всю комнату и портрет Фанни, висевший против него; к нему вернулось воспоминание о его падении, ничуть его однако не изумившее. Как только он вошел сюда, при первом взгляде на эту кровать, он почувствовал, что он побежден снова, что он погиб; эти простыни влекли его словно в пропасть, и он подумал: «Если я паду, то на этот раз уже безвозвратно, навсегда». Так и случилось. С грустным сознанием своей низости, он все же испытывал некоторое утешение при мысли, что он уже не поднимется из этой грязи, ощущал жалкое чувство раненого, который, истекая кровью, кое как дотащился до кучи навозу, чтобы умереть на ней, и устав от страданий и борьбы, блаженно погружается в мягкую, жидкую теплоту.
Другие электронные книги автора Альфонс Доде
Малыш




 0
0