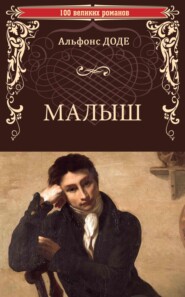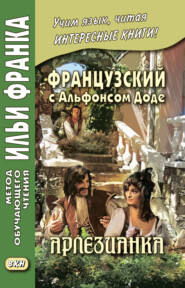По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сафо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Эти жалобы, этот молящий крик пронизывали все письмо и повторялись вновь в тех же словах: «Приди, приди…» Он мог вообразить, что находится снова в лесу, на поляне, что Фанни лежит у его ног и он видит её жалкое лицо, окутанное лиловатым отблеском вечера, поднятое к нему, измученное и мокрое от слез, и её темный раскрытый рот, оглашающий воплями лес. Эта картина, а не счастливое опьянение, вынесенное им из дома Бушеро, преследовала его всю ночь, смущая его сон. Он видел постаревшее, измятое лицо, несмотря на все усилия поставить между ним и собою юное личико с нежными чертами, с цветом лица напоминавшим нежную гвоздику, которое любовное признание окрашивало розоватым отсветом.
Письмо было написано неделю тому назад; семь дней несчастная ждала ответа или посещения, ждала поддержки в своей покорности. Но почему не написала она с тех пор вторично? Быть может, она больна? И его охватил прежний страх. Он подумал, что Эттэма мог бы дать о ней сведения, и, уверенный в неизменности его привычек, пошел поджидать его у двери Артиллерийского Комитета.
Пробило десять часов на башне святого Фомы Аквинскаго, когда толстяк вышел из-за угла маленькой площади, с поднятым воротником и с трубкой в зубах, которую держал обеими руками, чтобы согреть пальцы. Жан издали увидел его и его охватила целая волна воспоминаний; но Эттэма встретил его крайне сухо.
– Вот и вы, наконец!.. Не знаю сколько раз проклинали мы вас на этой неделе!.. А мы-то поселились за городом чтобы наслаждаться покоем!..
Стоя у двери и докуривая трубку, он рассказал ему, что в предыдущее воскресенье они пригласили Фанни к себе обедать, вместе с мальчиком, чтобы немного отвлечь ее от её печальных мыслей. В самом деле, они пообедали довольно весело; за десертом она даже пела немного; в десять часов расстались, и они готовились ложиться, как вдруг раздался стук в ставни и испуганный голос маленького Жозефа, кричавшаго:
– Бегите скорее, мама хочет отравиться!..
Эттэма бросился из дому, и прибежал как раз во время, чтобы вырвать у неё из рук пузырек с опием. Пришлось бороться с нею, схватив ее поперек тела, держать ее и защищаться от ударов, которыми она осыпала его лицо. Во время борьбы пузырек разбился, опий разлился, и кончилось тем, что ядом были запятнаны и пропитаны только их платья.
– Но вы понимаете, что подобные сцены, подобные драмы, словно выхваченные из газетной хроники, для таких мирных людей… Теперь кончено! Я отказался от квартиры; в начале месяца мы переезжаем.
Он положил трубку в футляр и, мирно простившись, исчез под низкими сводами дворика, оставив Госсэна одного, потрясенного тем, что он услышал. Он представлял себе всю сцену в той комнате, которая была прежде их спальней, испуг мальчика, звавшего на помощь, грубую борьбу с толстяком, и почти ощущал вкус опия, снотворную горечь разлитого яда. Страх не покидал его весь день, усиленный мыслью о её одиночестве. Эттэма уедут и кто тогда удержит её руку при новой попытке?..
Вскоре пришло письмо, которое несколько успокоило его. Фанни благодарила его за то, что он не так жесток, как хотел казаться, и что он интересуется еще несчастной покинутой: «Тебе рассказали, не правда ли?.. Я хотела умереть… потому что почувствовала себя слишком одинокой!.. Я пыталась, но не смогла: меня остановили, быть может у меня самой задрожала рука… боязнь страданий уродства… Ах, откуда взяла маленькая Дорэ, столько мужества?.. После первого стыда моей неудачи, я испытала огромную радость, думая, что смогу писать тебе, любить тебя хоть издали, видеть тебя; ибо я не теряю надежды, что ты придешь как-нибудь, как приходят к несчастному другу в дом, где царят скорбь и страдание из жалости, из одной только жалости»…
С тех пор, каждые два-три дня из Шавиля приходило письмо, неровное, то длинное, то короткое – дневник печали, которое он не имел мужества отослать обратно, и которое расширяло рану, в его сердце, вызывая жалость без любви, не к любовнице, а просто к человеческому существу страдающему из-за него.
Настал день отъезда её соседей, свидетелей её прошлого счастья, увозивших с собой столько воспоминаний… Теперь хранителями этих воспоминаний оставались только мебель, стены маленького домика, да служанка, несчастное дикое существо, так же мало интересовавшееся окружающим, как иволга, зябнувшая от холодов и сидевшая, грустно взъерошив перышки, в углу клетки.
Однажды, когда бледный луч проник в окно она встала веселая с убеждением, что он придет сегодня!.. Почему? Так, просто, подумалось… Тотчас принялась она убирать дом, а сама нарядилась в праздничное платье и причесалась, как он любил; затем до вечера, до последнего луча света ждала поезда, сидя у окна столовой, прислушиваясь, не прозвучат ли его шаги на «Pav? des Gardes»… Можно же было дойти до такого безумия!
Иногда она писала всего одну строчку: «Идет дождь, темно… Я сижу одна и плачу о тебе…» Или ограничивалась тем, что клала в конверт цветок, весь сморщенный дождем и изморозью, последний цветок их садика. Красноречивее всех жалоб был этот цветок, сорванный из под снега и говоривший о зиме, об одиночестве, о заброшенности; он видел в конце аллеи между клумбами женскую юбку, всю промокшую и двигавшуюся взад и вперед в одинокой прогулке.
Эта жалость, сжимавшая ему сердце, заставляла его жить вместе с Фанни, несмотря на разрыв. Он думал о ней и ежечасно представлял ее себе; но, по старому недостатку памяти, хотя не прошло еще пяти-шести недель с минуты их разлуки и он еще ясно помнил все мельчайшие подробности их обстановки – даже клетку Балю против деревянной кукушки, выигранной им на деревенском празднике, и ветви орешника, бившей при малейшем ветре о стекла их уборной – сама Фанни представлялась ему как-то неясно. Он видел ее, словно окутанную туманом, с одной лишь подробностью её лица, резко подчеркнутой и мучительной – с перекошенным ртом и жалкою улыбкой, обнажавшею место выпавшего зуба.
Когда она состарится, что будет с несчастным созданием, с которым он так долго не расставался? Когда кончатся оставленные им деньги, куда она пойдет, на какое опустится дно? Вдруг в его памяти встала та несчастная женщина, которую он встретил однажды вечером в английской таверне и которая умирала от жажды над ломтем копченой лососины. В такую женщину превратится и та, чью страстную и верную любовь он принимал столько времени… Эта мысль приводила его в отчаяние… А между тем, что делать? Если он имел несчастье встретить эту женщину и жить с ней некоторое время, неужели он из-за этого осужден на то, чтобы не расставаться с нею всю жизнь и принести ей в жертву все свое счастье? Почему он, а не кто-либо другой? Разве это справедливо?
Запрещая себе видеться с нею, он однако же писал ей; и его письма, намеренно положительные и сухие, под мудрыми и успокоительными советами выдавали его волнение. Он предлагал ей взять из школы Жозефа и заниматься с ним, чтобы рассеяться; но Фанни отказалась. К чему ставить ребенка лицом к лицу с её горем, с её отчаянием? Достаточно уже было воскресенья, когда мальчик скитался со стула на стул, из столовой в сад, угадывая, что в доме произошло несчастье и не смея спросить о «папе Жане», с тех пор как ему с рыданиями заявили, что он уехал и больше не вернется.
– Значит, все мои папаши уезжают!
Эти слова ребенка, помещенные в полном горечи письме, тяжело легли на душу Госсэна. Вскоре мысль о том, что Фанни продолжает жить в Шавиле, стала настолько угнетать его, что он посоветовал ей переехать в Париж, чтобы хоть кое с кем видеться. Имея печальный опыт с мужчинами и разрывами, Фанни в этом положении увидела лишь эгоистическую надежду избавиться от неё навсегда, и она высказала ему это чистосердечно в письме:
«Помнишь, что я тебе говорила?.. Что я останусь твоей женой, несмотря ни на что, твоей любящей и верной женой. Наш маленький домик напоминает мне об этом, и я ни за что в мире не хочу его покинуть… Что буду я делать в Париже? Я с отвращением думаю о моем прошлом, которое отдаляет тебя от меня; подумай, чему ты нас подвергаешь… Ты, по-видимому, очень уверен в себе? В таком случае, приезжай, злой человек… Приезжай, один раз, один только раз!»…
Он не поехал; но однажды в воскресенье днем, сидя в своей комнате за работой, он услыхал, как в дверь его дважды постучали. Он вздрогнул, узнав её стук. Боясь встретить внизу отказ, она одним духом, взбежала наверх никого не спрашивая. Он подошел, заглушая звук шагов в мягком ковре и чувствуя сквозь дверь её дыхание:
– Жан, ты дома?..
Ах, этот покорный, разбитый голос!.. Еще раз, не громко: «Жан!..» Затем жалобный вздох, шелест письма, ласковое слово и прощальный поцелуй, обращенный к двери.
Когда она сошла с лестницы, медленно, словно ожидая, что ее вернут, Жан поднял и распечатал письмо. Утром хоронили маленькую Гошкорн в приюте для больных детей. Она пришла вместе с её отцом и несколькими лицами из Шавиля, и не могла отказать себе в том, чтобы зайти к нему, увидеть его или хоть оставить ему эти написанные заранее строки: «…Я ведь тебе говорила!.. Если бы я жила в Париже, я бы только и делала, что поднималась и спускалась по твоей лестнице… До свидания, друг: я возвращаюсь в наш домик»…
Когда он читал, с глазами полными слез, он припоминал ту же сцену на улице Аркад, горечь любовника, которого она не приняла, просунутое под дверь письмо и бессердечный хохот Фанни. Значит, она любила его сильнее, чем он Ирену! Или же мужчина, более чем женщина вовлеченный в жизненную и деловую борьбу, не может отдаваться любви так исключительно, как она, забывая и делаясь равнодушным ко всему, что не есть его страсть, всепоглощающая и единственная?
Эти муки, эта острая жалость, которой он терзался, утихали только вблизи Ирены. Лишь здесь тоска выпускала его из своих когтей и таяла под кротким голубым лучом её взгляда. У него оставалась лишь огромная усталость и искушение прильнуть головой к её плечу, и сидеть так, не говоря ни слова, не двигаясь, под её защитой.
– Что с вами? – спрашивала девушка. – Разве вы не счастливы?
О, да, конечно, он счастлив! Но почему счастье его соткано из такой печали и такого моря слез? Минутами ему хотелось рассказать ей все, как умному и доброму другу; несчастный безумец не думал о тех волнениях, которые возбуждают подобные признания в совершенно нетронутых душах, о неисцелимых ранах, которые они могут нанести доверию и любви. Ах, если бы он мог увезти ее, бежать с ней! Он чувствовал, что только тогда настал бы конец его мучениям; но старик Бушеро не хотел уступить ни одного часа из намеченного срока: «Я стар, болен… Я не увижу больше мою деточку; не лишайте меня этих последних дней…»
Под суровой внешностью ученого, это был добрейший человек. Безнадежно обреченный сердечной болезнью, за успехами которой он сам следил, он говорил о ней с изумительным хладнокровием, продолжал задыхаясь, читать лекции и выслушивал жалобы менее тяжко больных, чем он. У этого широкого ума была одна слабость, ярко свидетельствовавшая об его крестьянском происхождении: то было уважение к титулам, к происхождению. Воспоминание о башенках замка Кастеле и старинная фамилия Д'Арманди оказали свое влияние на легкость, с которой он согласился признать в Жане будущего мужа своей племянницы.
Свадьба состоится в Кастеле, что избавляло от необходимости приезда бедную мать, присылавшую еженедельно своей будущей невестке доброе письмо, полное нежностей, продиктованное Дивонне или одной из маленьких «святых жен». Какою радостью было говорить с Иреной о родных, чувствовать себя на Вандомской площади как бы в Кастеле, – словно все его симпатии и привязанности сомкнулись вокруг его дорогой невесты!
Он боялся только того, что чувствует себя слишком старым, слишком усталым рядом с ней; видел, что она по-детски радуется таким вещам, которые его уже более не занимают, с наслаждением думает о жизни вдвоем, с которой он был уже хорошо знаком. Так, его неприятно волновало составление списка предметов которые они должны были взять с собой на новое место его службы, мебель, материи; составляя его, он остановился, и перо дрогнуло в его руке: он испугался этого нового устройства очага, уже знакомого ему по квартире на улице Амстердам, и неизбежным переживанием сызнова стольких радостей, уже старых, уже изжитых за эти пять лет совместной жизни с Фанни, в каком-то маскараде брака и хозяйства…
Глава 14
– Да, друг мой, умер сегодня ночью на руках у Розы… Я только что отнес его к набивателю чучел.
Поттер, которого Жан встретил при выходе из магазина на улице Бак, ухватился за него, чувствуя потребность излить свое горе, которое отнюдь не шло к его бесстрастным и жестким чертам делового человека, и поведал ему о страданиях злополучного Бичито, сраженного парижской зимой и околевшего от холода, несмотря на обкладку ватой и на спиртовую горелку, уже два месяца горевшую под его маленькой конуркой – как согревают детей, родившихся раньше времени. Ничто не могло успокоить его дрожи, и в предыдущую ночь, когда они все стояли вокруг него, последний трепет пробежал по его телу от головы до хвоста, и он умер в мире, благодаря целым потокам святой воды, которые вылила мамаша Пилар на его пятнистую кожу, и которая, подняв глаза к небу, сказала: «да простит ему Бог!»
– Я смеюсь над этим; но тем не менее у меня тяжко на душе; особенно когда я думаю о страданиях несчастной Розы, которую я оставил в слезах… К счастью, Фанни с нею…
– Фанни?..
– Да, мы давно уже ее не видели… Она пришла сегодня утром как раз в разгар трагедии, и эта добрая душа осталась утешать подругу. – Он прибавил, не замечая впечатления, произведенного его словами: – Итак, у вас все кончено? Вы разошлись? Помните ли вы наш разговор на Ангиенском озере? По крайней мере, вы извлекаете пользу из советов, которые вам дают…
И он не без некоторой зависти выразил свое одобрение.
Госсэн, нахмурившись, испытывал истинное горе при мысли о том, что Фанни вернулась к Розарио; но он сердился на себя за эту слабость, не имея, после всего случившегося, ни прав на её жизнь, ни ответственности за неё.
Перед одним из домов на улице Бон, старинной улице древнего аристократического Парижа, на которую они только что вступили, Поттер остановился. Здесь он жил, или, по крайней мере, считалось, что живет, ибо в действительности время его проходило на улице Виллье или в Ангиене, и он лишь изредка являлся домой, чтобы жена его и ребенок не казались совсем покинутыми.
Жан шел с ним рядом, мысленно прощаясь с ним, но тот вдруг задержал его руку в своих жестких и сильных руках пианиста и без малейшего затруднения, как человек, которого уже не смущает его порок, сказал:
– Окажите мне, пожалуйста, услугу; поднимитесь со мной в квартиру. Я должен обедать у жены, но не могу оставить бедную Розу одну в её отчаянии… Вы послужите предлогом для моего ухода и избавите меня от неприятного объяснения.
Кабинет музыканта, в великолепной и холодной буржуазной квартире бельэтажа, носил отпечаток комнаты, в которой никогда не работают. Все было слишком чисто, без малейшего беспорядка, и не носило следов той лихорадки деятельности, которая распространяется на предметы и мебель. Ни одной книги, ни одного листочка на столе, на котором красовалась огромная бронзовая чернильница, сухая и блестящая, словно на выставке; ни одной партитуры на старом рояле, в форме шпинета, вдохновлявшем его первые произведения. Бюст из белого мрамора, бюст женщины с изящными чертами, с выражением нежности, бледный в полусвете сумерек, придавал еще более холодный вид задрапированному камину без огня, и, казалось, грустно глядел на стены, увешанные золочеными венками, украшенными лентами, медалями, памятными жетонами всем этим хламом славы и тщеславия, великодушно оставленным жене взамен себя и который она поддерживала, словно украшения на могиле своего счастья.
Едва они вошли, как дверь кабинета отворилась и появилась госпожа Поттер.
– Это ты Гюстав?
Она думала, что муж один, и перед незнакомым лицом остановилась в явной тревоге. Изящная, красивая, изысканно и со вкусом одетая, она казалась красивее своего изображения, кроткое выражение которого заменилось у неё теперь нервною и мужественною решимостью. Мнения относительно характера этой женщины в свете разделялись. Одни порицали ее за то, что она переносит явное презрение мужа, так как связь его на стороне была всем известна; другие, наоборот, восхищались её молчаливою покорностью, и общественное мнение считало ее за спокойную особу, любящую больше всего свой покой и удовлетворяющуюся в своем вдовстве ласками красивого ребенка и честью носить имя великого человека.
Но, пока композитор представлял своего товарища и придумывал какую-то ложь, чтобы избежать семейного обеда, по еле заметному трепету молодого женского лица, по грустному и пристальному взгляду, который ничего не видел, словно всецело поглощенный страданием, Жан мог угадать, что под светской внешностью заживо похоронена огромная скорбь. Она, казалось, приняла историю, которой, конечно, не верила, и ограничилась тем что лишь сказала кротко:
– Раймонд будет плакать; я обещала ему, что мы пообедаем у его постели.
– Как его здоровье? – спросил Поттер, рассеянный, нетерпеливый.
– Лучше; но он все еще кашляет… Тебе не хочется взглянуть на него?
Письмо было написано неделю тому назад; семь дней несчастная ждала ответа или посещения, ждала поддержки в своей покорности. Но почему не написала она с тех пор вторично? Быть может, она больна? И его охватил прежний страх. Он подумал, что Эттэма мог бы дать о ней сведения, и, уверенный в неизменности его привычек, пошел поджидать его у двери Артиллерийского Комитета.
Пробило десять часов на башне святого Фомы Аквинскаго, когда толстяк вышел из-за угла маленькой площади, с поднятым воротником и с трубкой в зубах, которую держал обеими руками, чтобы согреть пальцы. Жан издали увидел его и его охватила целая волна воспоминаний; но Эттэма встретил его крайне сухо.
– Вот и вы, наконец!.. Не знаю сколько раз проклинали мы вас на этой неделе!.. А мы-то поселились за городом чтобы наслаждаться покоем!..
Стоя у двери и докуривая трубку, он рассказал ему, что в предыдущее воскресенье они пригласили Фанни к себе обедать, вместе с мальчиком, чтобы немного отвлечь ее от её печальных мыслей. В самом деле, они пообедали довольно весело; за десертом она даже пела немного; в десять часов расстались, и они готовились ложиться, как вдруг раздался стук в ставни и испуганный голос маленького Жозефа, кричавшаго:
– Бегите скорее, мама хочет отравиться!..
Эттэма бросился из дому, и прибежал как раз во время, чтобы вырвать у неё из рук пузырек с опием. Пришлось бороться с нею, схватив ее поперек тела, держать ее и защищаться от ударов, которыми она осыпала его лицо. Во время борьбы пузырек разбился, опий разлился, и кончилось тем, что ядом были запятнаны и пропитаны только их платья.
– Но вы понимаете, что подобные сцены, подобные драмы, словно выхваченные из газетной хроники, для таких мирных людей… Теперь кончено! Я отказался от квартиры; в начале месяца мы переезжаем.
Он положил трубку в футляр и, мирно простившись, исчез под низкими сводами дворика, оставив Госсэна одного, потрясенного тем, что он услышал. Он представлял себе всю сцену в той комнате, которая была прежде их спальней, испуг мальчика, звавшего на помощь, грубую борьбу с толстяком, и почти ощущал вкус опия, снотворную горечь разлитого яда. Страх не покидал его весь день, усиленный мыслью о её одиночестве. Эттэма уедут и кто тогда удержит её руку при новой попытке?..
Вскоре пришло письмо, которое несколько успокоило его. Фанни благодарила его за то, что он не так жесток, как хотел казаться, и что он интересуется еще несчастной покинутой: «Тебе рассказали, не правда ли?.. Я хотела умереть… потому что почувствовала себя слишком одинокой!.. Я пыталась, но не смогла: меня остановили, быть может у меня самой задрожала рука… боязнь страданий уродства… Ах, откуда взяла маленькая Дорэ, столько мужества?.. После первого стыда моей неудачи, я испытала огромную радость, думая, что смогу писать тебе, любить тебя хоть издали, видеть тебя; ибо я не теряю надежды, что ты придешь как-нибудь, как приходят к несчастному другу в дом, где царят скорбь и страдание из жалости, из одной только жалости»…
С тех пор, каждые два-три дня из Шавиля приходило письмо, неровное, то длинное, то короткое – дневник печали, которое он не имел мужества отослать обратно, и которое расширяло рану, в его сердце, вызывая жалость без любви, не к любовнице, а просто к человеческому существу страдающему из-за него.
Настал день отъезда её соседей, свидетелей её прошлого счастья, увозивших с собой столько воспоминаний… Теперь хранителями этих воспоминаний оставались только мебель, стены маленького домика, да служанка, несчастное дикое существо, так же мало интересовавшееся окружающим, как иволга, зябнувшая от холодов и сидевшая, грустно взъерошив перышки, в углу клетки.
Однажды, когда бледный луч проник в окно она встала веселая с убеждением, что он придет сегодня!.. Почему? Так, просто, подумалось… Тотчас принялась она убирать дом, а сама нарядилась в праздничное платье и причесалась, как он любил; затем до вечера, до последнего луча света ждала поезда, сидя у окна столовой, прислушиваясь, не прозвучат ли его шаги на «Pav? des Gardes»… Можно же было дойти до такого безумия!
Иногда она писала всего одну строчку: «Идет дождь, темно… Я сижу одна и плачу о тебе…» Или ограничивалась тем, что клала в конверт цветок, весь сморщенный дождем и изморозью, последний цветок их садика. Красноречивее всех жалоб был этот цветок, сорванный из под снега и говоривший о зиме, об одиночестве, о заброшенности; он видел в конце аллеи между клумбами женскую юбку, всю промокшую и двигавшуюся взад и вперед в одинокой прогулке.
Эта жалость, сжимавшая ему сердце, заставляла его жить вместе с Фанни, несмотря на разрыв. Он думал о ней и ежечасно представлял ее себе; но, по старому недостатку памяти, хотя не прошло еще пяти-шести недель с минуты их разлуки и он еще ясно помнил все мельчайшие подробности их обстановки – даже клетку Балю против деревянной кукушки, выигранной им на деревенском празднике, и ветви орешника, бившей при малейшем ветре о стекла их уборной – сама Фанни представлялась ему как-то неясно. Он видел ее, словно окутанную туманом, с одной лишь подробностью её лица, резко подчеркнутой и мучительной – с перекошенным ртом и жалкою улыбкой, обнажавшею место выпавшего зуба.
Когда она состарится, что будет с несчастным созданием, с которым он так долго не расставался? Когда кончатся оставленные им деньги, куда она пойдет, на какое опустится дно? Вдруг в его памяти встала та несчастная женщина, которую он встретил однажды вечером в английской таверне и которая умирала от жажды над ломтем копченой лососины. В такую женщину превратится и та, чью страстную и верную любовь он принимал столько времени… Эта мысль приводила его в отчаяние… А между тем, что делать? Если он имел несчастье встретить эту женщину и жить с ней некоторое время, неужели он из-за этого осужден на то, чтобы не расставаться с нею всю жизнь и принести ей в жертву все свое счастье? Почему он, а не кто-либо другой? Разве это справедливо?
Запрещая себе видеться с нею, он однако же писал ей; и его письма, намеренно положительные и сухие, под мудрыми и успокоительными советами выдавали его волнение. Он предлагал ей взять из школы Жозефа и заниматься с ним, чтобы рассеяться; но Фанни отказалась. К чему ставить ребенка лицом к лицу с её горем, с её отчаянием? Достаточно уже было воскресенья, когда мальчик скитался со стула на стул, из столовой в сад, угадывая, что в доме произошло несчастье и не смея спросить о «папе Жане», с тех пор как ему с рыданиями заявили, что он уехал и больше не вернется.
– Значит, все мои папаши уезжают!
Эти слова ребенка, помещенные в полном горечи письме, тяжело легли на душу Госсэна. Вскоре мысль о том, что Фанни продолжает жить в Шавиле, стала настолько угнетать его, что он посоветовал ей переехать в Париж, чтобы хоть кое с кем видеться. Имея печальный опыт с мужчинами и разрывами, Фанни в этом положении увидела лишь эгоистическую надежду избавиться от неё навсегда, и она высказала ему это чистосердечно в письме:
«Помнишь, что я тебе говорила?.. Что я останусь твоей женой, несмотря ни на что, твоей любящей и верной женой. Наш маленький домик напоминает мне об этом, и я ни за что в мире не хочу его покинуть… Что буду я делать в Париже? Я с отвращением думаю о моем прошлом, которое отдаляет тебя от меня; подумай, чему ты нас подвергаешь… Ты, по-видимому, очень уверен в себе? В таком случае, приезжай, злой человек… Приезжай, один раз, один только раз!»…
Он не поехал; но однажды в воскресенье днем, сидя в своей комнате за работой, он услыхал, как в дверь его дважды постучали. Он вздрогнул, узнав её стук. Боясь встретить внизу отказ, она одним духом, взбежала наверх никого не спрашивая. Он подошел, заглушая звук шагов в мягком ковре и чувствуя сквозь дверь её дыхание:
– Жан, ты дома?..
Ах, этот покорный, разбитый голос!.. Еще раз, не громко: «Жан!..» Затем жалобный вздох, шелест письма, ласковое слово и прощальный поцелуй, обращенный к двери.
Когда она сошла с лестницы, медленно, словно ожидая, что ее вернут, Жан поднял и распечатал письмо. Утром хоронили маленькую Гошкорн в приюте для больных детей. Она пришла вместе с её отцом и несколькими лицами из Шавиля, и не могла отказать себе в том, чтобы зайти к нему, увидеть его или хоть оставить ему эти написанные заранее строки: «…Я ведь тебе говорила!.. Если бы я жила в Париже, я бы только и делала, что поднималась и спускалась по твоей лестнице… До свидания, друг: я возвращаюсь в наш домик»…
Когда он читал, с глазами полными слез, он припоминал ту же сцену на улице Аркад, горечь любовника, которого она не приняла, просунутое под дверь письмо и бессердечный хохот Фанни. Значит, она любила его сильнее, чем он Ирену! Или же мужчина, более чем женщина вовлеченный в жизненную и деловую борьбу, не может отдаваться любви так исключительно, как она, забывая и делаясь равнодушным ко всему, что не есть его страсть, всепоглощающая и единственная?
Эти муки, эта острая жалость, которой он терзался, утихали только вблизи Ирены. Лишь здесь тоска выпускала его из своих когтей и таяла под кротким голубым лучом её взгляда. У него оставалась лишь огромная усталость и искушение прильнуть головой к её плечу, и сидеть так, не говоря ни слова, не двигаясь, под её защитой.
– Что с вами? – спрашивала девушка. – Разве вы не счастливы?
О, да, конечно, он счастлив! Но почему счастье его соткано из такой печали и такого моря слез? Минутами ему хотелось рассказать ей все, как умному и доброму другу; несчастный безумец не думал о тех волнениях, которые возбуждают подобные признания в совершенно нетронутых душах, о неисцелимых ранах, которые они могут нанести доверию и любви. Ах, если бы он мог увезти ее, бежать с ней! Он чувствовал, что только тогда настал бы конец его мучениям; но старик Бушеро не хотел уступить ни одного часа из намеченного срока: «Я стар, болен… Я не увижу больше мою деточку; не лишайте меня этих последних дней…»
Под суровой внешностью ученого, это был добрейший человек. Безнадежно обреченный сердечной болезнью, за успехами которой он сам следил, он говорил о ней с изумительным хладнокровием, продолжал задыхаясь, читать лекции и выслушивал жалобы менее тяжко больных, чем он. У этого широкого ума была одна слабость, ярко свидетельствовавшая об его крестьянском происхождении: то было уважение к титулам, к происхождению. Воспоминание о башенках замка Кастеле и старинная фамилия Д'Арманди оказали свое влияние на легкость, с которой он согласился признать в Жане будущего мужа своей племянницы.
Свадьба состоится в Кастеле, что избавляло от необходимости приезда бедную мать, присылавшую еженедельно своей будущей невестке доброе письмо, полное нежностей, продиктованное Дивонне или одной из маленьких «святых жен». Какою радостью было говорить с Иреной о родных, чувствовать себя на Вандомской площади как бы в Кастеле, – словно все его симпатии и привязанности сомкнулись вокруг его дорогой невесты!
Он боялся только того, что чувствует себя слишком старым, слишком усталым рядом с ней; видел, что она по-детски радуется таким вещам, которые его уже более не занимают, с наслаждением думает о жизни вдвоем, с которой он был уже хорошо знаком. Так, его неприятно волновало составление списка предметов которые они должны были взять с собой на новое место его службы, мебель, материи; составляя его, он остановился, и перо дрогнуло в его руке: он испугался этого нового устройства очага, уже знакомого ему по квартире на улице Амстердам, и неизбежным переживанием сызнова стольких радостей, уже старых, уже изжитых за эти пять лет совместной жизни с Фанни, в каком-то маскараде брака и хозяйства…
Глава 14
– Да, друг мой, умер сегодня ночью на руках у Розы… Я только что отнес его к набивателю чучел.
Поттер, которого Жан встретил при выходе из магазина на улице Бак, ухватился за него, чувствуя потребность излить свое горе, которое отнюдь не шло к его бесстрастным и жестким чертам делового человека, и поведал ему о страданиях злополучного Бичито, сраженного парижской зимой и околевшего от холода, несмотря на обкладку ватой и на спиртовую горелку, уже два месяца горевшую под его маленькой конуркой – как согревают детей, родившихся раньше времени. Ничто не могло успокоить его дрожи, и в предыдущую ночь, когда они все стояли вокруг него, последний трепет пробежал по его телу от головы до хвоста, и он умер в мире, благодаря целым потокам святой воды, которые вылила мамаша Пилар на его пятнистую кожу, и которая, подняв глаза к небу, сказала: «да простит ему Бог!»
– Я смеюсь над этим; но тем не менее у меня тяжко на душе; особенно когда я думаю о страданиях несчастной Розы, которую я оставил в слезах… К счастью, Фанни с нею…
– Фанни?..
– Да, мы давно уже ее не видели… Она пришла сегодня утром как раз в разгар трагедии, и эта добрая душа осталась утешать подругу. – Он прибавил, не замечая впечатления, произведенного его словами: – Итак, у вас все кончено? Вы разошлись? Помните ли вы наш разговор на Ангиенском озере? По крайней мере, вы извлекаете пользу из советов, которые вам дают…
И он не без некоторой зависти выразил свое одобрение.
Госсэн, нахмурившись, испытывал истинное горе при мысли о том, что Фанни вернулась к Розарио; но он сердился на себя за эту слабость, не имея, после всего случившегося, ни прав на её жизнь, ни ответственности за неё.
Перед одним из домов на улице Бон, старинной улице древнего аристократического Парижа, на которую они только что вступили, Поттер остановился. Здесь он жил, или, по крайней мере, считалось, что живет, ибо в действительности время его проходило на улице Виллье или в Ангиене, и он лишь изредка являлся домой, чтобы жена его и ребенок не казались совсем покинутыми.
Жан шел с ним рядом, мысленно прощаясь с ним, но тот вдруг задержал его руку в своих жестких и сильных руках пианиста и без малейшего затруднения, как человек, которого уже не смущает его порок, сказал:
– Окажите мне, пожалуйста, услугу; поднимитесь со мной в квартиру. Я должен обедать у жены, но не могу оставить бедную Розу одну в её отчаянии… Вы послужите предлогом для моего ухода и избавите меня от неприятного объяснения.
Кабинет музыканта, в великолепной и холодной буржуазной квартире бельэтажа, носил отпечаток комнаты, в которой никогда не работают. Все было слишком чисто, без малейшего беспорядка, и не носило следов той лихорадки деятельности, которая распространяется на предметы и мебель. Ни одной книги, ни одного листочка на столе, на котором красовалась огромная бронзовая чернильница, сухая и блестящая, словно на выставке; ни одной партитуры на старом рояле, в форме шпинета, вдохновлявшем его первые произведения. Бюст из белого мрамора, бюст женщины с изящными чертами, с выражением нежности, бледный в полусвете сумерек, придавал еще более холодный вид задрапированному камину без огня, и, казалось, грустно глядел на стены, увешанные золочеными венками, украшенными лентами, медалями, памятными жетонами всем этим хламом славы и тщеславия, великодушно оставленным жене взамен себя и который она поддерживала, словно украшения на могиле своего счастья.
Едва они вошли, как дверь кабинета отворилась и появилась госпожа Поттер.
– Это ты Гюстав?
Она думала, что муж один, и перед незнакомым лицом остановилась в явной тревоге. Изящная, красивая, изысканно и со вкусом одетая, она казалась красивее своего изображения, кроткое выражение которого заменилось у неё теперь нервною и мужественною решимостью. Мнения относительно характера этой женщины в свете разделялись. Одни порицали ее за то, что она переносит явное презрение мужа, так как связь его на стороне была всем известна; другие, наоборот, восхищались её молчаливою покорностью, и общественное мнение считало ее за спокойную особу, любящую больше всего свой покой и удовлетворяющуюся в своем вдовстве ласками красивого ребенка и честью носить имя великого человека.
Но, пока композитор представлял своего товарища и придумывал какую-то ложь, чтобы избежать семейного обеда, по еле заметному трепету молодого женского лица, по грустному и пристальному взгляду, который ничего не видел, словно всецело поглощенный страданием, Жан мог угадать, что под светской внешностью заживо похоронена огромная скорбь. Она, казалось, приняла историю, которой, конечно, не верила, и ограничилась тем что лишь сказала кротко:
– Раймонд будет плакать; я обещала ему, что мы пообедаем у его постели.
– Как его здоровье? – спросил Поттер, рассеянный, нетерпеливый.
– Лучше; но он все еще кашляет… Тебе не хочется взглянуть на него?
Другие электронные книги автора Альфонс Доде
Малыш




 0
0